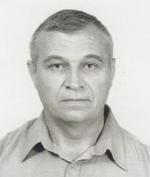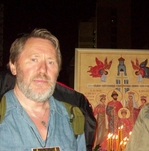Литография Фридриха Листа работы Йозефа Крихбера, 1845 год (через Wikimedia Commons)
Free Trade Has Never Been a Right-Wing Principle
В свободной торговле нет ничего консервативного или необходимого для капитализма. В XIX веке западные страны, пытавшиеся модернизировать свою экономику, ввели пошлины для защиты зарождающихся отраслей промышленности. Исключением из этого правила была Великобритания, которая в то время была экономическим лидером. Даже Великобритания ввела пошлины перед Первой мировой войной, когда начала отставать от других стран в промышленном развитии. Конечно, даже когда Англия ещё была страной свободной торговли, её лидеры действовали не во имя чистого капиталистического принципа, а в интересах своего народа.
Те британцы XIX века, которые превратили свободную торговлю в догму, как правило, не принадлежали к политическим правым. Чаще всего это были такие люди, как Джон Брайт и Ричард Кобден, которых относили к политическим левым. Оба этих британских сторонника свободной торговли середины XIX века считали себя радикалами. В Соединённых Штатах прогрессивный сенатор-демократ 1960-х годов Пол Дуглас, а в последнее время и социалист Берни Сандерс были убеждёнными сторонниками того, что они понимали как свободную торговлю, — позиции, которую ни один из них не считал противоречащей экономике, в значительной степени контролируемой государством.
Английские тори в XIX веке, напротив, выступали за введение пошлин на зерно, чтобы защитить своё сельскохозяйственное производство, и такую же позицию занимали землевладельцы на континенте. Националистическое крыло Либеральной партии Англии начало выступать за введение пошлин в конце XIX века, когда её политики пришли к выводу, что свободная торговля больше не служит интересам английского народа.
Объединение Германии в XIX веке началось с таможенного союза, который было организовано прусским правительством в 1819 году и который постепенно распространился на другие германские государства в течение 30 лет. Главным сторонником этой программы был экономист Фридрих Лист (1789–1846), который провёл несколько лет в Пенсильвании, кстати, недалеко от того места, где живу я. Во время своего пребывания здесь Лист восхищался тем, как американское правительство защищало развивающуюся промышленность и торговлю с помощью национальных тарифов. Неудивительно, что Лист предпочитал использовать то же устройство в интересах своего народа.
Хотя его обычно называют немецким либералом, программа Листа по созданию современной индустриальной экономики рекомендовала использовать тарифы как средство обеспечения как материального прогресса, так и укрепления национальных связей. Лист считал, что современные страны, такие как Америка XIX века, процветали при тарифном режиме.
Лист, несомненно, был прав в отношении ситуации в Америке. В США тарифы были неотъемлемой частью нашей национальной экономической истории, начиная с президентства Джорджа Вашингтона. Министр финансов при Вашингтоне Александр Гамильтон сумел ввести три тарифа в первые три года своего правления, и все они были одобрены новым американским Конгрессом. В «Докладе о производстве» Гамильтона за 1791 год содержался призыв к защите американской промышленности и был смело изложен американский подход к капиталистическому развитию.
Не только федералисты Вашингтон, Гамильтон и Адамс, но и более поздние виги Генри Клея, а затем и республиканцы с момента основания партии в 1850-х годах были ярыми сторонниками тарифов. Авраам Линкольн и все его преемники-республиканцы были сторонниками высоких тарифов и стремились повысить их, чтобы защитить растущую промышленную базу своей партии.
Примечательно, что в XIX веке демократы, которых вряд ли можно было назвать сторонниками свободной торговли, также придерживались этой практики. Тарифы были основным источником дохода федерального правительства и оставались таковым до принятия 16-й поправки и введения подоходного налога в 1913 году. Фактически, доходы от тарифов составляли от 50 до 90 процентов от доходов, полученных в результате введения подоходного налога.
Президент Трамп похвалил Уильяма Мак-Кинли, который, как и другие республиканцы его эпохи, выступал за высокие тарифы. Однако любимому президенту Трампа пришлось бы соперничать со многими другими американскими лидерами за звание самого ярого сторонника тарифов. Американская экономика свободного предпринимательства процветала в эпоху неприкрытого протекционизма, и эти два явления считались вполне совместимыми, за исключением некоторых интеллектуалов. В конце XIX века, в эпоху высоких американских тарифов, США превзошли Англию и Германию в экономическом плане.
Американская экономика свободного предпринимательства процветала в эпоху неприкрытого протекционизма, и эти два явления, за исключением некоторых интеллектуалов, считались вполне совместимыми. В конце 19 века, в эпоху высоких американских тарифов, США превзошли Англию и Германию как экономические державы.
The Washington Post предупреждает нас, что тарифы Трампа возвращают нашу экономику к Закону Смута-Хоули о тарифах 1930 года, который, предположительно, спровоцировал Великую депрессию. Трампа нелепо обвиняют в том, что он повторяет грех республиканцев межвоенного периода, вводя тарифы для наших торговых партнёров. Предположительно, эта катастрофическая ошибка привела к тарифной войне, которая вызвала всемирную депрессию. Это повествование, которое можно назвать городской легендой, было повторено Беном Стейном в его эпизодической роли учителя экономики в фильме 1986 года «Выходной день Ферриса Бьюллера».
На самом деле Великая депрессия началась задолго до принятия закона Смута-Хоули; она началась с обвала фондового рынка в 1929 году и банковского кризиса в США и Европе. Более того, в бурные и процветающие 1920-е годы Конгресс принял ещё два тарифных закона, ни один из которых не привёл к экономическому коллапсу. Одно дело — утверждать, что закон Смута-Хоули никак не повлиял на решение экономических проблем 1930-х годов. Другое дело — утверждать, что это привело к Великой депрессии или сделало её ещё хуже.
Хотя я бы никогда не стал утверждать, что тарифы всегда и во всех ситуациях экономически выгодны, трудно представить, что они не связаны с развитием капиталистических стран. Обычно эти два понятия идут рука об руку, за исключением абстрактных либертарианских теорий о том, каким должен быть капитализм в альтернативной вселенной. Также вопреки священным доктринам The Wall Street Journal в тарифах нет ничего «неконсервативного», хотя они могут не вписываться в планы неоконсервативных плутократов, которые выступают за глобалистские соглашения о «свободной торговле», заключённые правительственными лидерами.
Покойный Милтон Фридман, как известно, был абсолютным сторонником свободной торговли и выступал против тарифов, даже когда наши торговые партнёры вводили высокие тарифы или демпинговали на американском рынке. Хотя можно приписать Фридману последовательность в отстаивании его принципа и, возможно, умение убедительно показать, как этот принцип принесёт нам пользу в гипотетической долгосрочной перспективе, в менее гипотетическом мире всё выглядит совсем иначе. Здесь и сейчас можно легко продемонстрировать ценность разумного использования тарифов как давней американской традиции.
Позвольте мне в заключение привести мнение по-настоящему принципиального и проницательного защитника свободного рынка Мюррея Ротбарда, который убедительно доказал, что «соглашения о свободной торговле», такие как НАФТА, не имеют ничего общего со свободной торговлей в правильном понимании этого слова:
Во-первых, для настоящей свободной торговли не нужен договор (или его искажённый аналог — «торговое соглашение»; NAFTA называют торговым соглашением, чтобы обойти конституционное требование об одобрении двумя третями голосов в Сенате). Если истеблишмент действительно хочет свободной торговли, всё, что ему нужно сделать, — это отменить наши многочисленные тарифы, импортные квоты, законы о борьбе с «демпингом» и другие введённые Америкой ограничения на торговлю. Никакая внешняя политика или манёвры на международной арене не нужны.
Если на горизонте политики когда-нибудь замаячит настоящая свободная торговля, это будет видно невооружённым глазом. Правительственно-медийно-крупнокорпоративный комплекс будет сопротивляться изо всех сил. Мы увидим череду статей, «предупреждающих» о скором возвращении XIX века. Эксперты в СМИ и учёные поднимут все старые обвинения в адрес свободного рынка, что он эксплуататорский и анархический без «координации» со стороны правительства. Истеблишмент отреагировал бы на введение настоящей свободной торговли с таким же энтузиазмом, как и на отмену подоходного налога.
Ротбард убедительно и эффективно доказывал в своём эссе «Миф о НАФТА», что соглашения о «свободной торговле», заключённые при президентах Клинтоне и Буше, были всего лишь правительственными сделками, которые были выгодны определённым политическим силам. Эти соглашения снижали или отменяли пошлины, а также шли на уступки тем, кто вёл переговоры, например, внедряли программы по борьбе с дискриминацией на мексиканских фабриках и вводили подробные экологические нормы для подписавших соглашение сторон.
Основным последствием НАФТА, по-видимому, стал перенос американских фабрик в Мексику, чтобы воспользоваться более дешёвой рабочей силой. Этот шаг оказал разрушительное воздействие на американских рабочих, которым для поддержания достойного уровня жизни требовалась более высокая зарплата, чем у их мексиканских коллег. В любом случае, как мудро напомнил нам Ротбард, это была не свободная торговля.