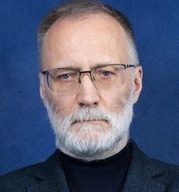ruvera.ru.jpg)
Источник: Русский Вестник
Совещание проходило в великолепном актовом зале Свято-Тихоновского гуманитарного университета (пожалуй, это самое великолепное помещение подобного рода). Первые два доклада были несколько неожиданны – А.В. Щипкова, ректора Российского православного университета св. Иоанна Богослова, «Сколько верующих в России?» и прот. Николая Емельянова, проректора по стратегическому развитию Свято-Тихоновского университета, «Почему не растет число воцерковленных людей?»
Первый докладчик поведал, что нерелигиозных людей в России приблизительно 15 %. В советское время утверждали противоположное: верующих – 15 %, неверующих – 85 %. По мнению выступавшего, главный критерий для обозначения религиозной принадлежности человека – это то, как он сам себя позиционирует. Конечно, встает вопрос о качестве тех, кто называет себя верующими православными людьми – среди таких людей немало тех религиозных, которых докладчик назвал «непросвещенными». Сам выступавший уделил немало времени проведению полевых исследований с широким охватом этой темы. Выступление А.В. Щипкова вызвало оживленную дискуссию. Прот. Максим Первозванский, так оппонировал: «Если человек не верит в Воплощение и воскресение мертвых – его нельзя назвать православным». Один батюшка, по-видимому, армянин по национальности, так возражал: «Армяне (да и прочие нехалкидониты. – Иг.К.) тоже называют себя православными, но остаются монофизитами, пусть и умеренными». Пафос А.В. Щипкова был в том, что разве лучше, если цифра будет меньшей? И настаивал, что Россия по всем международным критериям является моноконфессиональной православной страной.
Второй докладчик свое выступление сопровождал несколькими схемами. Кое-какие цифры я записал: в Москве действует около 1200 церквей, в которых несут служение 1500 священников. Митрополит Григорий прокомментировал эти цифры, сказав, что священников недостаточно. Так, в Польше один священник приходится на тысячу верующих, а в России – на шесть тысяч, это меньше, чем врачей и полицейских. Только 7 % прихожан регулярно обращаются к священнику, 15 % – изредка. Количество духовенства сравнительно с перестроечным периодом в России увеличилось с 6000 до 36 000. Выступавший посетовал, что ни один человек из круга его близких прихожан не сказал, что желает, чтобы их сын стал священником. Раньше, по словам о. Николая, крестилось по 50–60 человек, а в настоящее время всего лишь 5–6. Кстати, у батюшки – восемь детей. По-настоящему воцерковленных верующих всего лишь около 6 %.
На мой взгляд, главный критерий воцерковленности человека – это как минимум ежегодное исповедование и причастие.
Некоторые задававшие вопросы после выступлений докладчиков развертывали их в мини-выступления. О. Андрей (Ткачев) констатировал, что, благодаря многолетнему накоплению количественных параметров расширения церковной деятельности, мы стоим на пороге качественных изменений в обществе по проблемам абортов, разводов и пр. Запомнилось цитирование им учителя церкви III века Тертуллиана, который в своей апологии христианства писал: «Если нас убрать, то города опустеют». И. о. настоятеля церкви Сщмч. Климента Римского о. Алексий (Марченко) обратился к проблеме миграции, которая вызывает тревогу.
Пожалуй, самым интересным был доклад известного миссионера, клирика церкви Св. Иоанна Предтечи в Сокольниках о. Олега (Стеняева). Доклад был посвящен работе с молодежью. По мнению выступавшего, ни детство, ни старость, а именно молодость является самым сложным периодом в жизни человека. В ее среде преобладает растабуированность в поведении. Очень часто, достигая примерно 14 лет, дети уходят из Церкви, а в 15 лет, встретив священника на улице, переходят на другую ее сторону. Однако многие в 50–60, под 70 лет возвращаются. Важно, подчеркнул докладчик, слышать тех, кто уходил и вернулся. Молодежи, по словам о. Олега, нужно движение – активное участие в Богослужении или Крестном ходе, в мыслительной деятельности. Запомнилось, что о. Олег был участником Крестных ходов из Витебска в Смоленск.
В продолжении дневного пути было 4–5 остановок, на каждой из которых он начинал беседу на определенную духовную тему и на последующих остановках продолжал ее раскрывать. Как-то он выступал в Беларуси в колонии для несовершеннолетних. Важно, отмечал он, чтобы к молодежной аудитории подбирался ключик (отмычка). В данном случае он, учитывая, что в колонии строго запрещено пользоваться сотовыми телефонами, отметил, что в их обстоятельствах самым лучшим телефоном было бы молитвенное обращение к Богу, что можно сделать в любое время. Раскрывая тему Страшного суда, батюшка удачно обыграл евангельскую терминологию про «козлов и овец», применительно к лагерной действительности. Запомнилась приведенная им цитата из блаженного Августина: «Бог никогда не допустил бы зла, не имея в виду обращения его в добро», и такой приведенный им пример: в 60-е годы прошлого века в Римско-Католической церкви было движение священников-рабочих. Эти священники стремились спуститься вниз с тем, чтобы поднять выше массу рабочих, а получилось так, что они сами остались внизу. Среди них были сторонники теологии освобождения. Некоторые из них даже снимали сан и становились партизанами.
О. Олег привел примеры удачного миссионерствования среди сектантов. Так, в Православие вернулась группа студентов-адвентистов. Был случай, когда в Православную Церковь перешла целая община с пастором, который стал рассматриваться как кандидат на рукоположение. До революции миссионер не мог быть настоятелем храма и заниматься духовничеством. Обращенным нельзя оставаться вокруг миссионера, чтобы не повторить ошибок о. Георгия (Кочеткова), когда все превращается в театр одного актера.
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)












.jpg)