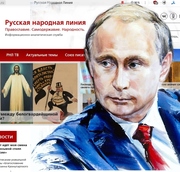Анна Долгарева. Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники / Серия "Русская Реконкиста". М.: АСТ, 2024. - 352 с.
«Девятый штурм Светличного стал успешным».
Фраза кажется вам слишком пресной и хочется более совершенной художественности? Да? Да и слишком много имен, едва заметных за ними судеб. Судьбы поступают к читателю фрагментарно, гибель всегда эпизодического персонажа может вписаться в одно предложение. Даже страшный уход близких людей не заставляет автора перейти к подробностям, создать захватывающую картину. Сразу текст дает слово новым очевидцам тяжелых событий…
«Я здесь не женщина, я фотоаппарат» - одна из самых простых книг о смерти, вот только смерть в ней не простая, уменьшенная в масштабе старческими болезнями или больничным стандартом, а военная – даже в том случае, когда она забирает людей, никогда не державших в руках автомат. Этой смерти так много, и поселилась она на территории Донбасса так прочно, что ее десятилетний стаж и несомненное расширение географических границ с перспективой перекинуться на внешне благополучные районы ставит вопрос о готовности нашего сознания все-таки признать тот факт, что постмодернизм (с его фиктивным обособлением от живых бед) и новый реализм (с отражающейся в пыльных зеркалах вялой обыденностью) кончились, завершились вместе с эпохой восприятия литературы как релаксации – и автора, и читателя.
С этим концом согласны далеко не все, и дело не только в последовательных противниках спецоперации. Даже государство, внимательно контролируя процентное соотношение войны и мира в информационных потоках, отстаивает в целом благополучное продолжение эпохи шопинга и туризма. Опытные филологи часто морщатся при встрече с СВО-литературой: то им трудно переносить присутствие слишком актуальной публицистики, то маловато оригинальной поэтики в создании зависимых от реальности сюжетов; иногда собратьев по словесности беспокоит мысль о распоясавшейся пропаганде и одолевает подозрение о лицемерии и корысти авторов.
То, что писатели и поэты часто пребывают там, где убивают, входят в современную смерть с готовностью исчезнуть вместе с недописанными творениями – аргументом не считается. Профессиональная гордыня кабинетных «мастеров словесности», которые слова не могут публично произнести о новейшей истории, - не радует. Интеллигентский чёрт может скрывать свой хвост за ширмой высокой научности, может скучать в ожидании «подлинно великих творений», но он всегда сохраняет свою чертовскую сущность – уверенность, в том, что народа давно нет, что народ давно мертв, что государство – колосс полуразрушенный, а высокие порывы всегда имеют рационально познаваемую инстинктивную платформу. Вроде высоколобые ребята и желают России победы, но почему-то брезгливо морщатся при виде тех, кто победу приближает. Словно башня из слоновой кости начинает неприлично нагревать своего обитателя при появлении нового стиха или прозаического повествования о тех, кто в башне не бывал. А так как погиб, то уже никогда и не будет.
О Долгаревой часто слышу: многовато стихов пишет; наверное, в тренде пишет; неоправданно часто везде говорят о ней, да ещё и зачем-то прозу написала; а эту прозу плохая премия «Слово» ещё взяла и наградила…
Наверное, следующие слова лучше вынести в конец, но произнесу сейчас. Они как раз на языке филологов. Дневники Долгаревой - внутренняя форма военной хроники, новостей с фронтов, бесконечных блогерских сообщений о происходящем в Авдеевке или под Купянском. Эта внутренняя форма уводит от серийности и безликости донбасских трагедий, дает возможность увидеть лицо, встретить человека, почувствовать наличие имени у постоянно растущих потерь. Формальный «эпос», который миллионы наших сограждан получают в разных телеграмах, оживает в «лирике» и «драме» многочисленных бесед, интервью под ракетами и дронами.
Так это журналистика, а не литература? Литература, которую требуют знатоки, будет внутренней формой того, что делает Долгарева вместе со свидетелями и участниками событий. Да, будет! Однако есть и сейчас – эта литература, пока не слишком настаивающая на своем особом положении, на праве быть другой, не похожей на классические романы или на другие формы линейного письма с четко прописанной композицией, с завязками и развязками.
А работает ли такая «классическая» литература? А не присвоила её себе с успехом массовая культура, всегда мечтающая о деньгах за экранизацию? Неужели по-настоящему состояться – это создать повествование, из которого сразу выпадает готовый сценарий?
Впрочем, Анна Долгарева тоже заботится о жаждущих традиционного письма. Вот начало: оказывается, бои были уже девять лет назад – под Луганском погибает близкий человек Анны Алексей Журавлев – понятная депрессия героя, стремящегося совпасть с автором – сражающийся Донбасс как способ лечения депрессии, а также возвращения депрессии и движения к очередному исцелению. Вот финал: «Война длится уже десять лет. Ушли тысячи бойцов. Я написала о тех, кого знала, чтобы их помнили немного дольше».
С этой смертью, которая не была столь навязчива в нулевые и даже в девяностые, надо что-то делать. Я бы сказал, что Долгарева не знает, что с ней делать. Но она хочет узнать. В этом смысле «Фотоаппарат» просто устроен: есть личная беда, она расширяется за счёт беды общей. При этом фатальном разрастании появляется даже не мысль, а рефлекс: записывать речи о смерти, речи очевидцев смерти, слова тех, кто умрет несколько позже. Все катастрофы фиксируются, и Анна снова не знает, что со всем этим делать. Но, думаю, делает она правильно: это и есть минимум литературы – как-то искать оружие для противостояния смерти. Проиграть сейчас в этом поиске не значит проиграть раз и навсегда. Уйти от памяти и заняться какой-то дрянью – вот это проиграть по-настоящему.
Мало сказано о Мурзе? Мало о своем муже Скрипаче? Слишком быстро об осетине Алане? Долгарева не может, не умеет детальнее? Мне кажется, она не хочет одну жизнь и одну смерть делать ярче другой. Нет самой значимой гибели, нет теперь ни Ахиллеса, ни Гектора. «Я разговаривала с медиком Антохой. Он погибнет позже, в конце года». Мелькнуло слово о Захарченко, исчезло слово о Захарченко. Фрагментов реальности так много, что ключевой герой сюжета не может оформиться.
«Я всегда теряюсь перед лицом чужой беды», - пишет журналист Анна. Она собирает и вывозит котов, иногда удается помочь собакам. В подвале Мариуполя обнаруживаются попугаи. Все-таки получается помогать людям: лекарства, продукты, на машине – в безопасное место. Одна вывезенная с линии огня семья обнаружилась потом в Вильнюсе, нашлась вместе с речью против России; хорошо, хоть об Анне ничего дурного сказано не было. «Я зачем-то нужна на этом свете». Нет четкой вертикали, но она как-то виднеется в ремарках о неизбежной победе. Победа далеко. Жуткая повседневность войны смещает рассказ в сторону житейской повседневности. Порою кажется, что Анна ищет какое-то ключевое слово, самое важное чувство, экстремальнейшее из решений. Но ни первое, ни второе, ни третье до конца не воплощаются. «Много историй о том, как повезло, и много историй о том, как не повезло».
Смерть детей. Смерть стариков. Смерть молодых мужчин. «Тело уже собаки объели». «Мишеньку моего убили». «Стихийное кладбище в каждом дворе». «Целенаправленно метили в людей». «Это больше, чем ад и апокалипсис». Как будто близок крик. Вот скоро небо будет разрезано жестом в адрес жизни, каждый день приносящей смерть. Но крика нет. Иногда появляются фразы ожидаемые, что-то знакомое констатирующие: «Артиллеристы живут дольше пехоты»; «СВО предотвратила наступление Украины на Донбасс». Но ведь совершенно нельзя вынести саму мысль о наших людях, брошенных при отступлении из Изюма и Купянска?! Нет, вынести можно.
Иов здесь нужен! Сколько боли! Иов, возопи к Господу! Разгони толпу мнимых друзей – наглых фарисеев, пытающихся заткнуть рот русским страдальцам! Жаль. Пока здесь лишь Иов, не дошедший до линии словесного огня. Пока без библейского бойца.
Так устроен фотоаппарат: если не попал Иов в кадр, не будет вам страдальца, предваряющего Христа. И всё же Анна Долгарева создала важную книгу. Этим должен заниматься человек: собирать трагически оборвавшиеся жизни для будущей Пасхи – для Русской Победы и Пасхи вообще.