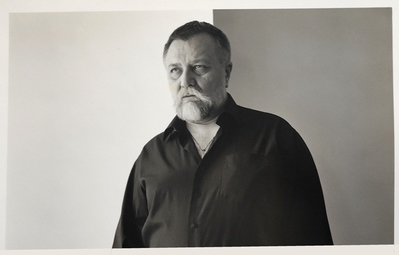
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Вы узнали стихотворение Николая Рубцова. Да, действительно, когда мы слышим или читаем словосочетание «малая родина», то в глазах стереотипно встаёт умильная картинка розовый восход с деревенским домиком в резных ставенках меж берёзок и яблонек, стреноженные кони, стога и речка в тумане. Картинка настолько стереотипна, что горжусь удачным ответом на вопрос доцента литинститута, замечательного поэта-урбаниста Сергея Сергеевича Арутюнова: «Неужели писателями-почвенниками могут считаться только те, что из деревни? А если вырос в городе? Я уже никак не смогу быть почвенником?» Мне захотелось только-то его утешить, мол, конечно, я всегда узнАю литератора выросшего на природе по умению выписать пейзаж, ибо горожане даже натюрморт-то и интерьер вымучивают. Но! Писатели-горожане более тонки, более глубоки, чем деревенские, в психологии. Они общество чувствуют как природу… «А! Вот оно! – просиял Сергей Сергеевич, – моё почвенничество не в асфальте, а в людях!»
Напомню: некогда сформулированное Аполлоном Григорьевым почвенничество, в противовес непримиримости антагонизма западничества и славянофильства, задекларировало особую примиренческую миссию русского народа как спасителя всего человечества – все читали «пушкинскую речь» Достоевского? – спасение всего мира на христианско-православной основе и на великорусской национальной почве. Через столетие почвенничество – уже как спасение самого русского народа от остального человечества, возродилось в «деревенщиках» – писателях, не внешне-загранично, а внутренне-глубинно диссидентствующих в отношении коммунистической идеологии, как идеологии глобализма.
Если почвенничество – литературно-творческое проявление мировоззрения «малой родины», равно как деревенской, так и городской, то вопрос аудитории (домашнее задание): убеждение и память, как они соотносятся? Прямо или как-то опосредствованно? Память ли первична по отношению убеждения, или наоборот – убеждения форматируют память?
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Смерть, как и рождение, всегда индивидуальна. Даже в массовой катастрофе каждый человек умирает один. Поэт определил свою связь с малой родиной как «смертную», а ведь поэзия не позволяет использование случайных слов. «Смертный» – тот, который подводит к концу, к смерти, более того – который вызывает смерть… «Смертный бой», «смертная тоска»… Но от святых отцов знаем, что «смертная память» – это залог вечной жизни.
Концепт «малая родина» давно и постоянно употребляется в художественной литературе, в краеведческой, в мемуаристике и вообще в культурологии. Понятно, что он, концепт, привлекает к себе так же внимание и филологов, и философов. И социологов. Ибо в понятии «малая родина» совмещается целый комплекс факторов формирования личности и введения, вращивания её в социум. Дотошно изучены и описаны такие культуро- составляющие как «семья» и «отчий дом», наследная «хозяйственная деятельность» (крестьянская, пастушья, охото- или рыболовецкая, ремесленная, военная), и «вера отцов» – традиционный культ с реалиями мистического опыта. А ещё разобраны региональные особенности климата и ландшафта, в которых проходило детство и которые на него, детство, повлияли. Короче, проработано всё называемое матрицами мышления, чувствования и поведения, то, что позволит в дальнейшем не только понимать мотивации человека, но и программировать его реакции и поведение. Программировать через подкорково вживлённые социально-культурные образы-символы «семья», «отчий дом», «вера отцов», которые работают универсально в любом климате и на любом ландшафте. Именно эта система программирования, как я понимаю, и называется «основой формирования междисциплинарного проекта воспитания молодежи».
Или не всё так утилитарно?
«Малая родина» – временной период и, одномоментно, атмосфера первичного становления личности, когда и где вековая коллективная, родовая память доминирует над коротенькой ещё памятью взрастающего человечка. Это время, когда будущая личность активно нарабатывает умение вписывать свои первые, часто хаотичные жизненные опыты в слаженную систему знаков и символов опыта родителей. Личная память входит в память общественную, а встречно общественные убеждения становятся личными.
Прежде иного человечек учится оценивать всё, с чем сталкивается лично, по усваиваемому наследному семейно-родовому принципу «добро-или-зло». В периоде и атмосфере «малой родины» он учится и взаимопомощи и тому, что она, взаимопомощь, есть «добро»; учится ответственности за порученную грядку или собаку – и это тоже «добро»; учится избегать опасности пожара или предательства, которые явно «зло». А ещё в «малой родине» обучают послушанию взрослым – осознание иерархичности общества есть важнейший акт социализации. Опять же, послушание – конечно же «добро». И, казалось бы, эта осваиваемая параллельно с опытом оценочность «малой родины» должна просто и прямо встраивать человечка в систему идентичности гражданина России.
Казалось бы…
Однако, проблема: то, что «малая родина» воспитывает, взращивает, лелеет в человечке для будущей его социализации в большой жизни большого общества большой Родины, это же самое может стать культурно-идейным базисом для сепаратизма и национализма. Чуть только усилить окраску, чуток сгустить акцент – и происходит возведение в культ, обожествление-фетишизация семьи, рода, дома, бытовых традиций – идолы сепаратизма и национализма, самых ярых и вечных врагов России, как государства-цивилизации над-национальной, сверх-этничной. Да ещё и самого большой на Земле.
Фетишизация рода и бытовых традиций – обычный признак ограниченного кругозора, так как национализм и сепаратизм есть проявления мировоззренческой недоразвитости. Этакий убежденческий инфантилизм личинки или гусеницы, которая никак не может превратиться в стрекозу или бабочку.
А что мешает их превращению? Стоп, прежде рассмотрим – а что ведёт к преображению?
Дюркгейм, Тайлор, Фрэзер, Крол, Матье и Монте, а в нашем Отечестве Емельянов, Тендрякова, Токарев, Фирсова и Медникова – об инициации в Африке и Южной Америке, Элладе и Западной Сибири, на Кольском полуострове и в Забайкалье известно всё. Известно и то, что для превращения-преображения юного жителя «малой родины» во взрослого гражданина «Родины великой» необходимо некое революционно-шоковое психическое действо.
Это действо может быть искусственно организованным и достаточно кратким, а может «естественно» растянуться по времени – как мы увидим, даже на десятки лет. По любому, для начала необходим очень болезненный отказ от «семьи» и «отчего дома», разрыв пуповины с наследной крестьянской, пастушьей или ремесленной «хозяйственной деятельностью», даже отречение от «веры отцов» – взрослеющему подростку в инициации предстоит пойти через, столь знакомые нам всем, переживания вселенского бунтарства при переполнении гормонами. Бунта-протеста против всего устоявшегося в каноны мыслей и поведения, «невыносимо» предсказуемого, «удушающе» тесного невариативностью будущего. И в этом своём отрыве и бунте подросток, как не прячься он в субкультурах, всегда смертельно одинок, ибо по ходу инициации ему предстоит пережить личностную смерть. Нет, не личностную, а пред-личностную.
Итак, только когда смерть переживётся, и омертвелая оболочка корявой, прыщавой личинки-подростка лопнет и отвалится, только тогда на свет явится крылатое чудо взрослой личности. Или не явится…
Первым признаком случившегося перерождения послужит перемена нравственной парадигмы, отказ от той морали «малой родины», в которой «свои» – это всегда «добро», а «чужие – скорее всего «зло» (ксенофобия – непременный атрибут национализма). Ведь у перерождённого сознания, повзрослевшего сознания гражданина России «добро» уже не привязано к крови и почве, теперь оно метафизически самобытно, божественно самородно и самоценно. В морали Родины великой «добро» универсально, ибо оно надмирно.
Мы запомнили: нацистская мораль – «добро» это всегда только «свои», а «зло» все «чужие». Эта же этика-ифика утверждается и среди уголовных общаков: нельзя воровать у своих, но обязательно у чужих. Кстати, та же мораль внушалась и внушается через глобальный проект «Гарри Потер», где утверждается: свои колдуны обязательно хорошие, а такие же колдуны, но чужие – несомненно плохие. В этом принципиальное противостояние «Гарри Потера» и народных сказок, в которых добро всегда метафизично. А зло очень даже может исходить и от родных завистников братьев, и от отца, подчинённого мачехой.
В Евангелие от Матфея читаем, глава 5, стихи 43-48:
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
И ещё много об инициации объясняет притча о добром самаритянине. Знаете? В Евангелии от Луки рассказывается о милосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду человеку случайно оказавшимся рядом инородцем и иноверцем. Притом, что «свои» правоверные иудеи прошмыгнули мимо ограбленного и умирающего. Притча утверждает: «ближний» вовсе не тот, с кем ты в родственных отношениях или един в вере, а тот, кто наднационально и внерелигиозно милосерден. Для кого «добро» солнечно надмирно. Можно подумать: а ведь милостивый самаритянин – вполне прообраз гражданина империи, прообраз гражданина России.
Евангелие раскрывает тайну обязательно-обеспеченного прохождения через смерть, тайну несомненно-поручительного возрождения – это любовь. Любовь надмирная, всепокрывающая, действительно, как солнце, равно восходящая над злыми и добрыми. Любовь, которая превыше всякой общественной морали, всяких договорных норм общежития, кодексов поведения:
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного».
Любовь Отца Небесного. И если кто не понимает, не видит, не слышит – значит, он не покинул оболочку личинки.
Следующий вопрос аудитории, идентифицирующей себя гражданами литературно-центрического государства-цивилизации Россия: а каков главный архетипический литературный сюжет «на весь крещёный мир»? Да, сегодня из-за секуляризации и утери Западом христианского мировоззрения, это архисюжет сузил географию, сохраняя своё доминирование лишь в ареале Православия – это Евангельский сюжет о блудном сыне. Сюжет отречения, раскаянья и – покаяния. Бунт против отцовского образа жизни, «вольные» брожения-блуждания по чужбинам, смертная тоска одиночества и стыдливое возвращение – ну, хотя бы попытка вернуться! – в дом, где тебя не смотря ни на что любят и неизменно ждут, даже ни в чём не обвиняя – эту историю мы находим-прочитываем и в «Слове о полку Игореве», и в «Капитанской дочке», и в «Войне и мире», и в «Судьбе человека». О том же повествуют «Хождение по мукам» и «Два капитана», «Берег» Бондарева. Кстати, и у Толкина Странник возвращается в родной Гондор Королём.
А если не возвращаться?.. Тема бегства из дома, тема подросткового бунта против удушливой скуки заботливого окружения, родителей, не понимающих, что уже настала пора для рисков и подвигов во имя … этих самых подвигов, эксплуатируется в фикшен-литературе и других поп-искусствах непрерывно. «Переступи порог и беги, беги – всё равно куда, лишь бы отсюда»! На этом порыве в любые, как бы безгранично вариативные блуждания, на романтизации странничества как свободы ради свободы, построено творчество большинства рок-групп всех направлений – от хеви-метал до панков, в том числе творчество бессмертного Цоя. Бежать, идти, брести – лишь бы не останавливаясь, не оглядываясь – скитаться как Каин, спешить как Вечный жид…
К сожалению, понимаешь поздно, что эти эксплуататоры лгали и лгут о цветных туманах для крылатой свободы, и будут лгать неопытным умам-умишкам как из материальных интересов, так и ради своих сатанинских обязательств. Задача: если не сломать судьбу, то хотя бы испачкать, лишить чести, опозорить – инфернальный план до зевоты однообразен, соблазн до пошлости примитивен. Однако срабатывает на новенького, на неопытного.
Бог всё видит. В Евангелии от Луки (17:1-2): «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».
Цель и завершение инициации – катарсис. Катарсис недостижим, невозможен без покаяния («по-каяние» – преодоление в себе каинства, «рас-каянье» – разрыв с каинством, незавершённость, возможная и без катарсиса, в том числе из страха наказания). Покаяние в совершённом предательстве по отношению к семье и родному дому, к наследной крестьянской или ремесленной деятельности, тем более, в предательстве веры отцов – тот самый тонкий щелчок включения в работу матриц мыслей и чувств, входящих в концепт «малая родина» – матриц «родства», «ответственности», «почитания старших», которые не действовали до достижения личностью внутреннего очищения. Включения уже на принципиально новом уровне изменённого катарсисом сознания.
«Родина большая» и «малая родина» меж собой, более иного, соединяются чувственно. Они могут сойтись, состыковаться в человеке только триадой Истина-Красота-Добро, где Красота и Добро – знания сердца, а не ума. Хотя и знание ума Истина прекрасна и нравственна.
Покаяние – разворот настрадавшейся бессмысленным своеволием души к канонам праведности. Ну, а не пожелавший возвращаться – это не прошедший, не завершивший инициацию, не очищенный катарсисом человечек, что вроде как давно покинул детство, но застрял, заблудился в вечной «молодости».
Эх, когда, во сколько лет человек осознаёт, что определение «молодой» – определение постыдное? Что, прежде иного, оно означает социальную безответственность, не глупость и не неопытность, а именно безответственность.
Понятие молодёжь появилось в 19 веке, до того в архаичном кастово-сословном обществе понятия «молодёжь» не существовало. То есть, маленький дворянчик рос, вбирая военные знания и, пройдя в пятнадцать лет ритуальное посвящение в рыцари, становился полноправным дворянином. И маленький крестьянчик возрастал лет до тринадцати, когда его (ох, опять какие ритуалы с элементами инициации) женили и выделяли долю пахоты. Сын купца обязательно становился купцом, сын священника — священником. Но с усложнением общества, связанного с развитием технического прогресса, и оформлением новых социальных институтов, когда стало просто необходимо дробить касты-сословия в разночинство, в котором дворянин по происхождению мог стать негоциантом, а сын священника химиком, когда появились внекастовые ваганты-студиусы, тогда-то и явилась миру молодёжь — «особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности».
Если ещё лет сто пятьдесят назад молодость укладывалась в студенческие три-пять лет, то сегодня общепринято считать человека молодым, то есть, не огруженным «социальной ответственностью» и в тридцать пять лет. Даже в сорок пять. Как-то так сложилось, что стало совершенно приемлемо, что при полном интеллектуальном развитии, физическом совершенстве, профессиональной выученности, человек остаётся этически недозрелым, бессовестно пребывающим в уверенности снисхождения к совершаемым им проступкам.
И это самоубеждённое эгоистичное «право на ошибки» настолько комфортно, что, похоже, не вызывает даже малой совестливой тревожности – а, на самом деле, откуда оно? Так ли оно естественно, так ли природно? Мало того, что сами инфантилы об этом упорно не задумываются – тех, кто попробует указать им на инфернальность этого их «права», они истерично, панически ненавидят. А ведь, действительно, инфантильная безответственность воспитуема в человеке врагом человека для встраивания того в общество потребления. Встраивания необратимого.
Мир не нейтрален. Мы только-только рождаемся, и на нас уже строят свои планы некие силы, нас уже видят в рядах одной из множеств армий, воюющих меж собой. С пелёнок нас готовят к битвам «на своей стороне» ещё до того, как мы научимся говорить, читать, тем более – рассуждать.
Своими подкорково вживлёнными социально-культурными образами-символами «семья», «отчий дом», «вера отцов», «малая родина» обеспечивает изначальную «правильность» выбора «своей стороны». «Малая родина», по мере возрастания человечка, через сказки, былины и мифы передаёт ему опыт выживания семьи-рода-этноса, и вооружает идейными установками, необходимыми это выживание рода поддерживать и дальше. Но вот в период подросткового бунта, реального или мыслительного побега из «малой родины», человечек оказывается беззащитен, открыт для внедрения в него иных идейных установок, для очень и очень профессионального вживления в него иных моралей.
Но одно дело овладеть идеями подростка, манипулировать его поведением (при обязательной уверенности самого подростка, что всё всегда он «решает сам»). И совсем-совсем другое – кукловодить тридцати-сорокалетними уже специалистами, уже социально приподнятыми административными или партийными функционерами, из которых можно формировать настоящую «пятую колонну».
Поэтому инфантилизацию современного общества нельзя рассматривать как некое «природное явление». Смотрите, как разбухающая чуже-нравственностью инфантильность используется в современных госпереворотах. Для не верящих в теорию заговора: в «цветных революциях», организуемых в христианских странах, изначально как бы мирно митингующую молодёжь к неизбежным кровавым погромам обязательно призывает некая взрослая женщина — символическая «мать» (или верховная жрица культа левой руки?) с баррикады призывает своих символических «сыновей» к Эдипову греху – к отцеубийству. Что политкорректно называется «революцией».
Надеюсь, я показал, насколько заданная мне приглашающей стороной гладкозвучная тема «Малая родина в системе идентичности гражданина России» при попытке приподняться над поверхностными стереотипами, оказывается, ох, как непроста. Ибо, как я постарался показать выше, вход в «систему идентичности» весьма-весьма непрямолинеен. Приходит на память бильярдная игра «от борта». Например, вот всем понятна идентичность национальная, земляческая, даже профессиональная, но что значит «идентичность гражданина России»? Какой России? – царской, императорской, советской, демократической? Да, да, конечно же, нашей вечной России. Но что в России вечно, неизменно через все её исторические периоды – разговор-то особый, долгий. Мы сегодня к нему даже не приближаемся.
И что такое «гражданин»?
Согласно Словарю по конституционному праву, «гражданин имеет определенные права по отношению к государству (может требовать от него защиты своих законных интересов, обеспечения и создания условий для реализации прав и свобод) и обязанности перед государством». Исходя из такого правого определения, воспитание гражданства есть прямое наполнение воспитуемого знаниями о свободах и ограничениях, обеспечивающими выживание и даже комфортное пребывание личности в данном государстве. Но разве можно определить «малую родину» лишь как период первичных познаний свобод и обязанностей? Нет, малая родина – это, прежде всего, школа чувств, школа любви. Малая родина – сплошная любовь, любовь семьи к тебе и тебя к семье, любовь к родному дому, к традициям, к стогам, к речке в тумане. Той, которая, когда
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
Отсюда ещё вопрос: а гражданство и любовь как-то связуются? Первый поверхностный ответ – ну, да, в патриотике. Но тогда кто такой «патриот»? Если попробовать определиться по лекалам Словаря по конституционному праву, то получается «патриот – человек, у которого нет никаких прав в государстве, есть только обязанности перед ним. И потому патриот, защищая государство, сам не может требовать от государства защиты своих законных интересов, обеспечения и создания условий». Причём, обязанности без прав возлагаются патриотом на себя добровольно. Забавно? Но ведь верно! А всё потому, что патриотизм – это опять же любовь. Любовь – которая самопожертвование. Помните у великого Лосева: «Родина требует жертвы. Сама жизнь Родины – это и есть вечная жертва. … Я многие годы провёл в заточении, гонении, удушении, и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с её радостями и горем, с её счастьем и с её катастрофами есть жертва, жертва и жертва». И далее укрепил-утешил: «Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственно только и осмысливает жизнь. … В самом понятии и названии "жертва" слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое». (А.Ф. Лосев, статья «Родина»).
Опять вопрос, как домашнее задание: жертва Родине большой и родине малой как-то отличается величиной, размерами пожертвования?
Вот уже скоро мир отметит 80-летие Великой Победы в великой войне. Мне, как сибиряку, хочется собрать ваше внимание на одном феномене: на подвиге сибиряков, защитников Москвы. К концу 30-х началу 40-х население Сибири наполовину составляли люди, «обиженные» советским государством. Да и из другой половины, опять же, половина была тех, кого «обидело» царское правительство. Однако в Сибири – из-за смешения народов, народностей, культур и традиций при равной для всех суровости условий выживания на неоглядных просторах, сложилось и долго сохранялось необыкновенное явление неразделённости в сознании местных жителей «малой родины» и «Родины большой». Можно сказать, что сибиряк – феноменальный реликт архаического общества, которое даже в 20 веке ещё не знало «молодёжности».
Великая Отечественная война вспыхнула и разгорелась от Сибири в тысячах вёрст, где-то за Уралом, и это не сибирскую землю топтал фашистский сапог, не дома сибиряков жгли немцы, румыны и итальянцы, не их матерей, жён и дочерей насиловали и угоняли в рабство, но сибиряки верноподданнически приняли мобилизацию на государственное служение, услышали призыв на смертную битву за свою Великую Родину. И героически отдали свои жизни за Отечество в невиданном ими до того Подмосковье.
Итак, концепт «малая родина» возможен в системе идентичности гражданина России только в случае достижения ГОСУДАРСТВЕННО ПОСТАВЛЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНФАНТИЛИЗМА – как важнейшего условия формирования полноценности личности гражданина и патриота. Повторю: необходима государственно поставленная педагогическая задача стимуляции взросления – скорейшего принятия на себя социальной ответственности новыми поколениями. Что неотложно для построения мобилизационного общества в виду нарастающей мировой войны.
Иначе, при не прохождении воспитываемым гражданином возрастной инициации, попытки формального введения «малой родины» составным элементом в конструкцию «Родины великой» чреваты побочными, точнее, встречными деструктивными эффектами, такими как сепаратизм или национализм.
Василий Владимирович Дворцов, русский писатель, председатель Совета по прозе Союза писателей России

























