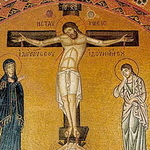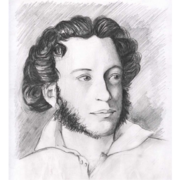Пермь, как известно, город культурный. Даже слишком. «Я бы сузил!» — как сказал персонаж романа Достоевского. А кое-кто даже называет Пермь третьей музыкальной столицей страны.
Еще свежи впечатления общественности от периода разгула в Перми и окрестностях, при содействии тогдашнего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, скандально известного московского галериста Марата Гельмана, даже занимавшего с 2008-го по 2013 г. пост директора Пермского музея современного искусства. Приведем лишь два примера. Посетителям этого «учреждения культуры» запомнились видеоинсталляции «Любовные скачки» и другие, которые «находились на грани эротики и порнографии», а также глумливая выставка «Родина», где было сразу несколько инсталляций на тему христианства — например, православный храм из медицинских клизм и бюстгальтеры в виде куполов. И еще многое — в том же «передовом» духе.
Как оказалось, милая Пермь и сегодня не снижает, так сказать, «европейской культурной» планки, при этом усваивая и «творчески интерпретируя» уже то, что дорого каждому русскому человеку (в данном случае — наследие Георгия Свиридова).
Так, все еще расходятся круги от события воскресного дня 12 июня с.г., в который отмечались праздник Святой Троицы и День России, когда в Перми, в рамках ежегодного Дягилевского фестиваля (худрук — дирижер Теодор Курентзис), состоялась премьера поэмы Свиридова на стихи Есенина «Отчалившая Русь» — в версии композитора Алексея Сюмака (друга и постоянного участника проектов Курентзиса), для солиста и камерного ансамбля. Исполнили произведение контр-тенор Андрей Немзер, чтец Елена Морозова, а также камерный ансамбль «Практика», с дирижером Ольгой Власовой.
Вокальный цикл «Отчалившая Русь» написан для солиста и фортепиано. И мы привыкли слушать его в исполнении Дмитрия Хворостовского, Лины Мкртчян, а в новейшее время — Владимира Байкова, солиста европейских оперных театров, часто исполняющего произведения Свиридова и другие сочинения русских композиторов. Из концертмейстеров отметим Михаила Аркадьева, общавшегося с великим композитором и исследовавшего его творчество, и Елену Савельеву, с которой В. Байков и сегодня поет «Отчалившую Русь», и которая несколько лет тесно сотрудничала со Свиридовым и певицей Ниной Раутио, исполнившей цикл в БЗК в присутствии самого Георгия Васильевича.
В пермском случае речь идет о весьма смелой интерпретации классика: вместо фортепиано звучит камерный инструментальный ансамбль и в полотно включена чтица. Есть и другие неожиданности.
Присутствовавший на премьере в Перми племянник Свиридова музыковед заслуженный деятель искусств России Александр Белоненко (Санкт-Петербург) поделился с нами впечатлением от пермской премьеры: «У Свиридова нет ничего не только для контр-тенора, но нет и для колоратурного сопрано ничего. Основные голоса у Свиридова — низкие, бас, баритон, меццо-сопрано. Но я оказался зачарован осмысленным и проникновенным пением Андрея Немзера. Ансамбль — скромный по составу — и дирижер Ольга Власова аккомпанировали отменно, все темпы, вся динамика были верными, практически, авторскими. Есть прямые попадания в оркестровый замысел автора, есть находки (с ударными), а главное — есть современное, изысканное слышание инструментальной краски, что важно для свиридовской музыки. А вот с чтицей явно не повезло. И само по себе чтение было лишним. Тем более что читались авторские тексты Есенина, а Свиридов есенинские стихи “присвоил”, сделал свою редакцию. За круглым столом после концерта я понял, что большинству присутствовавших на концерте чтение понравилось и было им необходимо. Аудитория была сплошь молодёжная».
Однако информация о том, какая именно молодёжь собирается на дягильфесте, для Александра Сергеевича явно осталась в тот момент за кадром. Хотя посыл устроителей фестиваля, поставивших во главу угла имя скандально известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией импресарио Сергея Дягилева, очевиден. А размах, в частности, Образовательной программы фестиваля в этом году, как говорится, был нехилым: на участие в нем в этом году от студентов творческих учебных заведений поступило более 150 заявок. Впервые в программе приняли участие и педагоги. География участников — от Якутска до Мурманской области. Заявки пост
Главный подвох пермской постановки поэмы Свиридова, на наш взгляд, заключается не только в солисте, но и в самой по себе идее литературно-музыкальной композиции, где пение на деле оказалось лишь фоном для омерзительного и эпатажного чтения есенинских стихов (как заметили в газете «Труд», чтица «с интонацией прокурора, оглашающего обвинительное заключение»).
Кто же такая Елена Морозова, декламация которой предваряла пение контр-тенором фрагментов свиридовского цикла? Это — вполне известная московская актриса театра и кино, выпускница Школы-Студии МХАТ, лауреат премий им. Веры Холодной, «Триумф», фестиваля «Литературы и Кино», «Чайка», сыгравшая немало ролей, в том числе убедительно — оперную певицу лесбиянку Маргу Ковтун в известном кинопасквиле режиссера Алексея Учителя на Ивана Бунина «Дневник его жены», по сценарию Авдотьи Смирновой.
Музыковед Анатолий Потапцев (Иркутск) комментирует для нас: «Если не смотреть на бородатого мужика, а просто слушать его голос — вполне хорошо (видеоряд здесь мне только мешает, так сказать, гендерным несоответствием). Оркестровка прослушанных номеров не вызывает отторжения (разве только аккордеон?), хотя фортепианная авторская версия ярче. А вот мрак (морок?) на сцене и ведьмячий голос “чтицы” хочется выкинуть подальше. Какой смысл читать то же самое, что вокалист (с хорошей дикцией) поет? Да еще и читать загробным голосом, с какой-то нарочитой чертовщиной в интонации, будто это заговоры или заклинания. Это страшно далеко и от стихов Есенина, и от их свиридовского прочтения. Она местами читает более полный оригинальный текст. Но ведь недаром Свиридов не все строфы брал, делал компиляции. Он создавал СВОЕГО Есенина, убирая черноту, которая порой прорывалась в его стихах. Черноту угара, разочарования, безбожия. А теперь то, что Георгий Васильевич отбросил, вернули, да еще и многократно подчеркнули усилиями чтицы…».
Основательно на счет пермской премьеры «Отчалившей Руси» высказалась известный красноярский музыковед Ирина Ефимова, автор ряда научных работ о творчестве Свиридова, которая прислала нам свой развернутый отзыв, с присущей этому исследователю недвусмысленностью формулировок:
«Это — плевок в адрес “немытой России”, тем более омерзительный, что замаскирован под патриотический жест, символизированный музыкой Георгия Свиридова и стихами Есенина. Смысл этой акции легко прочитывается в свете современной ситуации в России: недаром она была приурочена ко Дню России, да еще и к православному празднику Святой Троицы.
Из свиридовского шедевра смастачили злобную карикатуру, адресованную “агрессору”, напавшему на белого и пушистого соседа, поддерживаемого авангардом мирового сообщества, включая тех россиян, кто “отчалил” или намылился “отчалить” на “другие берега”, — поэтому за основу взята именно “Отчалившая Русь”, а не иное другое сочинение Свиридова. Получилось развернутое истолкование высказывания одного из столпов антироссийского шоу-бизнеса — А. Макаревича, опубликованное на страницах интернета примерно в то же время: “Вы, муд…чьё, думаете, что это МЫ отчалили? Нет, это отчалила от вас Россия!” (за буквальность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно; ругательство воспроизводится дословно). Имеется в виду та самая “хорошая Россия”, паспорта граждан которой уже вручают себе “отчалившие”.
Способы окарикатуривания примитивны.
Во-первых, два кривых зеркала. Одно из них — это чтица с внешностью гоголевского вурдалака, воспроизводящая своим замогильным голосом стихи, составившие поэтическую основу “Отчалившей Руси” Свиридова. Это дублирование, вовсе не предусмотренное композитором, означает послание ныне “отчаливающих”, адресованное “немытой России”: интонационная палитра “послания” — шипящая, заунывная (как будто подвыпивший дьячок читает по покойнику), клокочущая; в кульминации партии чтицы — рычащая, захлебывающаяся злобой и ненавистью: ею озвучивается ЦЕЛИКОМ первая часть есенинского “Сорокоуста”. Ниже полужирным шрифтом мной выделены строки, пропущенные Свиридовым, но вставленные в сценическое чтение “авторами проекта”:
Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?
Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у мерина?
Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль — знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровавленный веник зари.
(Это они про себя, любимых? Но, если я не ослышалась, чтица заменила «нам» на «вам»… — И. Е.)».
Действительно, возникает впечатление, что весь этот “перфоманс” с читкой затеян исключительно ради того, чтоб прокричать в лицо слушателям ругательные есенинские строки. А ведь Свиридов не озвучил их, выжав из «Сорокоуста» трагедийную суть.
«Другое кривое зеркало, — пишет далее И. Ефимова, — солист-вокалист со своим слащавым тембром кастрата. Нетрудно представить себе реакцию Свиридова, если бы ему довелось услышать свою музыку в исполнении кончито-вурсто. Однако по замыслу “проектантов-акционистов”, только ТАКИМ голосом можно “воспевать святую Русь”.
Во-вторых, — демонстративное педалирование фраз, содержащих прилагательные сине-голубых оттенков, выступающих в “проекте” опознавательным знаком “отчаливающих”, а заодно — и “местом кощунного действа” (Дягилевский фестиваль со всеми оттенками голубого).
В-третьих, оркестровая транскрипция фортепианной партии в свиридовском произведении, выполненная А. Сюмаком — широко известным composer-ом за рубежами “немытой” и в узких кругах аборигенской “мытой элиты”. Угрожающе погромыхивающие тембровые краски предельно сгущены в финальной песне: здесь оркестр (камерный!) звучит, как канонада, что в сочетании с глумливым интонированием чтицей стихов из есенинского “Октоиха”: “О, Родина! … Тебе…/ несу, как сноп овсяный, / Я солнце на руках!” ассоциируется со смертоносным свечением ядерного взрыва. (Помните призыв Солженицына разбомбить СССР атомной бомбой?)
В итоге — ремейк, преследующий цель извратить и изгадить первоисточник, заключающий в себе священные для России и русских символы. Попросту говоря, проектанты провокационной акции послали лесом “златую Русь” и воспевших ее гениев».
В завершение скажем, что пермский Дягилевский фестиваль финансируется не только спонсорами (среди которых — СБЕРБАНК), но и за государственный счет, в первую очередь на средства минкульта Пермского края. И это — лишь одна из точек деструктивной борьбы с русской культурой. Эта борьба продолжается на многих участках, причем и за счет российских налогоплательщиков.
Петербуржец Федор Достоевский был убежден, что «последнее слово скажут они же вот эти самые разные власы, кающиеся и некающиеся, они скажут и укажут нам новую дорогу из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Но Петербург не разрешит окончательно судьбу русскую».
Наши столицы действительно в немалой степени духовно больны и, как видим, существенно поражены и некоторые провинции, сегодня указывающие нам «новую дорогу» при посредстве «дягильфестов». Но остается надежда, что в России еще пока есть люди, умеющие отделять зерна от плевел.
Станислав Александрович Минаков, поэт, член Союза писателей России, Харьков – Белгород