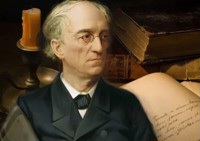
…Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет…
Афанасий Фет
Известный русский критик 20-21 веков Михаил Петрович Лобанов в своей итоговой книге «Твердыня духа» (2010) писал о главных вехах в развитии русского национального мировоззрения: «Прошлое России, нашего народа так безгранично богато содержанием, что можно говорить только о крайне малой соотнесённости этому в литературе. И здесь для познания России дороги свидетельства писателей, книги которых расширяют, обогащают наше представление о великой стране, о народной жизни».
К таким авторам принадлежит великий поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), отличающийся «внутренним зрением» и широтой взглядов, постановкой актуальных вопросов, избегающий внеисторических концепций. Он осознавал свою миссию, свою ответственность, высшие смыслы пребывания человека на Земле, как живущего по закону Совести, самопознающего, кто мы, где и куда идём.
Среди многих исследователей жизни и творчества Фёдора Ивановича Тютчева (его творчество высоко ценили Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) я бы выделила выдающегося русского критика 20-го века Вадима Валериановича Кожинова (1930-2001), автора книги «Тютчев», вышедшей в серии ЖЗЛ и изданной в «Молодой гвардии» в 1988 году, а затем неоднократно периздаваемой . Обоих: и автора книги, и героя её, - связывает величайшая вера в Россию, глубокое желание и стремление – постичь её историю, её веру, преемственность поколений.
Книга о поэте и истории России
«Душа хотела б быть звездой». Тютчев долго был такой — светлейшей, но незримой — дневной звездой. Палящие лучи грандиозного пожарища, охватившего Россию, сокрывали эту звезду… Но теперь мы все видим её проникновенный и неиссякаемый свет (В.В. Кожинов)
Вадим Кожинов писал после выхода его труда «Тютчев», что у него получилась книга не о поэте и не о литературе, а об Истории, потому что через судьбу Тютчева прослеживается история России, судьба русской мысли и литературы в 19-м веке: Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, славянофильское движение, гибель Пушкина, Крымская война.
Кожинов отмечает, что в истории литературно-философского направления сложилось ложное представление, что после восстания декабристов в России наступила эпоха безвременья и бездействия. Если взглянуть пристальнее на историю славянофильского движения, то мы убедимся в том, что это было время активной творческой и мыслительной деятельности по осознанию истории и национальной идентичности. Поколение любомудров, практически ровесников Тютчева, в своих историософских построениях было стимулировано ожиданием новой исторической эпохи, в которой они принимали на себя ответственность за неё, отвергая косность и застой, опираясь на народные начала развития и совершенствования: русский народ должен осознать выработанные историей начала, а не заимствовать их из другой культуры.
Среди лидеров славянофилов выделялся Алексей Степанович Хомяков (1804-1860), поэт, драматург, публицист, богослов, философ, изобретатель. Он задумался о «Смысле и разуме мира земного», от которого зависит судьба человечества. Какими бы ни были деления человечества по племенам, государствам, всё сводится к выгоде и благу, или к приоритету духовности и нравственности.
Хомяков делит народы на два типа: народы-земледельцы и народы завоеватели. Земледельцы восприимчивы и терпимы ко всему чужому, сочувственно относятся к другим племенам. Народы-завоеватели обладают чувством личной гордости и с презрением относятся ко всему иноплеменному и чужому. Земледельцы благословляют «всякое племя на жизнь вечную и развитие самобытное». Завоеватели — не щадят побеждённых. Столкновение двух типов в истории постепенно приводит к утрате народами-домостроителями своих самобытных черт, «врождённых коренных начал». Примером земледельческого народа в истории служат славяне, примером завоевательного — германцы.
Поиску истинных основ исторической жизни России посвятил ряд своих работ другой видный представитель славянофилов Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860). Рассматривая самобытность исторического пути России, Аксаков предостерегал от перенесения «европейских воззрений» (например, таких, как консерватизм или революционность) на русскую историю. Аксаков делал акцент не на сходстве истории России и Запада, а на различии, полагая, что оно существует изначально. Государства Западной Европы, - утверждает Аксаков, - были образованы завоеванием, поэтому в их основе лежит вражда и грубая сила. Опирающаяся на насилие, власть воспринимает народ в качестве раба, что вызывает ответное сопротивление со стороны народа и толкает его на бунт и революцию. Насилие, рабство, вражда — основы жизни на Западе и характеристика его истории.
Русская история, напротив, началась с добровольного призвания власти в 862 году. Затем в 1612 году это призвание повторилось; на русский престол был избран Михаил Фёдорович Романов. Русский народ осознанно, а не принудительно признает необходимость государственной власти. Вся русская история, с точки зрения Аксакова, говорит о верности русского народа власти монархической. Мир и согласие — начала русской истории. Добровольность, свобода, мир — основы русской жизни. В отличии от Запада, полагал Аксаков, в России сложились особые отношения между народом и властью, которые он характеризовал, как «союз народа с властью». Власть в России опирается не на договор, а на «нравственное убеждение» народа в её необходимости; и народ выступает «первым стражем власти».
Тютчев разделял основные идеи славянофилов, проявлял интерес к славянскому вопросу, пронёс через всю свою деятельность в качестве дипломата убеждения любомудров. Он видел в России самобытный путь развития, отличный от западноевропейского, был убеждён в особой миссии России в мире, что созвучно славянофильским взглядам. Им Тютчев посвятил стихотворение «Весна»:
Посвящается друзьям
…Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как Бога животворный глас!
Где вы, Гармонии сыны?
Сюда!.. И смелыми перстами
Коснитесь дремлющей струны,
Нагретой яркими лучами
Любви, восторга и весны!..
Вам, вам сей бедный дар признательной любви,
Цветок простой, не благовонный,
Но вы, наставники мои,
Вы примете его с улыбкой благосклонной.
Так слабое дитя, любви своей в залог,
Приносит матери на лоно
В лугу им сорванный цветок!..
Славянский мир был хорошо знаком Тютчеву, он тесно связан во всех своих частях, живёт своей собственной жизнью, самобытной и неразрушимой. Физически он разделен, некоторые страны оказались под влиянием «предательства таинственною страстью», позволили овладеть собой чуждым им мировоззрениям, латинским господством, но нравственно он всегда будет единым и неделимым, несмотря на нашествие сатанинских сил, нацистских полчищ.
При этом, как сообщал Иван Аксаков ,Тютчев был настолько чужд стремлению к известности, широкому признанию, славе, что это прямо-таки поражало в нём: «Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток… Всякое самодовольство было ненавистно его существу… Этот человек… обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения… При этом его уму была в сильной степени присуща ирония, но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений… При таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали».
Пушкин и Тютчев
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
Ф.И. Тютчев на смерть Пушкина
Вадим Кожинов рассматривает Фёдора Тютчева как духовного наследника Александра Сергеевича Пушкина. Критик отмечает, что Ф.М. Достоевский видел в Тютчеве «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина». Л.Н. Толстой склонялся даже к тому, что Тютчев как лирический поэт превосходит Пушкина. В ответ на возражение, что Пушкин «несравненно шире», Толстой говорил: «Зато Тютчев глубже… Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина». «Здесь важен, - как отмечает Кожинов, - не столько результат спора на тему «кто выше?», сколько сам факт, что подобный спор возможен».
Тютчев не встречался с Пушкиным, но в стихах реагировал «К оде Пушкина на Вольность», обращаясь к поэту:
…Счастли́в, кто гласом твёрдым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рождён.
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награждён!
Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
К сожалению, до сих пор «друзья самовластья» не принадлежат к «друзьям добра и красоты», скорее, наоборот, и это актуально до настоящего времени- необходимость «вещать тиранам закоснелым//Святые истины».
В 1836 году, за полгода до гибели Пушкина, в двух номерах «Современника» были напечатаны двадцать четыре стихотворения Тютчева. Под ними были буквы «Ф.Т.»; носили они одно общее название: «Стихотворения, присланные из Германии». Судьба не одарила Тютчева встречей с Пушкиным, но он стал близким другим пушкинских друзей — Жуковского, Чаадаева, Вяземского. Обращаясь к образу Тютчева, Кожинов рассказывает о врагах Пушкина, ставших врагами и его любимого поэта.
«Исполнители» убийства Пушкина — Геккерн и егo «приемный сын» Дантес были хорошо известны Тютчеву. Изгнанный в 1837 году после убийства Пушкина из России Геккерн через пять лет сумел стать голландским послом в Вене. Он сыграл, - рассказывает Кожинов, - свою роль в подготовке того отвратительного предательства, которое совершила Австрия по отношению к своей давней союзнице России во время Крымской войны.
Дантес же был доверенным лицом Луи-Наполеона — одного из главных организаторов Крымской войны, Дантес даже был возведён в сан сенатора Франции. Словом, главные враги Пушкина и России были и в стане главных врагов Тютчева.
Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Список врагов Тютчева продолжает имя графа Карла Васильевича Нессельроде, министра иностранных дел России, а затем канцлера, о котором Тютчев написал:
Нет, карлик мой! Трус беспримерный!..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь Святую Русь...
В 1938 году Г.И. Чулков, автор книг не только о Пушкине, но и о российских императорах, писал: «В салоне Нессельроде… не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа… ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу…» В 1956 году И. Л. Андронников утверждал: «Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна… Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного „диплома“… Почти нет сомнений, что она — вдохновительница этого подлого документа».
Противостояние Пушкина и четы Нессельроде имело в своей основе отнюдь не «личный» характер, о чем убедительно писал в своём исследовании Д. Д. Благой. Дело шло о самом глубоком противостоянии — политическом, идеологическом, нравственном; кстати сказать, после гибели Пушкина Тютчев (написавший об этой гибели как о «цареубийстве») словно бы принял от него эстафету в противостоянии Нессельроде.
По словам Благого, Нессельроде и его круг представляли собой «антинародную, антинациональную придворную верхушку… которая издавна затаила злобу на противостоящего ей русского национального гения».
Кожинов говорит о том, что, посещая европейские великосветские салоны, Тютчев видел, что там господствует «пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение» по отношению к России и открыто делился своим пониманием политической обстановки… Через пятнадцать лет после гибели Пушкина Карл Пфеффель, брат второй жены Тютчева, сообщит ей о Нессельроде: «Канцлер рассматривает возможно слишком пылкие речи, произносимые Тютчевым в салонах на злободневные политические темы, как враждебные ему выступления. Считаю своим долгом вас об этом предупредить, чтобы вы убедили Тютчева утихомириться».
Тютчев же знал о том, что Нессельроде очень постарался, чтобы Пушкин был отправлен в Южную ссылку, не платил Пушкину жалованья, не говоря уже об участии в подготовке к дуэли. Он писал о Нессельроде: «Вот какие люди управляют судьбами России!.. Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмехается над человечеством… невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметёт всю эту ветошь… Лет тридцать тому назад барон Штейн, человек, наиболее ненавидевший это отродье, встретившись с нашим теперешним канцлером на каком-то конгрессе, писал про него в своих письмах: «Это самый жалкий негодяй, какого я когда-либо видел».
Космическое мироощущение
Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...
Иван Бунин
Как писал русский религиозный философ Николай Сергеевич Арсеньев, учение русских любомудров о духовной интуиции и «о живой духовной сущности мира и об иерархии её образующих частей» - это мировоззрение «оплодотворило мысль» ряда величайших русских поэтов-мыслителей. К ним в первую очередь относится Ф. И. Тютчев, так как он связан с западной культурой и вместе с тем глубоко укоренен в почве русской. Он «философский провидец», ощущавший духовную ткань мира.
Характерные черты поэзии Тютчева: «захваченность красотой», раскрывающейся перед ним и на Западе, и на Востоке. «В его поэзии не только культура Италии, Франции, Германии, но и глубокая укоренённость в русском народном православном благочестии, в нем также соединение страстной нежности души с силой и размахом мужественно и пристально созерцающей мысли. «Мучительно и страстно» он ощущает борьбу в душе русского народа, борьбу славянофилов с западниками –проклятием России. И то же он ощущает в мире, в природе: врывающаяся тьма, страшный взрывающийся хаос, близко подходящий к нам, касающийся нас.
Мировоззрение Тютчева, его полнота знаний в любой сфере позволяла ему видеть судьбу мира и Родины не только с позиций русского дипломата, но и с высоты провидца: он запретил распространение в России коммунистического «Манифеста». Николай I поддержал инициативы Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. По словам Ивана Аксакова, ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности".
Книга В.В. Кожинова представила читателю образ человека-мыслителя, поистине всемогущего; его дух свободно обнимает беспредельность пространства. Творческая деятельность Тютчева стала истоком для разработки русскими философами учения космизма. Из него родились идеи В.И. Вернадского о ноосферной цивилизации. Разработки П.Сорокина, К. Циолковского являются наиболее перспективными для цивилизации будущего, основанной на ответственности за жизнь, природу и Космос, - это «космическое послание» России, её динамической гармонии – человечеству. Духовными наследниками Тютчева стали Павел Флоренский, Иван Ефремов, Чингиз Айтматов, наш современник Евгений Чебалин – автор романа «Ковчег для третьей мировой», и этим спасительным для планеты ковчегом является Россия.
Читая книгу В.В. Кожинова о Тютчеве, мы постигаем общность духовных исканий критика и поэта с нашей современностью - временем кризисным, эпохой переоценки ценностей, в том числе и в литературе. Современное искусство стало отделять эстетику от этики, художественное творчество — от совести, вдохновение - от нравственного начала, превозносит тёмное, подсознательное, физиологическое в человеке. Такой подход неприемлем.
Во-вторых, философия литературы и истории Кожинова оказывается чрезвычайно плодотворной для осмысления развития мирового художественного творчества и его дальнейших перспектив. В эпоху всеобщего упадка духовности, книга указывает направления и пути реального выхода из кризиса. Критика Кожинова составляет одну из ярких страниц русской литературы, где в качестве приоритетных формулируются задачи преодоления оторванности от истории и традиции русской культуры.
Лидия Владимировна Довыденко, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега», секретарь Союза писателей России, член Союза Писателей Союзного государства, автор 38 художественных, историко-краеведческих, публицистических и научных книг, прозаик, публицист, критик, кандидат философских наук. Почетный гражданин Балтийского городского округа, член редакционного совета журнала «День и ночь» - Красноярск, Член Международной академии русской словесности (Австрали), член РГО. Лауреат литературных премий: Гумилевской, Корниловской, Союзного государства, Щит и меч Отечества, орден «Русская звезда» имени Ф.И. Тютчева, лауреат национальных премий «Золотое перо Руси», «Золотой Витязь»





















