СКРЫВАЕМЫЕ ПРИЧИНЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ СОБЫТИЙ
Книга 1
ПЕРВАЯ ТОЧКА НА ГРАФИКЕ РЕВОЛЮЦИИ
V
СХОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ
Часть V-6
Революции по лекалу
МОСКВА 2023
СОДЕРЖАНИЕ
КРОВАВАЯ ЗАРЯ ХОДЫНКИ
КНИГА 1. ПЕРВАЯ ТОЧКА НА ГРАФИКЕ РЕВОЛЮЦИИ
V СХОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ
Часть V-6
Революции по лекалу
Революции французская и русская. Удивительное сходство…
Неблагодарность − основа всех грехов
Погасить облики
Думать о Царе этому обществу было стыдно
В России уже не было монархистов
Подоплека проста и неприглядна
Надо было что-то делать с Царем
Революции по лекалу
Революции французская и русская. Удивительное сходство…
Не один раз и не одним исследователем отмечалось примечательное сходство в подготовке и протекании так называемой «великой» французской революции 1789 года и русской – 1917 года.
Сходство это заключается, прежде всего, в том, что Короля во Франции и Царя в России предает и восстает против него не народ, а «образованное общество».
И это же «общество» настраивает против монархов и народные массы, готовя крупные неприятности, в том числе и себе.
Сходство заключается и в том, что на престолах обеих стран в предреволюционные десятилетия находятся Государи исключительно высоких нравственных качеств, в полном смысле слова избранники Божии: глубоко верующие, сознающие значение и крест своего избранничества, своего помазания, своей власти.
К власти при этом отнюдь не рвущиеся, а смиренно принимающие ее из рук Божиих.
Сходство и в том, что Франция – единственная в Западной Европе страна, где, как и в России, венчание на престол сопровождалось таинством миропомазания. По некоторым данным, начиная с самого Хлодвига I, крещенного святым Ремигием, апостолом франков, в 498 году по православному обряду, до Людовика XVI. Отличие коронования французских королей от коронования других монархов Западной Европы подчеркивалось самим названием: «sacre» − священнопомазание, а не «couronnement» − коронация.
Крещение Хлодвига I святым Ремигием в Реймсском соборе на Рождество 498 года.
Франсуа-Луи Арди Дежюинь
Сходство продолжается и в том, что при обоих властителях ‒ Людовике XVI и Николае II ‒ их страны достигли экономического процветания, политического и военного могущества.
Достаточно сказать, что в вековом противостоянии Англии и Франции за владычество в мировом океане, именно при Людовике XVI перевес в первый – и последний! – раз в истории стал склоняться в пользу французского флота. Как свидетельствует гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц, создатель флота Открытого моря:
«Рост морского могущества Франции был подвержен колебаниям; обусловленным её внутренним положением; она неоднократно сходила с пути Ришелье и Кольбера. Тем не менее, перед революцией морское могущество Франции стояло наравне с английским.
В значительной степени благодаря ему Вашингтону удалось завоевать свободу Америки.
Сюффрен уравновешивал англичан в Индии; а Средиземное море было по преимуществу французским».
Адмирал Пьер-Андре де Сюффрен де Сен-Тропез
Илл. из кн. Леона Герена «Французские прославленные мореходы», 1845
[Пьер-Андре де Сюффрен де Сен-Тропез (Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez; 17 июля 1729 - 8 декабря 1788). Один из величайших адмиралов в истории французского флота. Прославился рядом побед над британским флотом в Ост-Индии в период войны за независимость США.
В 1781 году разбил английскую эскадру коммодора Джорджа Джонстона близ Порто-Прая, португальской колонии на островах Зелёного Мыса, после чего направил эскадру в Индийский океан. Там у берегов Цейлона он напал на английскую эскадру адмирала Эдуарда Хьюза, и одержал над ним победу в сражениях у Садраса (17 февраля 1782), Провидьена (12 апреля 1782), Негапатама (6 июля 1782), Тринкомали (3 сентября 1782) и Куддалора (20 июня 1783).
Битва у Куддалора 20 июня 1783 года. Худ. Жан Мари Огюст Югеле
Овладел городом и гаванью Тринкомали на острове Цейлоне.
В 1784 году награжден Людовиком XVI орденом Святого Духа и произведен в вице-адмиралы. Создатель передовой тактики атаки в бою всеми своими силами части вражеского флота.
В стратегии настойчиво добивался основной цели – уничтожения неприятельского флота, умело использовал политическую и стратегическую обстановку. О выдающихся деятелях Французского Королевского флота будет рассказано и в последующих главах].
У Франции были серьезные шансы потеснить Англию с места единоличной правительницы морей. Но… наступил 1789 год, во Франции произошла «Великая революция»…
И гроссадмирал Тирпиц, с некоторым даже сокрушением, констатирует:
«Революция уничтожила морское офицерство и сделала негодными корабли и личный состав.
Тогда Наполеон убедился на собственном опыте; что даже его энергия и гений не могли мгновенно создать морское могущество, и численно превосходящий франко-испанский флот был уничтожен превосходящим его по своим качествам флотом Нельсона с его “ватагой братьев”»[1].
Четко сказано, и как-то очень актуально звучит для русского слуха. Прямо как не про Францию вовсе. Но мы забегаем вперед.
Переводя взор с предреволюционной Франции на предреволюционную Россию, напомним, что про наш экономический взлет при Николае II сегодня в курсе, кажется, даже его недруги, кроме особо упертых. Но таких просвещать безполезно и крайне скучно.
Что касается дел военных, то к концу 1916 года Русская Императорская Армия вновь подтвердила непререкаемое звание лучшей армии мира, практически выиграв Великую войну. А Русский Императорский Флот удерживал стратегическое равновесие на всех театрах боевых действий, и после трагедии Порт-Артура и Цусимы вновь уверенно выходил по тоннажу на одно из первых мест в мире.
В скобках укажем, что к несчастью нашему, как мне не раз уже пришлось говорить, победы наши в Первой мировой, мы одерживали «не в той компании», и как оказалось – не для себя.
Проводя дальнейшее сравнение Французского королевства Людовика XVI с Российской Империей Николая II, отметим очевидное: критерий любого правления – рост или убыль населения. Во Французском королевстве Луи XVI демографического спада не было.
Зато в результате революционных экспериментов и войн Франция лишилась – навсегда! – лучшей части генофонда, особенно мужского: «Французский народ за эту “великую” революцию, кроме всего прочего, заплатил физическим вырождением.
Так, после революции и вызванных ею революционных и наполеоновских войн средний рост новобранцев в армию (иначе, рост французского народа) понизился против королевских времен на 3 сантиметра. Также и прирост французского населения с того времени стал неудержимо падать, так что Франция, бывшая при королях самым многолюдным государством Европы (не считая России), теперь стоит в этом отношении на четвертом месте и совсем близка к вымиранию французской расы»[2].
Приведенные слова написаны Николаем Евгеньевичем Марковым примерно в 1928 году, и весьма актуальны для России наших дней.
Прирост населения Российской Империи за время царствования Николая II был просто ошеломителен: за 23 года от 120 миллионов к 180, а по некоторым данным к 190[3]! Качество офицерского состава Императорской Армии было таково, что, что потери убитыми и умершими от ран в Мировой войне ко 2 марта 1917 года не достигли 600 тысяч человек, включая умерших от ран[4]. При этом население Империи в 1914-1916 годах выросло более чем на 4 млн. человек![5]
То есть во время самой страшной и кровопролитной из всех войн, которые знало до этого человечество, население России росло примерно на 1,5 млн человек в год!
Обратите внимание на последнюю цифру граждане, вымирающей ныне почти с такой же скоростью РФ-ии. Причем вымирающей на 100%, за счет государствообразующего русского народа.
Неблагодарность − основа всех грехов
И все вам плохой Царь! Иные, «безнадежные», по сей день повторяют вслед предреволюционным предкам: «кровавый».
Неблагодарность, говорят Святые Отцы, – страшный грех, лежащий в основе почти всех остальных грехов. И основное свойство и следствие неблагодарности – «отъятие даров».
Зачем Господу предлагать «дары» людям не просто и не только отворачивающимся от Него, но и прямо враждебным Ему и Помазанникам Его?
Но продолжим о сходстве французского и русского образованного общества в предреволюционные периоды.
Погасить облики
Высшее французское общество, вышедшее из «славной» полувековой эпохи Людовика XV с ее «помпадуршами» и «помпадурами», с переходящим в ненависть раздражением смотрело на королевскую семью, бывшую при этом истинно христианской семьей. Что уж вовсе ни в какие ворота не лезло в век просвещения и энциклопедизма!
Нечто подобное происходило в предреволюционные десятилетия и в России.
Так называемый Серебряный век русской культуры сопровождался падением моральных устоев во всех слоях русского общества. В первую очередь, опять же общества образованного. Хотя метастазы своей «новой морали» это общество сумело запустить и в другие слои населения Империи. Прежде всего – городской.
Значительную часть этого населения составляли рабочие. Те самые пролетарии, не имеющие ни Бога, ни отечества. Будущие могильщики своих «учителей» в безверии.
Факт остается фактом: к началу XX века процесс замены исконных святынь в сознании русских высших страт на «ценности» художественные, культурные, а в конечном счете и в первую очередь, материальные – насчитывал не одно десятилетие.
И бельмом на глазу этого общества, этой общественности, была православная Царская семья.
Чтобы достигнуть психологического комфорта, и французскому и русскому «верхнему слою» необходимо было погасить моральный и сакральный облик королевской и царской семей, понизить его до своего. Пусть лишь в собственном воображении и за счет любой выдумки и клеветы.
Вот что пишет об этом в части, касающейся Николая II, наш современник, заставший в детстве остаточное действие этого фактора в среде родных и знакомых[6].
Думать о Царе этому обществу было стыдно
«Они … всё еще дышали великой предреволюционной Россией, воспоминания об ее предсмертной красоте сводили их с ума, но тот, кто стоял на самом верху, будто не существовал для них. И своей чуткой душой младенца я сразу постиг, в чем тут дело. Они шепчутся не потому, что боятся большевиков, а потому что боятся самих себя с образом Царя в своем сознании. Чтобы жить, не боясь, они поместили этот образ в темный чулан и заперли на ключ. Но иногда что-то толкает их заглянуть туда в щелочку, и тогда происходят такие диалоги, как сегодня.
Эта жизненная стратегия стала с того момента и моей собственной.
На своем примере я могу убедиться, как верна теория Конрада Лоренца об “импринтинге” − о роли раннего запечатления. Много ли я тогда услышал? Не более десятка фраз. Но и этого, в соединении с интонацией, хватило, чтобы во мне на всю жизнь запечатлелось соответствующее отношение к Царю − нежелание и неумение обсуждать его личность и его судьбу.
Цесаревич Алексей
Оно есть во мне и сейчас. Конечно, появлению этого внутреннего запрета содействовал инстинкт самосохранения: ведь вспоминать о Николае II после его ужасной кончины страшно.
Но почему этот запрет наложили на себя и мои прародители? Сначала я думал, что по той же причине, но с годами понял, что тут имеется тонкое, но существенное различие.
Ведь они научились выталкивать образ Царя из сферы активного сознания еще до революции, иначе привычка связывать Его с событиями того времени обнаружилась бы в их рассказах, а тогда никто не мог предвидеть ужасной участи августейшей семьи. И выталкивали этот образ не только они, но и все тогдашнее образованное общество, что видно по художественной литературе.
Причина здесь та, что думать о Царе этому обществу было стыдно, ибо оно изменило клятве верности династии Романовых, данной нашими предками “на вечные времена” в 1613 году.
А стыд хотя глаза и не ест, но жжет под ложечкой, и его надо было отгонять».
В России уже не было монархистов
«Сейчас я сделаю утверждение, с которым мало кто согласится. Но я убежден в его истинности, как во впадении Волги в Каспийское море. Оно основано на чтении и размышлении, а не на прямом личном опыте.
Я родился в 1928 году, так что когда вошел в сознательный возраст, Российская Империя была такой же свежей недавней реальностью, какой является для нас “период застоя”. Это значит, что все окружавшие меня люди зрелого возраста утверждались в своих политических воззрениях еще там. Они очень многое рассказывали при мне о былом и давали всему свои оценки, а я жадно впитывал это и запоминал. И это дает мне право со всей откровенностью заявить, что в России начала нынешнего [XX] века уже не было монархистов.
Какие-то белые вороны могли остаться, но они погоды не делали. Монархистом был, скажем, Сергей Нилус, но на него так и смотрели, как на белую ворону, и многие не подавали ему руки. А большинство спало и видело, как бы скорее свергнуть “проклятый царизм”.
Дворянский потомок рассказывал мне, что его бабушка была дружна с Императрицей, но скрывала эту дружбу от своих знакомых, как что-то неприличное. Художник Серов написал много портретов Романовых, но в письмах друзьям оправдывался: много платят, не могу устоять.
Верноподданнические чувства были позором, их подымали на смех, и если кто-то еще хранил их в душе, то, чтобы не подвергнуться обструкциям, был вынужден прикрывать их внешним фрондированием.
Этот настрой вырабатывался десятилетиями, поэтому не удивительно, что среди сотен людей, которых я знал в детстве, и которые выросли при Царе, мне не попалось ни одного, кто сказал бы о нем доброе слово.
Современники пишут, что, когда Николай отрекся, в стране было всеобщее ликование, шампанское полилось рекой во всех домах.
Думаю, что и эти люди [знакомые мне] с криками “ура!” поднимали тогда бокалы…».
Подоплека проста и неприглядна
«Почему же нашим дедам и прадедам так отчаянно не хотелось быть монархистами?
Подоплека здесь очень проста и очень неприглядна. Конечно, это было следствием моральной деградации. Тогдашнее общество широкими вратами шествовало к погибели. Общепринятой нормой становилось не просто потакание страстям, но и изощренное их разжигание.
Конечно, люди оставались людьми, и в глубине души ощущали, что катятся в пропасть, но уже не могли остановиться, поэтому желали только, чтобы кто-то избавил их от этого ощущения, убедил, что их поведение нормально и естественно.
Этот социальный заказ взялись выполнять литераторы “серебряного века”. И те из них, кому удалось убедительнее других оправдать возрастающую греховность, становились самыми знаменитыми и высокооплачиваемыми.
Такими были Леонид Андреев, Горький, Арцыбашев, Алексей Толстой и другие не менее известные литераторы, искусно придающие санкционированию греха видимость любви и жалости к людям. Кому, например, еще со школьной скамьи не известен ставший нарицательным образ “Человека в футляре” − учителя греческого языка, который своей благопристойностью создал в городе такую атмосферу, что хулиганов приходилось исключать из гимназии, а священникам воздерживаться на публике от скоромного.
Подтекст был ясен: долой таких моралистов как Беликов, и да здравствует вседозволенность! И этому-то подтексту и аплодировали миллионы читателей.
Но какой бы искусной ни была успокаивающая литература, общество не могло успокоиться до тех пор, пока Россия оставалась монархией».
Надо было что-то делать с Царем
«Иван Ильин, противопоставляя элементы монархического и республиканского правосознания, приводит такие пары:
− пафос доверия к главе государства − пафос гарантии против главы государства;
− пафос верности − пафос избрания угодного в данный момент;
− культ чести − культ независимости;
− заслуги служения − культ личного успеха.
Внутренний выбор между двумя этими альтернативами был сделан русским обществом рубежа веков однозначно, и мы хорошо знаем, каким он был.
Поэтому монархическая идея стала ему совершенно чуждой.
Тем более что ее олицетворял монарх, собравший в себе лучшие черты рода Романовых − благородство, порядочность, честность, самоотверженность в служении России, постоянное памятование о заветах Святой Руси и глубокую Православную веру.
Жить той жизнью, какой жил тогда верхний слой нации, и иметь перед глазами такого Царя было вещами плохо совместимыми.
А поскольку менять жизнь никто не собирался, надо было что-то делать с Царем».
Разумеется, оставались монархисты во всех слоях общества. Можно перечислить немало известных и при этом до конца верных Царю русских людей: философов, ученых, в их числе математиков, врачей, авиаконструкторов и многих других. Но это все равно будет перечисление единиц, хотя общее число таких единиц могло исчисляться многими тысячами.
О некоторых из них расскажем далее.
[1] Тирпиц А. фон. Воспоминания. - М.: Воениздат, 1957. С. 443.
[2] Марков Н.Е. Войны темных сил. – М., 2008. С. 81.
[3] Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней. – М., 1997. С. 40.
[4] Россия в мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). ЦСУ. Отдел военной статистики. –М., 1925; см. также БСЭ. Второе издание, т. 50. – М., 1957. С. 203; Галенин Б.Г. Потери Русской армии в Первую мировую войну. //Русский исторический сборник. Выпуск 6. - М., 2013. С. 126-172. /Galenin B.G. The Loss of the Russian army in the First Great War. Напомним, что потери только мирного населения Ленинграда во время блокады 1941-1943 гг. составили по официальным данным порядка 800 тыс. человек.
[5] Бернштам М. Стороны в гражданской войне 1917-1922 гг. - М., 1992. Перепечатка из: Вестник РХД, №128, Paris, 1979. С. 55.
[6] Тростников В.Н. Тема, от которой не уйти. /Вступительная статья к книге Николай Пушкарский. Всероссийский император Николай II. - Саратов: Соотечественник, 1995.



















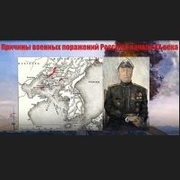


.jpg)







