
Перемена политики
На Особом Совещании, собранном 10 ноября 1886 года по вопросу о дальнейшем развитии Владивостока, было единогласно решено раз навсегда утвердиться в этом пункте и уже не искать затем никаких других портов на побережье Восточного океана. В те же годы (в 1884 году) в Министерстве Иностранных Дел заявляли, что "Корея нас нисколько не интересует".
На Особом Совещании, состоявшемся 26 апреля 1888 года, говорилось, что "было бы несогласно с нашими интересами поощрять корейское правительство к развитию его военных сил в размерах, превышающих потребность поддержания порядка внутри страны".
Главным врагом России на Дальнем Востоке почему-то признавался в эти годы довольно спокойный и малоподвижный Китай.
Через три года после указанного Совещания ситуация изменилась.
На том же Востоке неожиданно открылась самая лихорадочная деятельность других европейских держав, заговорила возрожденная к новой жизни Япония, потянулись к Китайскому рынку Соединенные Штаты Северной Америки.
Наконец-то пришлось и России переменить свое прежнее отношение к далеким берегам Тихого океана. Пришлось совершенно забыть приведенные выше решения восьмидесятых годов, тем более что их несостоятельность была ясна уже тогда, но только тем, кто побывал на месте.
Адмирал Шестаков
Почти за двадцать лет до войны с Японией Управляющий Морским Министерством адмирал Иван Алексеевич Шестаков, посетив Владивосток, вполне осознал грозившую России со стороны Японии огромную опасность.
"Я ехал сюда с намерением все морское здесь по возможности сократить, ‒ сказал адмирал барону Корфу в 1886 году при посещении Владивостока, ‒ теперь же имею настолько гражданского мужества, чтобы сознаться в своей ошибке, и пришел к заключению, что нужно не сокращать здесь флот, а напротив того, весь активный флот Балтийского моря следует перенести в Тихий океан".
В особом докладе на Высочайшее имя Шестаков обосновал «особую важность и чрезвычайную необходимость для России располагать в водах Тихого океана достаточным числом сильных боевых судов, дабы этим удержать Японию от попытки укрепиться в каком-либо пункте Азиатского материка»[1].
На основании этого доклада, численность русских боевых судов в Тихом океане была увеличена, что только способствовало росту дружеских чувств со стороны Японии к России. Силу уважали везде и во все времена. К сожалению, весь активный флот Балтийского моря вовремя перевести в Тихий океан так и не решились. А зря. Но все же Россия вновь двинулась на Восток.
Здесь построим русский город…
Перемена во взглядах завершилась переменой в действиях. На Дальнем Востоке началась энергичная работа русского человека. Поэтически она отражена прекрасными строчками Арсения Несмелова:
Под асфальт, сухой и гладкий,
Наледь наших лет, –
Изыскательской палатки
Канул давний след…
Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
‒ Здесь построим русский город,
Назовем ‒ Харбин…
Не державное ли слово
Сквозь века: приказ.
Новый город зачат снова,
Но в последний раз…
Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек, ‒
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик историк,
Вспомяни о нас…
В Северной и Южной Манчжурии началась прокладка русских железнодорожных путей. Россия получила незамерзающий порт.
К сожалению, не в Корее, как того требовали наши национальные интересы, а в Южной Манчжурии, что, напротив, повлекло дополнительные сложности. Но все же. Впервые в жизни незамерзающий Тихоокеанский порт. В Пекине и Сеуле русское влияние казалось преобладающим...
Единственная защита – эскадра
Понятно, что это новое продвижение наше “встречь солнца”, к теплым морям должно было, в конце концов, опереться не столько на искусство политики, сколько на оружие воина.
Наступил момент закрепить за собой хотя бы то, что уже нам принадлежало. Однако задача эта затруднялась незаконченностью Великого Сибирского железнодорожного пути. Пока он не был готов, Тихоокеанская окраина, в разгар самых живых назревавших и уже происходивших здесь событий, оставалась предоставленной самой себе.
Уступки − прием невыгодный!
Русская политика взяла в этих условиях совершенно неверную линию. Помимо прямых ошибок МИД − и не только его, − таких как занятие Квантуна с Порт-Артуром вместо Кореи с Мозампо, Государя «благонамеренно» уговаривали, что главное пережить любым способом неблагоприятный для нас период.
А чтобы пережить, следует вступать в, не всегда обоснованные и выгодные, соглашения с нашими главными врагами на Дальнем Востоке − Англией и Японией.
Эта политически ошибочная установка в свою очередь неизбежно вела нас, во-первых, − к почти постоянным уступкам, − приему крайне невыгодному везде, а особенно на Дальнем Востоке, а, во-вторых, к достаточно невнятным соглашениям и с Англией − по Китаю, и с Японией − по Корее. Невнятным уже потому, что с нашей стороны эти соглашения преследовали собой лишь простой выигрыш времени.
Что прекрасно понимали наши “заклятые друзья”.
Задачи надо решать
Неудовлетворенные этими договорами, не связанные с нами более широкими, прочными и существенными обязательствами, Англия и Япония соединились друг с другом.
Главным “идейным” создателем этого союза была, разумеется, Англия. Закрывая нам дорогу в океан в Балтийском море, уже закрыв в Черном, она желала закрыть ее и в морях Дальнего Востока.
На сей раз руками Японии.
Япония же с помощью англо-японского союза могла расчистить себе свободную арену на самом материке Азии. Так ей, Японии, во всяком случае, казалось. “Просвещенные мореплаватели” понимали ситуацию значительно лучше и яснее.
Двухсотлетняя дружба дает трещину
Наше положение усугублялось тем, что поставленные недальновидной, если не сказать изменнической, политикой русского МИДа в необходимость для осуществления своих политических целей предъявить Китаю известные и почти всегда крупные требования, мы оттолкнули от себя Поднебесную империю.
А делая ей, в видах поддержания с нею мира, нередкие уступки, сами воспитали ее в привычках сопротивления, которое она проявляла даже в те минуты, когда наши новые требования были особенно понятными и, безусловно, правильными.
И совершенно справедливо отметил посол в Японии барон Роман Романович Розен:
“Соблюдение коренного правила всякой политики никогда не делать ни одного шага вперед, который не был бы безповоротным, − особенно важно в сношениях с восточными народами”[2].
Все указанные явления не замедлили перейти и проявить себя и в том втором периоде дальневосточных событий, который начался с момента так называемых боксерских смут.
Вместе с ними перешли в этот период и главнейшие идеи, высказанные у нас на различных совещаниях, и в дни наших переговоров с другими державами, − идеи, дожившие вплоть до последних переговоров с Китаем и Японией.
Раздражал и пугал уже тот факт…
Так, еще в 1894 году, в ожидании мирного соглашения между Китаем и Японией, у нас был выдвинут вопрос о нейтральной зоне в Корее и о необходимости обеспечить свободу плавания через Корейский пролив. В следующем году и впоследствии неоднократно подтверждалось стремление России сохранить независимость и самостоятельность Кореи.
Но бывшие к этому полные возможности были безвозвратно упущены МИД еще в 1898 году, а беззубые заявления Министра Иностранных Дел графа Михаила Николаевича Муравьева типа "вопрос о Манчжурии касается наших взаимных отношений с Китаем и не имеет ничего общего с проектируемым соглашением по корейским делам" никто отныне всерьез не принимал.
Граф Михаил Николаевич Муравьев
В 1899 году Россия достаточно непоследовательно стала возражать в Сеуле, против попыток японцев возвести на корейских берегах укрепления, то есть постепенно создать из Кореи плацдарм, подготовленный для борьбы с нами. Становилось ясно, что большая готовность Японии к этой борьбе и ее географическая близость к Корее отдавали последнюю, при начавшейся на Дальнем Востоке борьбе, очевидно, не в русские, а в японские руки.
Все эти идеи, нашли себе известную формулировку и во второй половине 1903 года, в период переговоров, нарушенных окончательным разрывом.
Но врагов наших раздражал и пугал уже тот факт, что Россия в эти годы старалась обеспечить за собой исключительное влияние в Манчжурии, где созидались крупнейшие предприятия русского человека, и тщательно оберегала все остальные северные провинции Китая, примыкавшие к русской границе, от появления здесь иностранного, европейского или японского, элемента.
Обстановка осложняется
Российская Империя все еще оставалась великим православным царством. Пусть поколебленным неравной борьбой с “мировым сообществом” и его “пятой колонной” внутри страны, но все еще страшным для них.
Разумеется, России без вопросов удалось бы пережить тот наиболее опасный для нас период, о котором сказано выше, если бы Япония не успела на три года ранее положенного ею срока, с активной помощью того самого “мирового сообщества”, завершить развитие своих сухопутных и, главное, морских сил.
Наши же военные программы были сорваны усилиями агентов “сообщества”, внедренных на высокие посты в русской государственной иерархии.
Кроме того, вся обстановка на Дальнем Востоке сильно усложнилась для нас событиями, разыгравшимися в Китае в 1900 году, когда к тревожному вопросу о Корее присоединился в еще более жгучей форме и вопрос о Маньчжурии.
Вся сила и упорство могучей Империи сводились в эти годы к силе и стойкости ее отдаленного и малозаселенного края.
А единственной защитой его оставалась Тихоокеанская эскадра!
Адмирал Евгений Иванович Алексеев
Был, однако, в русском руководстве на Дальнем Востоке решительный человек, готовый вступиться за интересы России, ‒ звали его Евгений Иванович Алексеев.
Как верному слуге Престол-Отечества ему естественно не повезло с оценками в отечественной истории. За примерами далеко не ходить: «царский холоп», «тупой царедворец», «противник всего нового и прогрессивного», «напыщенное и глупое существо».
Изящный стиль и выдержанная идеологическая направленность эпитетов выдают здесь авторов эпохи победившего социализма, столь плавно перешедшего в нашу “развитую” (кем, интересно?) демократию.
Однако и дореволюционные авторы не лучше. Особенно, конечно, изощрялся в подборе эпитетов С.Ю. Витте, в своих тщательно спрятанных от царевых глаз мемуарах: «большой карьерист», «низенькая натура», «мелкий и нечестный торгаш».
Сергей Юльевич Витте. Портрет работы Репина
Ну Витте ‒ это понятно. Чует кошка, чье сало съела! Все же Дальний построен на порт-артурские деньги. А уж уворован был из этих денег не один миллион. Алексеев, видно пытался отстаивать государственные интересы, чем сильно обидел инициатора и спонсора Дальстроя.
Не знаю, что уж там не поделил с Наместником А.И. Деникин, но и этот высказался с солдатской простотой и спартанской лаконичностью: «не флотоводец, не полководец и не дипломат»[3]. Флотоводства от самого Антона Ивановича было бы, конечно, требовать чересчур, но в остальном ‒ так и тянет сказать ‒ чья бы корова мычала!
О язвительных характеристиках, которыми «награждали» адмирала в публицистической и художественной литературе, лучше и вовсе не вспоминать, ибо они стоят порой за гранью приличий. С писателями и публицистами у нас всегда порядок.
Не беремся утверждать, что всегда и во всем адмирал Алексеев был прав, да и характер был, говорят, не сахар. Но любовью к Отечеству, верностью Царю, политическим чутьем и решимостью Бог его не обидел.
Наместник Его Величества Адмирал Евгений Иванович Алексеев
“Из анализа четко обоснованных стратегических и тактических выкладок в докладах и приказах Евгения Ивановича Алексеева следует, что адмирал принадлежал к числу наиболее выдающихся русских флагманов конца XIX ‒ начала XX века, что обусловило и его качества дипломата.
Будучи в первую очередь моряком, адмирал и в вопросах внешней политики руководствовался, прежде всего, стратегическими соображениями.
Именно этим определялись и его жесткая позиция в корейском вопросе, и идея превентивного удара по Японии. Как политик и как флотоводец адмирал Алексеев, постоянно выступавший за поддержку дипломатии силой и за определявшуюся нуждами флота политическую экспансию, был, наверное, самой яркой и выдающейся в России фигурой так называемой «эпохи нового маринизма».
Мастерски используя для этих целей русский флот, он наиболее ярко воплотил тенденции данной эпохи в истории России”[4].
Руководство Алексеева международными силами во время китайской кампании говорит о том, что в его лице Россия приобрела полководца большого масштаба.
Но приобретения своего не заметила и им не воспользовалась.
Наместник Его Величества
6-го апреля 1903 года Евгений Иванович Алексеев был произведен в полные адмиралы с оставлением в звании Генерал-Адъютанта, а 30 июля ‒ назначен Наместником Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
Следует подчеркнуть, что в официально представленных им мнениях и заключениях на проекты управления областями Дальнего Востока Евгений Иванович неоднократно и решительно высказывался против учреждения там Наместничества и просил, в случае, если таковое будет учреждено, отозвать его с Дальнего Востока.
На этом посту адмирала и застала в 1904 году русско-японская война, в которой ему, по словам Военной энциклопедии, пришлось играть роль страдательную, ибо общественное мнение России, не подготовленное к войне правящими сферами, возложило на него ответственность не только за ее возникновение, но и за нашу неподготовленность к ней.
В качестве же Главнокомандующего он оказался лишенным всей полноты власти в руководстве военными операциями, вследствие назначения ему „самостоятельного помощника" в лице генерала Куропаткина, занимавшего до тех пор пост Военного министра[5].
Невиданная инициатива адмирала Алексеева
Расскажем об одном малоизвестном предложении адмирала Алексеева, реализация которого позволила бы России перехватить инициативу в вялотекущем, но грозящем войной конфликте интересов двух империй.
20 сентября 1903 года, видя наше отставание в подготовке к войне с Японией, и убежденный в ее неизбежности Е.И. Алексеев выступает с невиданной инициативой нанесения по Японии превентивного удара.
В случае высадки японских войск на корейском побережье Желтого моря он предлагает «оказать противодействие открытою силою на море»[6], то есть, силой ответить на наглую и очевидную агрессию. Однако столь радикальный вариант решения проблемы не вызвал понимания даже среди безобразовцев.
Единственным, как ни странно, кто уже в самый канун войны поддержал адмирала, или, во всяком случае, обнаружил понимание его точки зрения, стал начальник Главного штаба генерал В.В. Сахаров, но и то только в 10 часов утра 26 января/8 февраля 1904 года[7]. Когда, откровенно говоря, было уже немножко поздно.
Но упрямый командир “Африки” не отступает. На совещании 18/31 декабря 1903 года, где рассматривался план боевых действий флота, он, уже открыто, заявил, что считает желательным «идти к Сасебо и отыскать неприятеля для нанесения ему второго Синопа»[8].
И ведь получилось бы, стопроцентно получилось! Все эти любители нападать без объявления войны, почему-то страшно тушуются, когда подобные меры применяют к ним самим.
В 1955 году в Нью-Йорке вышел сборник воспоминаний участников обороны Порт-Артура, посвященный 50-летнему юбилею этой обороны. В частности, там впервые был предан гласности эпизод с несостоявшимся Синопом адмирала Алексеева. Прежде, чем привести этот рассказ, скажем несколько слов о его авторе[9].
Б.И.Бок в парадном мундире
Борис Иванович Защищая Порт-Артур Борис Бок командовал 1-м и 2-м редутами, и командовал видимо хорошо, поскольку награжден был орденом Святого Георгия 4-й степени.
После сдачи крепости японцы оставили офицерам личное оружие и ‒ под честное слово не воевать больше с Японией ‒ отпускали желающих в Россию. Офицеры, не желавшие дать честное слово врагу и хотевшие разделить участь своих солдат, могли добровольно (!) идти в плен. В числе этих офицеров оказался и Б.И. Бок.
Бок (1879-1955)[10] канун русско-японской войны встретил в должности адъютанта Наместника на Дальнем Востоке. Хорошие отношения, установившиеся у молодого офицера с адмиралом, позволили ему быть в курсе проблем, мало известных широкой публике как тогда, так и, тем более, в наше время.
По возвращению из плена 26-летнего героя Порт-Артура ждали заслуженные награды. Лейтенант Бок получил назначение на одну из царских яхт “Нева”. В июне 1907 года премьер-министр Российской Империи Петр Аркадьевич Столыпин получил предложение Императора отдохнуть с семьей в финских шхерах. Путешествие по морю ‒ даже Балтийскому ‒ всегда связано с Романтикой. Не оставила она своим вниманием путешественников и в этот раз. Старшая дочь премьера Мария полюбила лейтенанта Бока:
“За эти восемь дней плавания решилась моя судьба и, хотя ничего еще не было сказано, но бывают чувства яснее слов, и в душе я бесповоротно знала, Рано ли, поздно ли, но я буду женой одного из офицеров «Невы» лейтенанта Б.И. Бок”[11].
Мария Петровна Бок
2 февраля 1908 года состоялась помолвка, о которой Столыпин-папа на вечернем докладе рассказал Государю. Николай Александрович сказал, что хорошо знает жениха и поздравляет невесту с отличным выбором. 21 апреля состоялась свадьба лейтенанта флота Бориса Бока с фрейлиной двора Марией Столыпиной.
Через две недели после свадьбы молодые отправились в Германию, куда Бок был назначен русским морским агентом (атташе). По совместительству Борис Бок стал заодно морским агентом и в Голландии. На этом ответственном посту он пробыл два с половиной года. На это же время приходится начало его литературной деятельности. Бок стал печататься в периодических изданиях под псевдонимом “Портартурец”.
Истинным удовольствием и отдохновением от наших буден, станет для любого русского человека описание тех последних дней и лет старой Европы в воспоминаниях Марии Петровны Бок, по счастью переизданных в последние годы.
В 1910 году Борис Иванович становится старшим лейтенантом, а в следующем году выходит в отставку, получив в наследство небольшое имение недалеко от Либавы. Одновременно Борис Бок получает придворный чин камер-юнкера и становится уездным предводителем дворянства. Во время Великой войны он вновь возвращается на службу.
Не приняв революцию, капитан 1-го ранга Б.И. Бок в 1917 году навсегда покинул страну.
Когда русские эмигранты ‒ ветераны Порт-Артура, раскиданные по всему лицу земли, решили выпустить сборник воспоминаний, посвященный 50-летнему юбилею той войны, председатель юбилейного комитета капитан 1-го ранга Бок, проживавший в ту пору в Сан-Франциско, стал одним из организаторов подготовки этого уникального издания.
Он включил в него ряд и своих очерков, в которых изложил свой, во многом отличный от традиционного, взгляд на предъисторию русско-японской войны и причины первых поражений нашего флота.
В частности, каперанг Бок посвятил немало добрых слов Наместнику Дальнего Востока и Главнокомандующему первого периода войны адмиралу Алексееву.
Капитан 1-го ранга Российского Императорского флота Борис Иванович Бок, выполнив свой последний долг перед Родиной, скончался в Сан-Франциско 4 марта 1955 года, через несколько дней после выхода в Нью-Йоркском издательстве юбилейного сборника “Порт-Артур. Воспоминания участников”.
Приводимое ниже свидетельство опубликовано в этом сборнике на страницах 23-27. Итак, слушайте. Рассказ называется «Завтрак у Наместника».
ЗАВТРАК У НАМЕСТНИКА
В Порт-Артуре в этот день было тихо
“2-го октября 1903 года[12], сменяя в полдень дежурного адъютанта при Наместнике Его Величества на Дальнем Востоке, я был изумлен, когда он передал мне, что сейчас должен прибыть из Японии наш посланник барон Розен, и что адмирал Алексеев приказал провести его незамедлительно в кабинет.
Это известие своей неожиданностью вызвало мое крайнее удивление. С введением Наместничества, адмиралу Алексееву были переданы все дипломатические переговоры с Японией, Китаем и Кореей, для чего была создана в Порт-Артуре дипломатическая канцелярия, под управлением Плансона.
Всякий приезд наших посланников из упомянутых стран был заблаговременно известен. За ними посылался один из крейсеров, а скучающие артурцы, придираясь к таким случаям, устраивали пышные приемы, как на эскадре, так и в городе. Поэтому было ясно, что приезд барона Розена связан с какой-то таинственной целью.
Незадолго до часу посланник прибыл, и я проводил его в кабинет Наместника.
Барон Роман Романович Розен
В этот день в Артуре было особенно тихо, потому что накануне начались соединенные маневры армии и флота, и все суда и войска ушли из крепости. Как будто барон Розен был вызван именно в этот день, чтобы не возбуждать в городе лишних разговоров об его приезде. В час был завтрак, на котором, кроме Наместника и Розена, присутствовал только я”.
Уверенность в неизбежности войны
“Продолжая начатый в кабинете разговор, Наместник сказал барону Розену, что его доклад только укрепил в нем уверенность в неизбежности войны. Уверение генерала Куропаткина, посетившего незадолго до этого Японию, в неподготовленности японцев к войне, адмирал объяснял полным незнакомством генерала с японцами[13].
‒ Наиболее для меня ценным, ‒ сказал Наместник, ‒ являются донесения большого знатока японцев, капитана 2-го ранга Русина, которые всегда только подтверждают мое мнение о неизбежности войны. По лихорадочной деятельности их флота, пребывающего в постоянных упражнениях, слишком очевидна их подготовка к войне с нами”.
Наш ответ ‒ вооруженный резерв
“Как бы в ответ на это, у нас, под давлением Министра Финансов, ввели вооруженный резерв, выводящий наши суда на много месяцев в году из строя.
Далее Наместник жаловался, что на все его донесения о неизбежности войны Петербург остается глухим. И когда он недавно просил об увеличении кредитов на плавание судов эскадры, для сокращения пагубного вооруженного резерва, то получил не только отказ, но и предупреждение, что с приходом на Восток для усиления флота новых боевых судов, срок вооруженного резерва должен быть увеличен, так как кредиты для плавания судов останутся без изменения.
‒ В результате моему штабу, вместо подготовки к войне, приходится разрабатывать вопрос, насколько, из-за экономических соображений Министерства Финансов, нашим судам придется сокращать свои плавания.
Из последнего доклада адмирала Витгефта я вижу, что броненосцам и крейсерам с будущего года возможно будет плавать лишь четыре месяца в году, а миноносцам даже только один. Эта экономия не может не погубить боеспособность флота.
Не может быть боевого флота без упражнения в маневрировании и артиллерийской стрельбе”.
Кто все же ввел вооруженный резерв?
“Надо сказать, что введение вооруженного резерва было в то время новизной, изобретенной Главным Морским Штабом ради экономии. Суда стояли в портах, личный состав получал значительно уменьшенное жалование, и не расходовалось на походы угля. Маневрирование и артиллерийская стрельба вычеркивались на это время из жизни команды, и суда пребывали в сонном состоянии”.
Позволим себе чуть прервать Бориса Ивановича Бока. Удивительным образом, каперанг не замечает здесь, что противоречит самому себе: из приведенных слов Адмирала Алексеева ясно видно, что вооруженный резерв ‒ детище Министерства Финансов, а не ГМШ.
Главморштаб не изобретал вооруженный резерв. Он был лишь вынужден проводить предписанное ему в жизнь.
А ведь “знатоки” и “патриоты” по сей день, с удовольствием поносят ГМШ за это поистине преступное для русского флота нововведение. А раз ГМШ, то, разумеется, и его Начальника перед русско-японской войной ‒ с конца марта 1903 года ‒ контр-адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Возьмем это пока на заметку.
Главный фактор в морской войне
“Далее Наместник говорил, что главным фактором в морской войне является нанесение неприятелю первого удара. Если мы этого не сделаем и будем выжидать его со стороны японцев, то война может перекинуться на сушу и быть весьма длительной из-за нашей одноколейной Сибирской железной дороги, провозоспособность которой ничтожна.
Высказав всё это, Наместник смолк. Через некоторое время он, перейдя из-за присутствующих лакеев на французский язык, сказал:
‒ Вы понимаете, барон, причину вашего срочного вызова мною, и я должен вас предупредить, что я даже допускаю возможность вашего невозвращения в Японию. Упомянутый мною «первый удар» должен быть нанесен нами.
Барон Розен, как старый дипломат, хладнокровно воспринял эти слова и лишь прибавил, что война, конечно, неминуема.
Далее Наместник начал развивать свою мысль о начале военных действий: наш флот должен был на следующий день выйти к берегам восточной Кореи, миноносцы произвести минную атаку на суда японского флота и затем соединиться с флотом в Мозампо.
Завтрак подходил к концу. Вставая, Наместник обратился ко мне:
‒ Сделайте распоряжение о немедленном прекращении маневров; судам вернуться в Порт-Артур и приготовиться к окраске в боевой цвет.
Через некоторое время я был вызван Наместником в кабинет и в присутствии барона Розена получил от него для зашифровки текст телеграммы Государю Императору.
Содержание депеши было о желательности немедленного объявления войны[14], дабы предупредить таковое со стороны Японии”.
Реакция Петербурга
“В срочных случаях ответы на телеграммы получались через четыре часа, но прошло уже десять часов, и ответа всё не было. Наместник нервничал, неоднократно вызывал меня, прося запросить дипломатическую канцелярию об ответе. Наконец, около четырех часов утра Плансон принес расшифрованную телеграмму для доклада.
Телеграмма была подписана Главноначальствующим по делам Наместничества контр-адмиралом Абаза. Смысл ее был тот, что Государь Император не допускает возможности Великой России объявлять войну маленькой Японии. В конце депеши Наместник вызывался в Петербург для личного доклада Государю.
Прочтя депешу, адмирал Алексеев приказал мне передать распоряжение о продолжении прерванных маневров и тут же передал телеграмму Государю о невозможности, в столь тревожное время, покидать ему Дальний Восток.
До января Наместник неоднократно вызывался в Петербург. Был прислан за ним специальный поезд, но он каждый раз отклонял выезд из-за угрозы войны.
12-го января 1904 года Наместником не были получены обыденные ежедневные депеши от наших посланников из Токио, Пекина и Сеула. На запрос дипломатической канцелярии о причинах этого был от всех трех представителей получен одинаковый ответ, что им предписано сноситься непосредственно с Петербургом”.
Прошение об отставке
“В тот же день Наместник подал Государю прошение об отставке и о снятии с себя ответственности за могущие произойти последствия. Ответа на это прошение до начала военных действий получено не было.
Министр Иностранных Дел граф Ламздорф, не подозревая[15] об отнятии от Наместника права переговоров с дальневосточными посланниками, выпустил в первые дни войны «Красную книгу», в которой сваливал всю вину на адмирала Алексеева. Книга эта, выпущенная и разосланная в количестве 50 экземпляров, была по Высочайшему повелению у всех получивших ее отобрана и уничтожена. Оказалось, что с 12 января переговоры с посланниками велись контр-адмиралом Абаза.
Таким образом, к началу военных действий Наместник не был даже в курсе дипломатических переговоров”.
Хотя он решительно не виноват…
С рассказанным, впрямую связана история, приведенная в воспоминаниях Марии Петровны Бок:
“Этой зимой 1910-1911 года мой отец (Петр Аркадьевич Столыпин – Б.Г.) особенно интересовался двумя вопросами: проведением земства в Юго-западном крае и проведением новой судостроительной программы, в частности кредитов на постройку дредноутов.
Петр Аркадьевич Столыпин
Печать была в это время сильно занята вопросом: нужен ли России флот? Полемика была жгучая. Было два мнения:
1) создать, после разгрома нашего флота в Японскую войну, эскадренный флот,
2) ограничиться созданием флота береговой обороны.
Считая это дело исключительно важным и не будучи достаточно ознакомленным в морских вопросах, отец мой прослушал целый ряд лекций профессоров-специалистов и не только по стратегическим вопросам, но даже по кораблестроению.
Вникнув, таким образом, в суть дела, папá твердо встал на точку зрения Морского Генерального Штаба, против большинства членов Государственной Думы, считая, что России, как великой державе, необходим эскадренный флот и сделался защитником проведения морской программы.
Очень любивший флот Государь тоже считал этот вопрос весьма существенным и постоянно вел о нем переговоры с папá, входя в это дело до мелочей. Государь винил Морского Министра адмирала Воеводского в неумении говорить с членами Государственной Думы и, как говорил мне папá, неоднократно спрашивал совета, кого бы назначить вместо него.
Николай Александрович в морском мундире образца 1907 года
При этом Государь упомянул раз, что он знает одного лишь адмирала, который сумел бы найти с Государственной Думой общий язык и воссоздать флот России, ‒ это бывший Наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев.
‒ Но, к сожалению, ‒ прибавил Государь, ‒ общественное мнение слишком возбуждено против него, хотя он решительно не виноват в неудачах нашей последней несчастной войны”[16].
Вот такой рассказ из серии: как должно было быть.
Три упущенные победы
Обратите внимание, что планы “второго Синопа” были у адмирала Алексеева отнюдь не спонтанны, а глубоко продуманы и выношены.
Самый ранний их вариант, по имеющимся данным, относится к концу сентября — началу октября 1903 года, о чем и рассказал Борис Бок.
Второй — к совещанию 18 декабря 1903 года, где адмирал озвучивает план набега на Сасебо.
И последний, уже к 20 января 1904 года, когда Евгений Иванович тщетно добивается разрешения Петербурга решительными действиями нашего флота воспротивиться высадке японских войск в Чемульпо.
Где, напомним, уже стоял самый мощный из бронепалубных крейсеров флота, старший стационер русской эскадры “Варяг”.
Адмиралу не вняли ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. И все шло, как шло. Кончилось это все 26 января/8 февраля 1904 года.
Порт-Артурская побудка
В ночь на 27 января/9 февраля 1904 года японский флот без объявления войны напал на нашу эскадру в Порт-Артуре и повредил два броненосца и крейсер.
Диспозиция Порт-Артурской эскадры в ночь с 26 на 27 января 1904 года
Внезапная атака на русский флот была оценена самой свободной и правдивой в мире англо-американской прессой как “великолепная”, хотя в декабре 1941 года на тех же самых страницах действительно блестящая атака авианосного соединения адмирала Ямамото Исороку на Перл-Харбор, вопреки всякой справедливости и без всяких оснований, будет квалифицирована как “предательская”.
Однако в 1904 году “англосаксы” по обе стороны Атлантики дружно объявили о своем “нейтралитете”, понимаемом ими как откровенная поддержка Японии. Чего ж еще было ждать?
Со стороны Англии — это очевидно для всех.
По сути дела ‒ это была англо-японская война против России. Недаром после войны высшие японские военные были награждены высшими британскими орденами.
Роль самых соединенных штатов почему-то меньше отражена, хотя старались они изо всех соединенно-штатских сил. С законной гордостью Теодор Рузвельт признавался потом, как в самом начале войны он вызвал послов Франции и Германии и “в высшей степени деликатно” пригрозил им санкциями, если “и в этот раз Японию попробуют лишить плодов ее побед”.
В победах Японии президент Тедди не сомневался заранее. Знал, что все уже сделано для победы. На второй день после начала военных действий он писал своему сыну:
“Война началась, конечно, весьма катастрофично для русских, но, между нами, ‒ об этом не должна знать ни одна душа ‒ я был бы в высшей степени доволен японской победой, так как Япония ведет нашу игру”[17].
Впрочем, цели и задачи “просвещенных мореплавателей” по стиранию с лица земли русского народа и его государства нам известны.
Справедливости ради, следует еще раз отметить, что стратегической целью адмирала Того было уничтожение под шумок всей Порт-Артурской эскадры. Но до лавров адмирала Ямамото-Перл-Харборского Того было далеко.
А подготовка офицеров и матросов нашей Тихоокеанской эскадры образца 1904 года оказалась покруче хваленой всеми демократами американской эскадры образца года 1941, несмотря на проклятый вооруженный резерв. Вот свидетельство атаковавших нас той январской ночью:
«Едва успела желтая сигара выскочить из трубки и шлепнуться, как лягушка в воду, русские принялись стрелять и освещать море прожекторами.
Надо отдать им справедливость, если они и не были начеку, то не растерялись, и с быстротою молнии заняли свои посты. В одну минуту пушки были заряжены и прожекторы поставлены»[18].
Батареи Порт-Артура ведут огонь по японской эскадре
Да, еще удалось заблокировать многократно превосходящими силами крейсер «Варяг» в корейском порту Чемульпо, где «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец», обладательницей серебряного Георгиевского рожка за штурм фортов Таку[19], должен был, по идее, служить гарантом независимости Кореи от японских посягательств. Пока русская эскадра не подойдет.
Он и служил. До последнего снаряда.
Про утро 27 января, когда адмиралу Того под Порт-Артуром пришлось, не солоно хлебавши, развернуться на 180° и с большой скоростью удалиться, ‒ будет отдельный рассказ.
[1] Вице- адмирал А.Г. фон Нидермиллер. От Севастополя до Цусимы. – Рига, 1930, с. 21-22.
[2] Из записки барона Розена от 12 сентября 1902 года.
[3] Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904—1905гг. - M., 1952, с. 67, 69;
Козлов И.А. История военно-морского искусства. Т. I. M., 1963, с. 196;
Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895-1907. М.-Л., 1955, с. 233;
Витте С.Ю. Избранные воспоминании. М., 1991, с. 435, 437;
Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990, с. 96.
[4] Гладких С.А. Е.И. Алексеев ― флотоводец и дипломат.
[5] Военная энциклопедия. Т. 1. - СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1911, с. 305.
[6] РГАВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 48. Л. 17 об.
[7] Россия и Япония на заре XX столетия. М,. 1994, с. 522.
[8] Русско-японская война 1904—1905 гг. Действия флота, с. 83. Из дальнейшего будет ясно, что перед нападением все равно подразумевалось объявление войны. Как у благородных людей.
[9] Подалко П.Э. Япония в судьбах россиян. – М.: Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2004, с. 185-188, 305-306.
[10] В некоторых источниках перед фамилией Бориса Ивановича ставится приставка фон, и упоминается о его двоюродном родстве с фельдмаршалом III рейха Федором фон Боком. Любознательные могут уточнить сами.
[11] Бок М.П. П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. – М.: Новости, 1992. /Репринтное воспроизведение издания: Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, с. 256.
[12] Возможно, даты указаны по новому стилю.
[13] Вот опять Куропаткина за дурака считают. Потом-то Адмирал убедится в своей ошибке. Да поздно будет.
[14] Очень важный момент. Русским адмиралом даже превентивный удар не мыслился без объявления войны!
[15] А вот в этом вы сугубо заблуждаетесь, Борис Иванович! Все он знал, этот граф Ламздорф. Одна шайка с Витте и Куропаткиным. Потому и валил на адмирала Алексеева. Стрелки, говоря по-нашему, переводил. Да Государь, на сей раз, не дал.
[16] Бок М.П. П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. – М.: Новости, 1992, 321-322. /Репринтное воспроизведение издания: Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.
[17] Pringle H. Theodore Roosevelt. A Biography. New York, 1931, p. 375. Как это похоже на слова, кажется, уже другого Рузвельта про никарагуанского диктатора и палача Сомосу: “Он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын!”
[18] Нирутака. «Акацуки» перед Порт-Артуром (дневник японского морского офицера). СПб., 1905, с. 27. (В переиздании 1995-го года – стр. 14).
[19] За мужество при штурме фортов Таку, канонерские лодки Порт-Артурской эскадры “Бобр”, “Гиляк” и “Кореец” были пожалованы лично Государем Императором серебряными Георгиевскими рожками с надписью “За отличие при занятии фортов в Таку 4 июня 1900 года”. /Скворцов А.В. Канонерские лодки Порт-Артурской эскадры. “Судостроение”. №4, М., 2004, с. 74-77/.























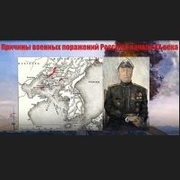

.jpg)






