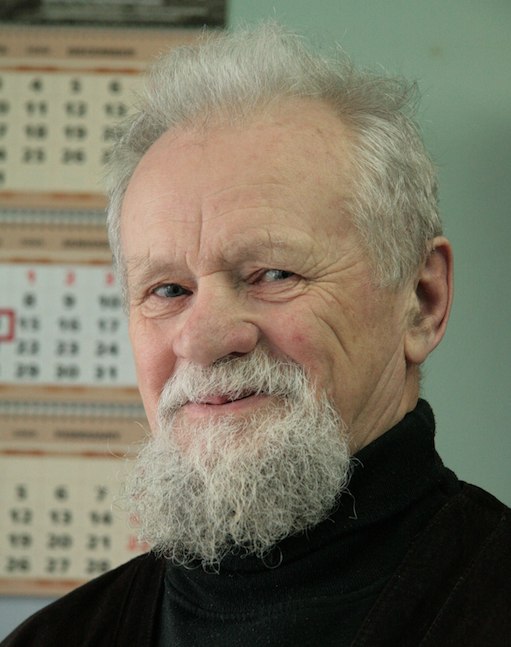К сожалению, потерян ориентир, и дорога к благополучию утонула среди обмана. Нет возвышенной силы, которая бы вела и вела за собой, и все бы ей верили, как надежде. Возможно, когда-то она и была. Была да ушла, как туманная невидимка.
В самом деле, нет нигде сейчас братской связи меж теми, кому хорошо и кому безнадежно. Никто никого уже не спасает. Нигде нет и искренней дружбы. Среди мирового разлада и войн мы ее потеряли. Значит, надо рассчитывать лишь на себя и на то, что рождается в вольном поле. Земля – это самое верное, на что опирается человек. Не на вождей и кумиров надеется, а на то, что дает урожай. И делает всё, чтоб земля работала, словно пахарь. И мы бы ее берегли и верили ей, как собственной маме.
***
ЗАВИСТЬ
На кладбище, как тени, разбрелись чужие сны. Их, кажется, никто не видит, однако слышит робкие шаги. Идут чуть слышимо, упорно и упрямо, как за тобой, кому лежать однажды здесь и, вспоминая жизнь, завидовать тому, кто ходит по живой земле.
ВЕРЮ...
Николая Михайловича Рубцова нет с нами, однако он временами вмешивается в нашу жизнь, как один из ее хозяев. Не зря же Николай Васильевич Гоголь о таких, как Рубцов, сказал, как пророк:
«В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые».
Мы стоим перед памятником поэту. На берегу Сухоны. В городе Тотьма.
- Николай Михайлович! - спрашивает кто-то из нас. – Ты веришь в то, что сказал сейчас Гоголь?
Не ответил поэт, но моргнул оттого, что на веко его упала крохотная снежинка. И мы в то же мгновение разглядели не каменную скульптуру, а шевельнувшегося поэта, который нам ничего не сказал, но мы услышали:
- Верю...
МЕЧТАТЕЛИ
В конце мая, прежде чем разойтись на каникулы, мы всем классом пошли за деревню Поповскую. Там большое колхозное поле.
Кто-то из нас подвозит золу. Кто-то - пророщенную картошку. Кто-то ходит вдоль борозды, окуная клубни в прорытую землю.
Во главе нашей дружной артели - старательная Корона, гнедая лошадка с белыми, как в носочках, ногами, в сверкающей сбруе, ремнях и с туго затянутым хомутом, на которое то и дело садится, подпрыгивая, синичка.
Старшей на поле - тетя Наташа. Она - бригадир. Она же и пахарь. Идет, как привязанная к Короне. Лемех плуга, то и дело повизгивает, встретившись с камешками. В углах угодья, при поворотах успевает Наташа отметить глазами все наши кепочки и платочки. Любо ей, что ребятки стараются, что-то щебечут между собой и норовят от неё не отстать.
Мы и в самом деле были быстры и проворны. Клубни все, как одно, укладываются по строчке. Зола так и вьётся над бороздой.
Чего-чего, а сажать картошку учить никого не надо. Всё это пройдено, как уроки на собственном огороде, где первой учительницей была для нас мать.
Дети, а вот ведь, как взрослые, понимаем: картошка - это не только еда, но и жизнь, в которой смешалось и то, что вчера, и то, что сегодня. В придачу, и то, что завтра на верхосытку.
Время от времени тетя Наташа останавливает Корону. Жалеет ребят, благо все они для неё, как младшие братики и сестрички.
Наташа сама еще молодая. В то же время бывалая, с пониманием, что рядом с ней не просто ребятки, не только встающий на ноги юный народ, но и особое дружное государство.
С непривычки у нас подустали шеи и спины. Но мы не жалуемся на это. На тетю Наташу глядим с радостным обожанием. Молодая, красивая, в гимнастерке, с нежным овалом лица, на котором вот-вот запляшут смешливые ямки. А вот ведь взялась за мужскую работу. Пашет колхозное поле. Хотя могла бы и не пахать. Кто сегодня она? Бригадир. И за ручки плуга, ввиду того, что все мужчины воюют, взялся было вначале дедушка Веня. Но Наташа ему:
- Нет! Нет! Я сама!
Отвела от него Корону. И вперед. Как и не с лошадью. И не полем. А просторной рекой, по которой плывет не железный плуг, а корабль, матросы которого где-то рядом, и все, как один, готовы от тети Наташи не отставать.
Скоро или не скоро, но поле от края до края высажено картошкой. Поглаженное лучами солнца, оно, поблескивая, дымится. Летают в воздухе трясогузки. Летают стайкой. Стайкой на круп лошади и садятся. Корона их не стряхивает с себя. Идет в поводу у тети Наташи к реке. Вид у Короны немножко гордый, немножко и величавый. Как же! Такое поле преодолела.
Мы расходимся по домам. Кто в сторону Тотьмы, кто – к Чернякову. Однако не сразу. Дедушка Веня с крыльца своего пятистенка взмахивает рукой. Приглашает к себе. Только что он сходил в заулочные березы. Принес оттуда бадейку свежего сока. И вот угощает, передавая по кругу наполненный ковш. Мы утоляем жажду и улыбаемся оттого, что в ковшике рассиялась упавшая с неба веселая рожица солнца.
Земля и небо, как что-то единое. А мы у них кто? Дети-работники. И еще большие мечтатели, те, кто, сдерживая волнение, ждет задержавшихся на войне неубитых отцов.
Стоял 1944 год. Было нас 30 человек. Все из второго – б Тотемской средней школы…
ВЕСТЬ ОТ СЫНА
Пароход приходит. Потом уходит. Для Тотьмы – это событие из событий. Особенно в годы Великой Отечественной войны. Мы, малышня из Средней, №1, ни одного парохода не пропускали. Не пропускали и забав на Сухоне-реке. И удалых сорви-голов. Запомнился Вова Горынцев. Даже не столько он, сколько мама его. О, как Вова потерянно улыбался красивой, лет 35 женщине в алой блузке. Это была его мама. Та энергично махала с пристани пароходу, сняв с головы кружевную панамку, уверовав в то, что сын уплывает не навсегда. Гладкое, тонкого склада лицо ее было таким молоденьким, что казалось, прощалась она не с сыном, а с кавалером.
Вова невестой обзавестись еще не успел. Потому и письма с фронта писал только маме. Иногда под влиянием чувств забавлялся стихами. Опять же и их посылал только маме. Два года общались они. И вдруг сынок замолчал.
До конца войны оставалось совсем ничего. Мама поверила в то, что Вовочка ранен, где-нибудь в госпитале лежит, лечит рану свою. Так она дождалась Дня победы. Все лето 45-го каждый вечер ходила встречать пароход. Но сына, как не было, так и нет.
Последний из пароходов пришел в ноябре, по первому льду. Закутавшись в шаль, мама стояла на берегу и всматривалась в ступавшие встреч незнакомые силуэты. И вот последний из них. Лейтенант с фибровым чемоданом. «Не он», - прошептала она.
Возвращалась мама домой. На лице у нее была стайка думающих морщинок. И вдруг вместо стайки – написанные стихи, строка под строкой, которые написала маме война, сообщая ей весть о сыне.
Мама, мама, как дальше-то ты?..
ЗА ВЕКОМ ВЕК
Что на погосте? Легкий ветерок под скрип венков да трепетная память тех, кого любили да забыли, и теперь они оттуда всматриваются в нас, как ждут, когда и мы приляжем возле них.
Былое и живое - друг против друга. Не прах земли, а легкий ветерок передает:
- Привет, привет.
Как если бы у нас всё встало на свои места. Кому-то жить, кому-то отдыхать.
ХЛЕБНАЯ КНИГА
55 лет Степану Круглову. Трактор, сеялка и комбайн - три партнёра, с какими он постоянно на "ты". Правда, машины все время ломались. Были слишком стары. А водитель еще ничего. Держался, хотя здоровье кричало: "Круто берешь! Положе давай!"
Работал Степан, как машина. Однако однажды услышал сердце свое. Билось оно, как чужое. Да и руки вдруг затряслись. Местная фельдшерица посоветовала сменить работу. Уйти куда-нибудь в сторожа.
Вот и ушел Круглов, только не в сторожа, а в колхозные счетоводы. Должность из лёгких. Да и зарплата, как у колхозного бригадира. Однако душой Степан чуть поугрюмел, ощутив себя пленником письменного стола, утонувшего среди сводок, отчетов и цифр.
Эко у нас! - сокрушался он, поработав в конторе около года. Был вроде, и человеком. Стал пародией на него. И вот он однажды постановил. Для себя: «Возвращаюсь туда, где усатый ячмень да и рожь, как вторая жена». О, как был рад председатель, когда Круглов явился к нему с заявлением, где среди прочих слов были самые строевые: "Жалаю назад. Ближе к технике.."
Вновь Степан включился в рабочую канитель. Зимой возит лес для стройки и пилорамы. Летом косит траву. В осеннюю же страду убирает хлеба. Комбайн для него, что родная изба. Уработался - отдыхай, а то и сны принимай, как в своей тихой горнице на диване. Да и голос движка был для уха его, как душевная ария из театра, куда он никогда не ходил, но знаком был по передачам, которые слал навязчивый телевизор. Да и поле само было в двух-трех шагах, как налитая смыслом хлебная книга, которую он читает, пока по строкам ее не порхнет осенняя полумгла. А ближе к потемкам, как из засады выбежит с криками ребятня. Среди них и Гошка, его сынок, кому 14 лет. Он и встречает отца. Чтобы вместе - домой.
Сумерки, запахи намолота. Сын и отец ступают по стерне. К родным воротам. Степан прихрамывает.
- Устал, - признается, - хоть замену себе ищи. А-а? - треплет сынка по свалке волос на мальчишеской голове.
- Чего искать-то! - смеется сынок. - Коли я уже тут...
ИСЧЕЗНУВШАЯ УЛИЦА
Какая красивая пустошь! Трава и цветы! Невозможно в неё не войти.
Идешь, как плывешь. Запах мака и меда. Поющие корольки. И вдруг, покрытая буквами изрезанная скамейка. Читаешь: «Аня + Ваня». Рядом – колючий чертополох и деревянная детская зыбка, в которой простенькие игрушки, как свидетели детства того, кто когда-то здесь жил.
Неужели? - вздрагивает душа. - Ты идешь по исчезнувшей улице?
Именно так. Ты, как поздний свидетель чего-то большого, ушедшего, как невидимка, с нашей земли. Идешь вдоль ромашек и незабудок, а они из забытой деревни, той, которая здесь и была, но ушла, как пропащая, в неизвестность. Были избы и пятистенки. И где они ныне? Переехали в новое место? Или стали трухой?
Сжимается сердце. Это же наше гнездо, самая подлинная Россия! Неужели она уходит от нас? Может быть, для того и уходит, чтоб однажды остановиться. Собраться с силами и, сказать:
- Здравствуй, родина. Я вернулась…
ПЕРЕПОЛОХ
Конюх пьяненький, поэтому не заметил, как из конюшни выбралось на свободу всё её поголовье. И сразу – в соседнее поле, где наливался овес.
Ночь. Луна. Силуэты коней.
Неожиданно сверху рыдающий плач. Встревожились кони. Кто - на дыбы, кто - вскачь, кто – к конюшне.
Стая белеющих птиц. Словно демоны, вот-вот усядутся на коней. И помчатся туда, где хаос.
Беспокойство внизу. Тревога вверху. Птицы летели на корм к болоту. Да разглядели коней, приняв их за грозную силу.
Два встревоженных косяка. Тех, кто скачет, и тех, кто летает.
Было лето. Пахло не только овсами, но и гривами лошадей. Сверху летели легкие перья. Стоял 1963 год. Тогда еще были живые кони. Сейчас коней нет. Однако они, как живые. Их для нас сохранил бессмертный поэт.
ЖДУ
Земля на отдыхе. Солнечно и тихо. Пахнет хлебными полями. Хочется идти куда-то к горизонту, откуда поглядеть на все миры и, улыбнувшись, осознать, что ты живешь. Отдать и чувство благодарности тому, кто тебя вывел в жизнь. И в глубине души почувствовать дорогу, которой ты идешь. Услышать и волнение в груди. Как если бы в ней вместо сердца – бодрый колокольчик. Звенит и обещает рай.
ВОЛНУЯСЬ И ЛЮБЯ
О, вьючный конь! Ты, как никто, трудолюбив, спокоен и обиды ни к кому в себе не держишь. Даже когда всё тело от трудов и проникающих в тебя ремней горит, в придачу мухи с комарами грызут, как собираясь съесть живьем, ты держишься, как мост. Лишь опускаешь мутные глаза и ждешь от мрачного хозяина, когда он вспомнит о тебе и обмахнет твои бока, коли не веником, то потными руками, а то и вынутым из лужи обыкновенным хлёстким батогом.
Невольно вспоминаю Северный Урал, 60-й год и нашего коня, когда он с ящиками на спине, где были инструменты, продовольствие, палатки и овес, шел к новому ночлегу через лес. Пришел под вечер. Был гладкий и гнедой, стал весь облепленный гнусящими гадками. И вот спустя 2-3 часа конь сладко обмирал от голика, которым я давил всё, что его хотело проглотить.
Конь положил мне на плечо гнедую голову. Устал от невнимания людей. И вот вздыхал, как отдавая благодарность и привет моим рукам за то, что не кричал я на него, не бил кнутом, и, как жалея, по-человечески оберегал от тех, кто его грыз. К тому же я с ним разговаривал на лошадином языке. Не знал его, а что-то говорил, и конь меня за это, кажется, журил.
Вот и в последний раз я протянул ему горбушку хлеба, которую он съел не сразу. Сначала покосился на меня, потом вздохнул, и перед тем, как взять горбушку мягкими губами, неловко, но старательно ее поцеловал.
Я до сих пор – (а сколько лет прошло?!) – так и не понял: зачем он так, волнуясь и любя?..