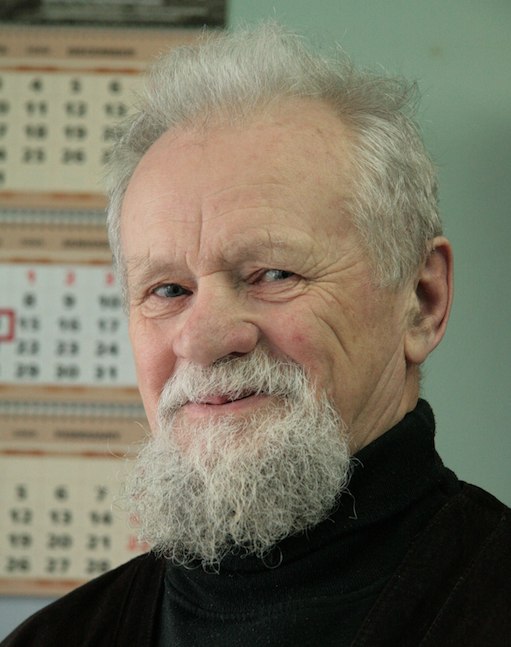Сухона. Лодка с тремя пассажирами и собакой. С левого берега – и куда? Такие вопросы Рубцов задавал себе постоянно. В них таилось его желание понять свою родину до конца. От рождения до кончины, которой, как он утверждал, никогда-никогда не будет...
Не так уж часто, однако поэты нашу редакцию навещали и горячо читали свои стихи. К лучшим художникам слова мы относили тех, кто умел написать стихотворным размером что-нибудь про сегодняшний день. Нам везло на поэтов высокого роста, с громким голосом и стихами, которые звали куда-то вперёд. Потому Николай Рубцов при его лысоватости, скромном костюме, рубахе без галстука встречен был несерьёзно, точь-в-точь заурядный селькор, который пишет в газету заметки.
Провинциальный снобизм хорошо затаился у нас под личиной усталого выражения, с каким мы разглядывали поэта, не уверенные ни в чём. Удивительно то, что и я поддался внешнему виду, как будто вчера и не слышал Рубцова, и полагал, что сейчас у него что-то выйдет не так.
Но вот он поднялся.
- Букет, - сказал и, смущаясь, начал читать. Читал напряжённо и монотонно. Мне почему-то стало не по себе. Однако тревожился я напрасно. Рубцов умел, как никто, справляться с ненужным волнением. Умел увлекаться и увлекать. Голос его наполнился лёгкостью взлёта, стал ясным, естественным и красивым. Нас было немного. На встречу пришли типографские девушки. С нами, газетчиками, не больше 15 человек.
Провинциальный снобизм улетучился, и не усталость украсила наши лица, а робкий румянец предчувствия встречи с необычайным. Слушали мы затаённо и кротко. За окнами - голые ветки, мокрые крыши, словом, грязь и тоска. А мы перепутали время. Стихи открывали калитку в зелёное лето, и нам уже слышен был шорох дождя по траве, громыхание грома, шум ветра в деревьях и запах заплёсканной ливнем реки.
Николай прочёл семь или восемь стихотворений. Держался он очень свободно. По шаловливой усмешке, мелькнувшей в его лице, я как бы учуял готовность Рубцова к какому-то дерзкому озорству. Но нет. Он просто-напросто объявил:
- Последнее стихотворение. Называется «По вечерам».
Мы снова уставились на поэта.
С моста идёт дорога в гору.
А на горе, какая грусть! -
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И всё я слышу с перевала...
Не дочитал Рубцов стихотворение, взглянул на нас, моргая. И виновато замолчал. Мы догадались: сбился. Забыл строку. Старается её найти и не находит. Всем стало как-то скованно и неприлично, точно Рубцов нарочно нас подвёл. Мы ждали, сопереживая. Прошла, наверное, минута. У замредактора не выдержали нервы. Он начал медленно вставать. И тут Рубцов обвёл нас шаловливым взглядом, взмахнул рукой и, точно не было минутной паузы, весёлым голосом докончил:
Как веет здесь, чем Русь жила.
Всё так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена.
- Какие будут вопросы? - спросил замредактора Королёв, снова вставая из-за стола.
Кто-то из девушек рассмеялся, кто-то кивнул головой, а кто-то, смущаясь, спросил:
- А почему вы так долго молчали, когда читали «По вечерам»?
- Потому, что в эту минуту писал другое стихотворение!
- А чем писали?
- Мозгами!
- И написали?
- Не до конца.
- А прочитать нам можете?
Николай согласился.
Я уеду из этой деревни,
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока...
На этом Рубцов закончил читать, несерьёзно пообещав:
- Остальное я дочитаю потом.
Замредактора вышел из-за стола, протянул Николаю две толстые книги.
- Двухтомник Лермонтова, - сказал, - от коллектива редакции, - и пожал Николаю руку. - Успехов вам, Николай Михайлович, на поэтическом поприще!
Тут все мужчины встали со стульев и сгрудились возле Рубцова. Каждый был рад пожать ему руку и пожелать то, чего пожелал Королёв. Я тоже пожал Николаю руку:
- Спасибо тебе, Николай Михайлович!
Рубцов посмотрел на меня удивлённо. А минуту спустя, уже за парадным крыльцом, по дороге на Красную, 2, он сказал укоряющим тоном:
- Перестань меня называть Николаем Михайловичем! Для тебя я всегда буду Коля.
- Но я по инерции. Как и все.
- Как и все, ни к чему. И потом я всегда себя чувствую пожилым, когда меня по имени отчеству называют. А я не желаю быть пожилым. И никогда им не буду.
- Коля! Ты так говоришь, будто тебе известно, сколько ты лет проживешь?
- Немного, - сказал Рубцов убеждённо.
- Но об этом никто не знает! - Остановились мы на обрывистом склоне, и я показал за реку, на дома, берёзы и ёлки, за которыми притаились оградки могил похороненных тотьмичей. - Не знали даже вон и они.
Мы стояли с ним над обрывом реки и смотрели на правый берег по-за деревню Пономарёво, где голубели кладбищенские калитки.
- И я не знаю, - Рубцов повернулся к реке спиной, - однако предчувствую. - Тут он достал из-под мышки толстые книги и задержал на них взгляд. - Лермонтов тоже не знал, что дни его сочтены. И может, поэтому так хладнокровно встретил свою смертельную пулю. Почему-то об этом никто из поэтов не написал.
- Напиши тогда ты!
Николай промолчал.
Вечером за столом, за чашкой некрепкого чая он, не спеша, перелистывал книги. Читал. Иногда отрывался от чтения, чтобы сказать:
- Какая воля! Какой неистребимый дух! Ведь нет давно, а будто рядом, как живой. И мне с ним хорошо. Ему, наверное, со мной бы тоже было хорошо. Нам было бы чего сказать друг другу. Мне 28 лет. А он жил 27...
Так, рассуждая вслух, Рубцов пил чай, покуривал и снова углублялся в книгу. А после, выходя из-за стола, он положил двухтомник в руки моей мамы.
- Любовь Геннадьевна! - сказал. - Примите! Это в редакции мне подарили! Но я с собой в дорогу взять их не могу. Не потому, что потеряю, а потому, что очень уж они тяжеловаты. А я привык быть налегке. Пусть эти книги будут ваши.
Мама, понятно, отказалась. Но Николай в своей настойчивости был неповторим:
- Запомните: мне книги дарят, и я их оставляю там, где мой ночлег. Не стану же с собой возить я целую библиотеку.
Тут Николай взглянул в окно.
- Сегодня, кстати, лермонтовский вечер. Быть может, мы с тобой, Серёжа, возьмём и выйдем на дорогу, как выходил когда-то на неё поэт.
Ну, разве можно было отказаться!
Прошлись сначала до реки. Потом по Володарской. По Садовой. Мы ни о чем не говорили. Вернее, я чего-то спрашивал. Но Николай не отвечал. Я понял: надо не мешать. Наверно, думает о чём-то личном, куда не хочет никого впускать.
Я был недалеко от истины. Рубцов писал стихи. Он был в счастливом поэтическом ударе. Способствовали этому простреленные в ночь провалы улиц, мерцающие белыми стволами старые берёзы, чей-то идущий по дороге смутный силуэт и тишина. У тишины был удивительный контраст. Она несла в себе потухшие огни заснувшей Тотьмы и вспыхнувшие там и сям зрачки высоких звёзд, глядевшие с небес, как чьи-то настигающие нас глаза.