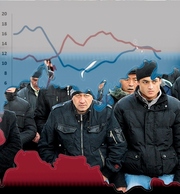1. «Преображение» в поэтическом мире А. Тарковского
Русский религиозный философ Владимир Соловьёв, много размышлявший о природе творчества, в статье «Общий смысл искусства» говорил о произведении искусства как о «превращении физической жизни в духовную»[1], причём художественное произведение есть « ...изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира...»[2] (курсив мой - С.К.). Эта афористически выраженная мысль Соловьёва даёт нам своеобразную формулу искусства как преображения.
Понятие Преображения связано не только с конкретным Евангельским событием, не только с праздником Церкви, - оно является важнейшим понятием христианского богословия в целом. Одним из аспектов этого понятия является аспект эсхатологический: в день Преображения мы видим, какой славой и светом призван воссиять материальный мир в конце времён. Второй аспект этого понятия - антропологический. Можно сказать, что вся христианская антропология своим основанием имеет понятие преображения или обожения человеческой природы, а преображение или обожение человеческой личности - та задача, которая стоит перед каждым верующим христианином.
Можно утверждать, что основой большинства стихотворений А. Тарковского является память о том, что в подлинной человеческой жизни по подобию происходит то же, что происходило с Христом. В наиболее явственном виде мы встречаемся с этой памятью в стихотворении «Как Иисус, распятый на кресте»:
Как Иисус, распятый на кресте,
Зубец горы чернел на высоте
Границы неба и приземной пыли,
А солнце поднималось по кресту,
И все мы, как на каменном плоту,
По каменному океану плыли.
Так снилось мне.
Среди каких степей,
В какой стране, среди каких нагорий
И чья душа, столь близкая моей,
Несла своё слепительное горе?
И от кого от пращуров моих
Я получил наследство роковое -
Шипы над перекладиной кривою,
Лиловый блеск на скулах восковых
И надпись над поникшей головою? [2, c. 70][3].
В первых двух строках стихотворения мы сталкиваемся с неожиданным сравнением: «зубец горы» сравнивается с Распятым на кресте Христом. Как кажется на первый взгляд, этот образ имеет чисто зрительную природу, а неожиданность сопоставления «снимается» тем, что перед нами - реальность сна. Дальнейшее развитие сюжета стихотворения - своего рода «распространение» этой реальности, которое дано в категориях земного и небесного начал. Но логика сна приводит к прямому отождествлению горного пика и креста, являющегося центром мира: по кресту «поднимается солнце», а у подножия его - всё человечество. Вторая часть стихотворения переводит действие из плана внешней действительности, как бы увиденной со стороны, в план внутренний. А. Тарковский говорит о таинстве своей жизни, своей души, которая «по подобию» переживает то же, что переживал Господь в Своём распятии.
В поэтическом языке А. Тарковского довольно часто мы встречаемся с употреблением самого слова «преображение», его производных и синонимов. Так, в стихотворении «Новогодняя ночь» мы читаем:
Я не буду спать
Ночью новогодней.
Новую тетрадь
Я начну сегодня.
Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья... [1, c. 239]
В первом стихотворении цикла «После войны» возникает образ метаморфозы телесного облика человека, аналогичный росту и распространению дерева в пространстве; в результате меняется, преображается опыт дыхания:
...Лёгкие мои
Наполнил до мельчайших альвеол
Колючий спирт из голубого кубка,
И сердце взяло кровь из жил, и жилам
Вернуло кровь, и снова взяло кровь,
И было это как преображенье
Простого счастья и простого горя
В прелюдию и фугу для органа. [1, c. 140]
Но в процитированном отрывке стихотворения даже не одно, а два преображения, которые сравниваются друг с другом. Второе преображение, о котором речь идёт в последних двух строках, - своеобразная формула не только музыки, но искусства в целом.
Понятие преображения может выражаться и другими словами. В стихотворении «Малютка-жизнь» труд поэта, как и в стихотворении «Новогодняя ночь» - это воплощение человека в слово:
Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово. [1, c. 173]
Ещё один синоним преображения - превращение. Именно так называется одно из стихотворений А. Тарковского, где преображение человека связано со стремлением соединить в себе небо и землю.
И пожелал я
лёгкости небесной,
Сестры чудесной
поросли древесной.
И - Бог свидетель - я открыл лицо,
И ласточки снуют, как пальцы пряхи,
Трава просовывает копьецо
Сквозь каждое кольцо моей рубахи.
Лежу, -
а жилы крепко сращены
С хрящами придорожной бузины. [1, c. 231]
На стихотворении «Превращение» следует остановиться подробнее, потому что оно ставит перед исследователем творчества А. Тарковского вопрос: как соотносится принцип метаморфозы, свойственный античному искусству и безусловно используемый поэтом, с принципом преображения, о котором мы говорим. Для ответа на этот вопрос необходимо пристально рассмотреть не только стихотворение «Превращение», но и другие стихи А. Тарковского, в которых так или иначе представлено явление метаморфозы. Так, третья строфа стихотворения «Когда под соснами, как подневольный раб...» отсылает читателя к метаморфозе, которая происходит в греческом мифе с Гелиадами - дочерьми бога солнца Гелиоса и сёстрами Фаэтона, который погиб, не справившись с колесницей своего отца. В мифе говорится о том, что, оплакав Фаэтона, его сёстры превращаются в тополя, а их слёзы - в янтарь. Две последние строки стихотворения («Земля глотает кровь, и сёстры Фаэтона / Преображаются и плачут янтарём» [1, c. 319]) как раз и отсылают нас к греческому мифу. Здесь слово «преображаются» на первый взгляд обозначает простую метаморфозу. Но целью А. Тарковского совсем не является пересказ мифа, тем более что мифологический слой открывается только в третьей строфе, и после её прочтения необходимо вернуться к началу стихотворения, чтобы увидеть мифологическую подоплёку первых двух строф. А. Тарковский как бы «накладывает» собственную судьбу на греческий миф, отождествляя себя с Фаэтоном, падающим на землю, соединяющегося с землёй. Поэт пересоздаёт миф: новый Фаэтон, падая на землю, входит в неё всем своим огненным составом («И разве это я ищу сгоревшим ртом / Колен сухих корней...», проникает в плоть земли («Земля глотает кровь») и тем самым пересоздаёт, преображает её. Знаком этого преображения становятся сосны (они упоминаются и в первой, и во второй строфе, в мифе же никаких сосен нет), которые «плачут янтарём». А. Тарковский соединяет «реальный» план бытия (источником янтаря является окаменевшая смола сосен), древнегреческий миф и собственный миф о Фаэтоне в одно целое. В результате происходит своеобразная «обратная метаморфоза»: не Гелиады превращаются в тополя, а сосны превращаются в сестёр Фаэтона. Причина же их преображения - вхождение «небесного» в «земное», и совершается оно благодаря жертвенному страданию, смерти Фаэтона-поэта.
В стихотворении «О, только бы привстать, опомниться, очнуться...» мы встречаем подобный же лирический сюжет: вхождение (будущее) человека в стихию земли должно привести к особому её преображению: она должна обрести дар речи, стать продолжением жизни поэта:
Дай каплю мне одну, моя трава земная,
Дай клятву мне взамен - принять в наследство речь,
Гортанью разрастись и крови не беречь,
Не помнить обо мне и, мой словарь ломая,
Свой пересохший рот моим огнём обжечь. [1, c. 209]
Можно сказать, таким образом, что понятие преображения - одно из важнейших понятий художественного мира А. Тарковского.
Целый пласт творчества А. Тарковского даёт возможность увидеть преображённый мир, живущий по законам любви и красоты. Такие стихотворения, как «Первые свидания», «Белый день», «Словарь», «Я учился траве, раскрывая тетрадь...», «Ода», «Посредине мира», «Шиповник», «Река Сугаклея уходит в камыш...», «Явь и речь», «Городской сад», «Приглашение к путешествию», «До стихов», поэма «Чудо со щеглом» и др. пронизаны светом преображения, который бросает свой отблеск на всё творчество в целом. Преображённый мир явлен поэту в трёх состояниях: в переживании любви, в воспоминаниях о детстве, в творчестве. Наиболее яркий «вариант» преображённого мира раскрывается перед нами в стихотворении «Первые свидания». Мы рассматривали это стихотворение в контексте анализа категорий «земное» и «небесное». Но оно является ключевым текстом и для адекватного понимания категории преображения в разных её аспектах.
Первые две строки этого стихотворения говорят нам о любви как о Богоявлении: «Свиданий наших каждое мгновенье / Мы праздновали как Богоявленье...» [1, c. 218]. Слово Богоявление, так же, как и преображение, имеет два значения. Первое значение этого сложного слова естественно складывается из суммы входящих в него компонентов. В церковном же языке это слово обозначает праздник Крещения Господня, поскольку в момент Крещения Иисуса Христа были явлены все три Лица Святой Троицы. В контексте стихотворения слово «богоявление» имеет сложный смысл: с одной стороны, это метафорическое обозначение любви, с другой - реальное явление Бога любящим друг друга людям (что поддерживается в дальнейшем развитии сюжета образами алтарных врат, ассоциативным соотнесением героя стихотворения с понятиями священства и царства); кроме того, значение Богоявления как Крещения тоже присутствует в стихотворении (в праздник Крещения, как мы знаем, изменяется само естество водной стихии, а в стихотворении мы встречаемся с парадоксальным образом «слоистой и твёрдой» воды: «На свете всё преобразилось, даже / Простые вещи - таз, кувшин, - когда / Стояла между нами, как на страже, / Слоистая и твёрдая вода» [1, c. 218]. Ещё один пласт значения этого слова выражает интуицию причинно-следственной связи Боговоплощения и Преображения. Образы преображения мира, человека и слова пронизывают всю ткань стихотворения.
В «Первых свиданиях» мы наблюдаем ряд трансформаций отдельных художественных предметов. В первой части, например, появляется лестница, по которой спускаются в сад герои этого стихотворения. Но это не просто лестница, но некий мост, соединяющий землю и небо. Поток нисходящего движения присутствует уже в слове «богоявление», образ же лестницы материализует это схождение неба на землю. Пространство дома тоже преображено: оно превращается в царство, существующее в особом пространстве «с той стороны зеркального стекла», владычицей которого является возлюбленная поэта. Мы можем восстановить гипотетический реальный план стихотворения, план действительности: сначала происходит встреча влюблённых, потом - их путь сквозь заросли влажной сирени к дому, дверь которого - стеклянная или зеркальная, а за этой дверью - комната. Но главное здесь не сам реальный план, а его преображение - та символическая реальность, внутри которой сирень - не просто сирень, а сгусток синего света вселенной, тело возлюбленной - это алтарь, врата которого отворены, а сама она - Царица и Владычица мира. В каком-то особом сакральном плане стихотворения образ возлюбленной соотносится не только с образом царицы. Отталкиваясь от представления А. Потебни о стихотворении как слове[4] и от понятия этимологии слова, можно попытаться установить «духовную этимологию» этого стихотворения. Как мы видим, весь словесный рисунок, передающий духовно-телесные отношения с возлюбленной («Когда настала ночь, была мне милость / Дарована, алтарные врата / Отворены, и в темноте светилась / И медленно клонилась нагота» [1, c. 217]) восходит к библейской священной эротике «Песни песней» Соломона. В «Первых свиданиях» вслед за процитированными выше строками мы читаем: «И, просыпаясь: "Будь благословенна!" - / Я говорил и знал, что дерзновенно / Моё благословенье: ты спала, / И тронуть веки синевой вселенной / К тебе сирень тянулась со стола» [1, c. 217]. Эти строки можно было бы органично продолжить стихами «Песни Песней»: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно» (Песн., 3, 5). Далее в стихотворении мы встречаемся с чудом преображения слова, и даже самое простое местоимение «ты», относящееся к герою, «открывает свой новый смысл» и означает - царь. В «Песни Песней» мы читаем: «Влеки меня, мы побежим за тобою: - царь ввёл меня в чертоги свои, - будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино...» (Песн., 1, 3). В другом стихе «Песни» повторяется тот же образ: «Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце» (Песн., 3, 11).
В христианской традиции принято символическое толкование «Песни Песней» царя Соломона. Та любовь, которая представлена в этой библейской книге, так чиста, глубока и возвышенна, что никакое человеческое сердце не может воплотить её всецело. Такая любовь во всей её полноте возможна только для Божества. Поэтому в «Песне Песней» дан пророческий образ любви Христа к Церкви, Божественного Жениха - к его земной Невесте. В стихотворении А. Тарковского, конечно, нет прямой соотнесённости с христианской экзегетикой. Но целый ряд словесных знаков, символов, аллюзий задают определённый вектор понимания в этом ключе. Эти знаки и символы сосредоточены в смысловом центре стихотворения:
А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне... [1, c. 217]
Возлюбленная изображена сидящей на троне с хрустальной сферой в руке, в которой заключено всё мироздание. Так изображают цариц, но так изображается и Богородица (Например, образы «Всецарица», «Державная» и др.). Богородица, соткавшая человеческое тело Христу, и Церковь как Тело Христово соотносятся. Примечательно, что возлюбленную поэта звали Мария, и это имя, не названное в стихотворении, таинственным образом присутствует в проанализированных нами символах. Это не кощунство и не снижение непостижимых христианских истин, а осмысление и возвышение земной любви до небесных высот, её преображение. «Преображённая» любовь сама становится источником преображения.
Если мы обратимся к композиции стихотворения, то увидим, что в духовном плане она имеет кольцевой характер. Если в первых строках стихотворения перед нами - богоявление, то в конце - теозис, обожение. Осуществляется основная цель богоявления - преображение человека и мира. Интуиция связи Боговоплощения и Преображения у А. Тарковского не случайна.
В стихотворении «Шиповник» перед читателем тоже встаёт образ преображённого мира. Мы встречаемся здесь с образом замкнутого пространства - сферы, шара, внутри которого, как дивное повторение гармонии вселенной, - куст цветущего шиповника. Образ шиповника разворачивается в символах и метафорах, связанных прежде всего с явлениями света и музыки. В первой строфе мы читаем: «Я завещаю вам шиповник, / Весь полный света, как фонарь» [1, c. 228]. Шиповник полон света, и здесь перед нами скрытая отсылка к библейской Неопалимой Купине - Кусту, который горел, но не сгорал.
Во второй строфе возникает музыкальный мотив. В цветущем кусте, несмотря на кажущийся звуковой разнобой, спрятано стройное, гармонически организованное музыкальное начало («Едва калитку отворяли, / В его корзине сам собой, / Как струны в запертом рояле, / Гудел и звякал разнобой» [1, c. 228]).
В третьей строфе перед нами разворачивается удивительное действо: сонм снующих насекомых в световом луче превращается (преображается) в нисходящих и восходящих по лествице ангелов. Самого слова «ангел» в стихотворении нет, но присутствует образ лествицы - лестницы («ступени светотени») и слово «видение», которые и отсылают нас к видению Иакова из Книги Бытия: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят на ней. И вот Господь стоит на ней и говорит...» (Быт. 28, 12-13). Видение насекомых-ангелов окутано радужным сиянием, а радуга является в Библии знаком Завета Бога и мира. В книге Бытие после потопа появляется радуга, и Господь говорит: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землёю» (Быт. 9, 13). Кстати сказать, с точки зрения оптики в реальном плане бытия радуга сама по себе - «преображение» белого цвета. Характерно, что и сам белый цвет, как в православной иконографии, у А. Тарковского устойчиво соотносится с образом рая.
Возвращаясь к «радуге видений», снующей «вдоль и поперёк луча», из стихотворения «Шиповник», мы должны напомнить о двойном смысле этого образа. Это, как мы уже сказали, и образ, имеющий библейские корни, и реальный образ переливающихся разными цветами крыльев бабочек и мотыльков. Радужное «сплетенье линий, лепет пятен» - воплощение любви, которой пропитан весь воздух стихотворения.
Куст шиповника, явленный нам в стихотворении А. Тарковского, - это ещё и весть, послание читателю, благая весть о рае. Перед нами мир в его преображённом состоянии.
Человек - и его телесная природа, и духовная ипостась тоже предстают перед нами в поэзии А. Тарковского в свете преображения. Как мы уже показали выше, телесный образ человека, концепция человеческого тела формируется в поле тяготения двух центральных категорий мироощущения поэта - категорий «земное» и «небесное». Человек занимает центральное положение во Вселенной, он соединяет своим телом небо и землю. В стихотворении «Руки» перед нами человек-символ, человек-задание, человек «чаемый», Человек, соединяющий собой и в себе небо и землю, по существу своему - Богочеловек. Реально таким Человеком, соединившим в себе небо и землю, божественное и человеческое, был и есть Христос, а простой человек, уподобляясь Ему, преображается. Подтверждением этой мысли служит образ человека из стихотворения «Посредине мира». В первой строфе стихотворения перед нами предстаёт подобный проанализированному выше телесно-духовный «антропологический портрет» человека, метафорически явленный не в образах «вертикального», а в образах «горизонтального» измерения, поскольку происходит «сращение» пространственного и временного аспектов в передаче таинственного человеческого бытия:
Я человек, я посредине мира.
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звёзд.
Я между ними лёг во весь свой рост -
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост. [1, c. 172]
Вторая строфа стихотворения погружает нас в определённый христианский контекст: имена преподобного летописца Нестора и пророка Иеремии задают новую парадигму восприятия. В этой же строфе соположены два образа: России и «нищего царя», что, несомненно, является отсылкой к стихотворению Ф. Тютчева, в котором представлены те же образы: «...всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя». Как мы видим, символ поэта - «нищего царя» несёт в своём ассоциативном поле связь с образом Христа. Эта связь поддерживается и самим оксиморонно-антиномическим словосочетанием «нищий царь», традиционно закреплённым в христианской традиции, и строками третьей строфы стихотворения («Я больше мертвецов о смерти знаю, / Я из живого самое живое»), в которых явлена поэтическая метаморфоза евангельского повествования о смерти Христа за весь род человеческий, Его сошествия во ад и Его воскресения.
Таким образом, глубинной причиной «закрепления» в разных стихотворениях А. Тарковского подобного образа человека является категория преображения, ибо задача человека и путь его в земном мире - уподобление Христу. Характерно, что в стихотворении «Посредине мира» А. Тарковский видит, что чаемое преображение ещё не совершилось, оно остаётся задачей человека, и потому завершают стихотворение такие строки: «И - Боже мой! - какой-то мотылёк, / Как девочка, смеется надо мною, / Как золотого шёлка лоскуток» [1, c. 172]. Сияние целостной жизни без «трещины в бытии» противопоставлено здесь трагизму расколотого человеческого существования. Но образ мотылька в этом стихотворении имеет ещё один пласт. Анализируя стихотворение «Шиповник», мы показали, что образы насекомых - бабочек, мотыльков связаны с образами ангельского мира. Эта связь является в художественном мире А. Тарковского устойчивой, постоянной. Достаточно процитировать строки из стихотворения «Мотылёк»: «В чистом пузырьке / Кровь другого мира / Светится в брюшке / Мотылька-лепира» [1, c. 171].
Итак, категория преображения формирует как телесный, так и духовный образ человека в поэзии А. Тарковского. Речь в стихах А. Тарковского, конечно, идёт не о некоем абстрактном «человеке», он пишет прежде всего о себе. Но А. Тарковский переживает мир и самого себя прежде всего как поэт, поэтому так важно увидеть, как осмысливается образ поэта в поэзии А. Тарковского в свете преображения. Стихотворение «К стихам» даёт нам формулу преображения поэта в пророка:
И я раздвинул жар берёзовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый,
И как пророк заговорил. [1, c. 64]
В другом стихотворении А. Тарковский пишет: «Но ожил у меня на языке / Словарь царя Давида» [1, c. 131]. В художественном мире А. Тарковского существует целая парадигма библейских образов святых и пророков, соотносимых с образом поэта. Это и Даниил, и Иеремия, и Исайя, и Иаков, и Пётр, и Иоанн Креститель. Понимание задачи поэта как пророческого служения восходит, безусловно, к «Пророку» А. Пушкина. Тот «смертно-животворный процесс», который происходит с поэтом, превращая его в пророка, и есть процесс преображения. В трагически заострённом варианте это преображение описывается в стихотворении «Я по каменной книге учу вневременный язык»:
Я по каменной книге учу вневременный язык,
Меж двумя жерновами плыву, как зерно в камневерти,
И уже я по горло в двухмерную плоскость проник,
Мне хребет размололо на мельнице жизни и смерти.
Что мне делать, о посох Исайи, с твоей прямизной?
Тоньше волоса плёнка без времени, верха и низа.
А в пустыне народ на камнях собирался, и в зной
Кожу мне холодила рогожная царская риза. [1, c. 287]
В этом стихотворении мы находим своеобразную реализацию метафоры «идти путём зерна». Сам образ восходит к евангельской притче о погибающем и воскресающем зерне. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).
В поэтической философии старшего современника А. Тарковского В. Ходасевича, поэта, которого ценил и на творчество которого опирался А. Тарковский, «путём зерна» идёт всё сущее, в том числе и сам поэт. Третья книга стихов В. Ходасевича так и называется «Путём зерна».
У Тарковского поэт тоже идёт «путём зерна», но у него смерть зерна иная. Здесь воплощается трагический опыт поэта второй половины ХХ века. Зерно, через образ которого решается образ человека, не бросается в землю, а размалывается. Это размалывание как будто бы говорит нам о смерти без воскресения. Но мука - это будущий хлеб, и, поскольку мы находимся в библейском контексте, логика развития этого образа ведёт к жизни - к Хлебу Жизни. Путь превращения в Хлеб Жизни - это путь страдания, путь жертвы, и только он даёт пророческую силу, пророческое слово и пророческий дар. Путь страдания приводит поэта к тому, что в руках его оказывается «посох Исайи», одного из величайших пророков Ветхого Завета. В стихотворении «посох Исайи» является символом пророческого слова поэта, указывающего путь народу, слова, которое, как манна, как хлеб небесный, необходимо людям, находящимся в духовной пустыне.
Вообще отношение Арсения Тарковского к поэтическому слову отмечено особым, можно сказать, священным трепетом и напряжённым поиском «Адамовой тайны», тайны соответствия слова и предмета.
2. «Философия слова» А. Тарковского
В эссе «Тайна Марии Петровых», написанном как предисловие к книге стихотворений «Предназначенье» [2, c. 259], А. Тарковский пишет: «Тайна поэзии Петровых - тайна сильной мысли и обогащённого слова...» [2, c. 196]. Эта формулировка чрезвычайно важна для поэта, который исповедует в своей поэзии принцип «сложной простоты». Для доказательства своей мысли А. Тарковский цитирует строфу из сонета Марии Петровых и комментирует её следующим образом: ««За окном шумит листва густая - / И благоуханна, и легка, - / Трепеща, темнея и блистая / От прикосновенья ветерка...»
Слова из обычного литературного лексикона приобретают новую напряжённость, новое значение. Они наэлектризованы. Да ещё найдена и новая реалия: листва под ветром и впрямь темнеет и блистает. Здесь главенствующее - не "распространённая метафора", а каждое слово само по себе метафорично. Рисунок стихотворения полон света и свежести» [2, c. 196].
Мысль о том, что каждое слово языка «больше себя самого», что слово само по себе - троп, неоднократно в разных вариантах появляется в эссеистике А. Тарковского. В статье «О поэтическом языке» А. Тарковский возвращается к идее, которую он высказывает в эссе о М. Петровых, и пишет о том, что даже в словаре «слово шире понятия, заключённого в нём» [2, c. 223]. Важно в этой мысли то, что А. Тарковский говорит не просто о поэтическом слове, но обращается к природе слова вообще, слова как артефакта: «...слово <...> по своей природе <...> - метафора, троп, гипербола» [2, c. 223]. В эссе об А. Ахматовой А. Тарковский афористически точно формулирует проблему двойного существования слова (в языке вообще и в поэтическом языке в частности): «Ахматова говорит, а не поёт, её орудие - слово... Слово её пришло из житейского словаря, но в стихотворении оно обогащено, потому что, метафорическое в своей основе, каждое своё слово художник ввергает в общий поток стихотворения, придаёт слову способность жить взаимосвечением в сложном движении целого» [2, c. 219]. В этой же статье поэт, обращаясь к поэзии О. Мандельштамма, говорит: «Так, Мандельштам, оставив у себя на вооружении классические стихотворные размеры, строфику, влагает в них новую "подформу", порождённую словесно-ассоциативным мышлением, вероятно, предположив, что каждое слово даже в обособленном виде - метафора (особенно в нашем языке) и работает само за себя» [2, c. 221].
И, наконец, в эссе «Что входит в моё понимание поэзии» А. Тарковский пишет: «Есть слова в языке, которые уже сами по себе поэзия, потому что в них уже есть произведённый выбор: звезда, корабль, соль - может быть, весь язык. Но сообразно вкусам - особенно несколько слов» [2, c. 205].
А. Тарковский не философ, а поэт, но его чувство слова зиждется на интуиции, которая раскрывает особую роль слова в бытии мира. Прежде всего обратим внимание на ту настойчивость, с которой А. Тарковский называет слово как таковое, любое слово, «метафорой», «гиперболой», «тропом», хотя с точки зрения собственно лингвистики такое понимание и определение слова просто невозможно. Но что же чувствует поэт в слове, давая ему такое определение? Прежде всего, слово, понимаемое как троп, не равно самому себе, оно как бы «больше» себя. Метафора, согласно мысли А. Лосева, «...не указывает ни на что другое, что существовало бы помимо её самой»[5]. А. Тарковский не удовлетворяется определением слова как метафоры, он говорит и о том, что слово является и гиперболой, и тропом в целом, то есть энергетическое поле слова распространяется по вертикали (слово - гипербола), и по горизонтали (слово - троп). Таким образом, слово «указывает» на что-то другое, обращено не только само на себя. Здесь мы подходим к пониманию слова как символа.
Таким образом, интуитивные прозрения А. Тарковского, связанные с его пониманием природы слова и языка в целом, касаются той области философии, которая получила сильнейший импульс в десятые-двадцатые годы ХХ века в России в «имяславских» концепциях и представлена прежде всего именами А. Лосева, о. Павла Флоренского и о. Сергия Булгакова.
Так, у А. Тарковского есть стихотворение, которое даже названием своим совпадает с известной работой о. Павла Флоренского. Это стихотворение «Имена». Первая часть этого стихотворения представляет собой своеобразный парафраз тех мыслей, которые высказывает о. Павел в одноименной работе.
А ну-ка, Македонца или Пушкина
Попробуйте назвать не Александром,
А как-нибудь иначе!
Не пытайтесь.
Ещё Петру Великому придумайте
Другое имя!
Ничего не выйдет.
Встречался вам когда-нибудь юродивый,
Которого не звали Гришей?
Нет, не встречался, если не соврать.
И можно кожу заживо сорвать,
Но имя к нам так крепко припечатано,
Что силы нет переименовать,
Хоть каждое затёрто и захватано.
У нас не зря про имя говорят:
Оно -
Ни дать ни взять родимое пятно. [1, c. 268]
Основная мысль о. Павла Флоренского состоит в том, что имя есть субстанциальная или эссенциальная форма личности, особая личностная категория, через которую можно познать носителя имени. П. Флоренский пишет: «Имена и должны быть рассматриваемы, как <...> инварианты личности. Чрезвычайно далёкие от какой-либо прямой связи с внешне учитываемыми признаками, даже группами таких признаков, невыразимые слова, они, однако определеннее всего ухватывают самые главные линии личностного строения в их индивидуальной целостности»[6]. В процессе культурологического, эстетического, философского анализа, которому подвергает П. Флоренский имя - этот «архетип духовного строения личности»[7], - философ показывает, что имя обладает формообразующим личностным началом, которое по-своему формирует, направляет, выстраивает личность.
В стихотворении «Имена» присутствует и философско-антропологический аспект размышлений поэта, который проявлен во второй части стихотворения:
...................................................
Недавно изобретена машинка:
Приставят к человеку, и глядишь -
Ушная мочка, малая морщинка,
Ухмылка, крылышко ноздри, горбинка, -
Пищит как бы комарик или мышь:
- Иван!
- Семён!
- Василий!
Худо, братцы,
Чужая кожа пристаёт к носам.
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам. [1, c. 268-269]
На первый взгляд, во второй части, которая даже по особенностям своего строения противоположна первой (первая часть стихотворения - нерифмованная, вторая - рифмованная) содержится «опровержение» мысли о том, что духовный тип личности полностью выражен в имени. Но это только на первый взгляд. Как нам представляется, мысль А. Тарковского здесь состоит в том, что человек ХХ века утратил свою цельность, и «скрепа» имени распалась; метафорически это выражено в том, что каждая часть тела человека носит своё имя. Перед нами - ещё один поэтический «вариант» проблемы распада, раздробленности личности.
Подобное же совпадение, как нам представляется, существует и между восприятием слова как онтологической основы мира в философии о. Сергия Булгакова и в миросозерцании А. Тарковского.
В первой главе «Философии имени» «Что такое слово?» С. Булгаков раскрывает сущность слова как антропокосмического феномена. Философ затрагивает различные аспекты этого феномена: проблему «внутреннего» и «внешнего» слова, символической природы слова, соотношения вещи и слова, его формы и смысла и т.д.
С. Булгаков пишет: «Ближайшее всматривание в природу слова показывает нам, что оно подобно произведению искусства, или, почему же не сказать прямо, есть произведение искусства...»[8]. Эта мысль непосредственно совпадает с интуицией А. Тарковского («каждое слово - метафора, гипербола, троп»).
В стихотворении «Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был» А. Тарковский пишет: «Больше сферы подвижной в руке не держу, / И ни слова без слова я вам не скажу. / А когда-то во мне находили слова / Люди, рыбы и камни, листва и трава»[9]. Последние две строки имеют свой философский аналог в размышлениях С. Булгакова о том, что язык - это язык самих вещей, их собственная идеация[10]. О. Сергий Булгаков пишет: «Слово космично в своём естестве, ибо принадлежит не сознанию только, где оно вспыхивает, но бытию, и человек есть мировая арена, микрокосм, ибо в нём и через него звучит мир, потому слово антропокосмично <...>. Наречия различны и множественны, но язык один, слово едино, и его говорит мир, а не человек, говорит мирочеловек»[11]. Идея о том, что в слове по отношению к субстанции есть то, что выявлено из глубины бытия, неоднократно в разных вариантах раскрывается в главе «Что такое слово?». Именно в этом ракурсе С. Булгаков анализирует и тот сюжет из Книги Бытия, где Адам даёт имена животным: «В этом смысле понятен рассказ книги Бытия о том, как Бог привёл к Адаму всех животных, чтобы видеть, "как он назовёт их"» (Быт. 2, 19), т.е., иначе можно сказать, как они сами назовут себя через него и в нём (курсив мой - С. К.), ибо он, как человек, как микрокосм, бытийно всех их имел в себе как носитель божественного Логоса, как образ Божий, он имел в себе силу идеации мира, в нём рождалось мировое слово. Почему и прибавлено: «И как Адам назвал каждое живое существо, таково было имя его». Здесь не могло произойти никакой ошибки, ибо не было субъективности: имена тварей звучали в человеке как их внутренние слова о себе, как самооткровения самих вещей»[12]. И далее: «Язык дан человеку потому, что в нём и через него говорит вся вселенная, он есть логос вселенной, и всякое слово не есть только слово данного субъекта о чём-то, но слово самого чего-то»[13] (курсив мой - С. К.). Лучшего комментария к стихам А. Тарковского просто нельзя себе представить. Кроме того, в разных стихотворениях А. Тарковского проанализированный С. Булгаковым эпизод из Книги Бытия является главным смыслообразующим элементом. Стихотворение «Я учился траве, раскрывая тетрадь» в интересующем нас аспекте - своеобразный сгусток поэтической философии слова А. Тарковского:
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка - слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав. [1, c. 65]
В первой части стихотворения перед нами поэтическая картина самооткровения бытия, его лицо, некие голоса природного мира, живые клетки организма вселенной. Выстраивание определённых метафорических соответствий (трава - флейта, стрекоза - комета, крыло стрекозы - радуга, росинка - слеза) даёт нам целостную картину единства мироздания, в котором звучит гимн Творцу (отсюда - музыкальные образы зелёных ладов травы, травы-флейты). В этом сложном единстве не исчезает, однако, индивидуальный смысл каждого явления, напротив, он оформляется и выявляется посредством метаморфозы. Логосы тварного мира, оставаясь самими собой, сливаются в едином гармоническом аккорде «осанны». При этом каждый логос всецело отдаёт себя другим (в этом и заключается суть метаморфозы) и становится возможной метафорическая связь росинки со слезой, стрекозы с радугой и кометой, травы с флейтой. Закон единства вообще, а метафорического единства в частности, таким образом, опознаётся нами как закон взаимной любви. Познание человеком мира, логосов бытия, происходит через слово.
Именно так эта проблема решается в философии слова С. Булгакова. Истоки же такого подхода лежат в святоотеческой традиции. Св. Григорий Богослов говорит: «Я беседую с Творцом и постигаю логосы творения»[14]. «Вникая в логосы тварей» св. Григорий описывает «весь этот мир, небо, землю, море, эту великую и преславную книгу Божию, в которой открывается <...> Бог»[15]. Для св. Максима Исповедника весь мир логосен и всё в мире логосно. «Бог создал первые логосы вещей и сущностей всего существующего»[16]. Св. Максим призывает к «исследованию этих духовных логосов видимых тварей»[17]. Он высказывает мысль о том, что «надо расшифровывать таинственную криптограмму бытия»[18]. Своеобразную расшифровку таинственной книги природы мы находим в анализируемом стихотворении.
«Горящее слово пророка» - расшифрованная криптограмма бытия. Это слово пророка и является раскрытием Адамовой тайны, о которой говорит А. Тарковский. Суть её - в наречении имён, когда имя-слово всецело выражает логос. Конечно, поэт может только приближаться в своём творчестве к этой тайне, но никогда после грехопадения в своей земной жизни человек не может обрести той духовной незамутнённости взора, которая была у первозданного Адама. Оказывается, что даже слово поэта ущербно, оно не обладает той силой и властью, которая некогда была изначально дана человеку. Отсюда - строка «В четверть слуха я слышал, в полсвета я видел».
Одним из ключевых мотивов поэзии А. Тарковского является осознание того, что язык природы, своеобразные «логосы» листьев, воды, травы, звёзд, бабочек, стрекоз и т.д. недоступны и неподвластны человеку и его слову. Об этом стихотворение «Мне опостылели слова, слова, слова»:
Мне опостылели слова, слова, слова.
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь о крышу
В отрепьях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу
И неразборчива ночная речь вдовства.
Меж нами есть родство. Меж нами нет родства.
И если я твержу деревьям сумасшедшим,
Что у меня в листве по локоть рукава,
То кроме стона, им уже ответить нечем. [1, c. 320]
В некоторых стихотворениях А. Тарковский делает попытку прорваться сквозь пелену, отделяющую человека от сокровенной тайны природы. Эта попытка преодолеть расколотое состояние мира даёт возможность передать своё слово в наследство природе:
Дай каплю мне одну, моя трава земная,
Дай клятву мне взамен - принять в наследство речь,
Гортанью разрастись и крови не беречь,
Не помнить обо мне, и, мой словарь ломая,
Свой пересохший рот моим огнём обжечь. [1, c. 330]
Только мгновения высшего откровения или предельного страдания, переживания опыта смерти при жизни, позволяют услышать «круглого яблока круглый язык», «белого облака белую речь», как о том говорится в стихотворении «Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был»:
Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был,
И что я презирал, ненавидел, любил.
Начинается новая жизнь для меня
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.
Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей.
И уже наконец над собою стою.
Отделяю постылую душу мою,
В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя - на него.
Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,
Сновидения ночи и бабочки дня.
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!
Я читаю страницы неписанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,
Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не сумею сберечь. [1, c. 73-74]
Явления и вещи мира глаголят, сообщают о себе нечто, что совпадает с их метафизической сущностью, они превращаются в некие символы вечного бытия, которые, как на экране, отпечатываются на психофизическом организме мира и человека.
Но тайна слова, как и тайна преображения, в поэзии А. Тарковского раскрывается в опыте творчества, в опыте страдания и смерти, в опыте любви. Так, в стихотворении «Первые свидания» речь идёт о преображении слова, когда простое местоимение «ты» открывает «свой новый смысл»:
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты открыло
Свой новый смысл и означало: царь. [1, c. 217]
Преображение мира и языка, о котором мы читаем в стихотворении, - результат богоявления: «Свиданий наших каждое мгновенье / Мы праздновали, как богоявленье...». Человек может произнести настоящее слово, когда он царь, пророк или священник в одном лице. Это царское призвание человека не отменяется и среди тщеты и нищеты эмпирической жизни. Поэтому так часты у А. Тарковского строки, где он говорит о себе как о царе и пророке.
Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия,
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь. [1, c. 172]
И, может быть, семь тысяч лет пройдет,
Пока поэт, как жрец, благоговейно
Коперника в стихах перепоет... [1, c. 192]
Пророческая власть поэта
Бессильна там, где в свой рассказ
По странной прихоти сюжета
Судьба живьем вгоняет нас. [1, c. 197]
И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закат свой розовый,
И как пророк заговорил. [1, c. 64]
В связи с тесным сопряжением в поэтическом языке А. Тарковского слов «царь», «пророк», «священник» необходимо более подробно рассмотреть этот смысловой феномен. Если мы обратимся к значению «царь», то увидим, что словарное значение этого слова (согласно словарю С. Ожегова, царь - единовластный государь, монарх) никак не объясняет того сложного смыслового ореола, который чувствуется в каждом контексте, где всплывает данное слово. Можно сказать, что семантическое облако, окружающее слово «царь», - это своеобразная сияющая «корона», мерцающая и пульсирующая субстанция, трудно поддающаяся понятийной интерпретации. Попытаемся, однако, отметить некоторые контуры того мира, в котором возможно взаимопроникновение исследуемых нами понятий. Это, безусловно, мир Священного Писания и значения слов «царь», «пророк», «священник», вписанные А. Тарковским в библейскую парадигму - ветхозаветную и новозаветную. В Ветхом Завете царь - представитель или орудие невидимого Царя царствующих. У избранного народа царем был Сам Господь Бог, который через пророков объявлял народам Свою волю. Местом особого Его присутствия была Скиния, священники и левиты составляли Его двор. Царь «видимый» проявляется как лицо, избранное Самим Богом, посвящение в царское достоинство совершалось при всем собрании посредством помазания священным елеем, на царя возлагался венец и вручалась держава. Таким образом, в Ветхом Завете царь, пророк, священник - не просто близкие, но перекрывающие или даже замещающие друг друга понятия. В словоупотреблении А. Тарковского мы видим своеобразное «мерцание» этих идей, которое поддерживается образами, содержащими в себе «царскую» атрибутику. Утрата царского достоинства - это утрата пророческого дара, которым был наделен первый царь, пророк и священник - Адам, и она приводит к утрате власти над тем словом, которое было дано от века.
Еще один атрибут царского достоинства - корона, венец. В стихотворении «Манекен» мы находим такие строки: «Кто я сам, если плачут и ходят окрест / На шарнирах и дырах пространство и время, / Многозвездный венец возлагают на темя / И на слабые плечи пророческий крест?» [1, c. 353].
В другом стихотворении мы читаем: «На пространство и время ладони / Мы наложим еще с высоты, / Но поймем, что в державной короне / Драгоценней звезда нищеты» [1, c. 310].
Встречаемся мы в стихах А. Тарковского и с другим «внешним» знаком царской власти: это «рогожная царская риза» из стихотворения «Я по каменной книге учу вневременный язык». Парадоксальное сочетание слов «рогожная риза» является результатом проникновения в «ветхозаветную парадигму» образов новозаветных, организующих словесный ряд: царь - пророк - священник в другом словесном плане. Царь Нового Завета - Господь Иисус Христос, который принимает на себя «знак раба», Его нищета - это добровольное истощение, кенозис. Этот пласт значений раскрывается в поэзии А. Тарковского прежде всего в повторяющемся антонимическом словосочетании «нищий царь»: «Потаенный ларь природы / Отмыкает нищий царь, / И крадет залог свободы - / Летних месяцев букварь [1, c. 311].
Как мы уже показали выше, в стихотворении А. Тарковского «Как Иисус, распятый на кресте» есть строки, в которых поэт напрямую отождествляет себя с Мессией:
И от которого из пращуров мои Я получил наследство роковое - Шипы над перекладиной кривою, Лиловый блеск на скулах восковых
И надпись над поникшей головою. [2, c. 70]
Итак, поэт - первый Адам. Адам второй - Христос, и то, что Адам не сохранил своего царственного достоинства и славы, должно быть искуплено подвигом самоотречения.
В стихотворении «Явь и речь» [1, c. 211-212] А. Тарковский даёт нам загадочный, таинственный образ поэтического творчества, который раскрывается как в замысле, так и в воплощении. О замысле, о цели а, следовательно, и сути работы поэта в стихотворении сказано так: «Я клятву дал вернуть моё искусство / Его животворящему началу». Но прежде чем говорить о проблеме соотношения подобного понимания сути творчества и конкретной реализации его в поэтическом слове, обратимся к названию стихотворения. Что нам дано в этом названии - единство «яви» и «речи» или их противопоставление, антиномия действительности (яви) и слова (речи), её отражающего? Для ответа на этот вопрос обратимся к другим стихам А. Тарковского, в которых так или иначе представлены обе эти категории. В стихотворении «И я ниоткуда пришёл расколоть» [1, c. 285] есть такие строки: «Державу природы / Я должен рассечь / На песню и воды, / На сушу и речь». В этих строках - раскол, рассечение реального мира и слова, в котором этот мир явлен. Та же мысль - в стихотворении «Когда вступают в спор природа и словарь» [1, c. 286]. Безусловно, в этих строчках мы имеем дело с противопоставлением, антиномией мира и слова, яви и речи. Как мы уже писали выше, в представлениях С. Булгакова и в совпадающих с ними интуициях А. Тарковского человеческое слово после грехопадения неспособно адекватно выражать мир, «Человек стал слышать и прислушиваться больше к себе и своей субъективности, отъединённости от космоса, нежели к этому последнему, и его речь зазвучала всё более неверно, раздробленно. Слово заволокли облака суесловия...»[19].
Но в стихотворении «Явь и речь» [1, c. 211] два этих начала бытия выступают в сложном единстве: «Две кисти рук, вы на одной струне», - пишет поэт. Откуда это единство яви и речи? Сам ли человек восстановил это единство в своём искусстве? Нет. Поэт говорит, что он пренебрёг своей клятвой: «Я гнул его (искусство. - С. К.), как лук, я тетивой / Душил его - и клятвой пренебрёг». Тем не менее, чудо единения свершилось. Но в том-то и дело, что чудо приходит не от человека, а даруется свыше. Поэтому:
Не я словарь по слову составлял,
А он меня творил из красной глины;
Не я пять чувств, как пятерню Фома,
Вложил в зияющую рану мира,
А рана мира облекла меня!
И жизнь жива помимо нашей воли. [1, c. 211]
В первых двух строках этой строфы метафорически выражена мысль о том, что подлинным творцом поэзии является не поэт, а сам язык. Такое представление о природе творчества свойственно многим поэтам, но наиболее ёмкое выражение оно получит в творчестве, в мироощущении и мировоззрении Иосифа Бродского. В одном из своих интервью он говорит: «Язык не средство поэзии; наоборот, поэт - средство или инструмент языка...»[20]. Но если у Иосифа Бродского - своеобразное «обожествление» языка, то у А. Тарковского - иной ракурс видения. Обратим внимание на то, что «словарь» творит поэта «из красной глины». А. Тарковский использует не слово «язык», а слово «словарь», которое отсылает нас к творящему Слову из Евангелия от Иоанна. Образ Слова, через Которое «всё начало быть» (Ин.1, 3) А. Тарковский накладывает на эпизод из Книги Бытия о сотворении первого человека из «персти земной» (имя «Адам» переводится как «красная земля»), что придаёт первым двум строчкам анализируемой строфы необычайную объёмность и глубину.
Но библейский контекст этим не ограничивается. Следующие две строки напоминают нам о том евангельском эпизоде, когда апостол Фома, чтобы удостовериться в истинности воскресения Христа, влагает свои персты в раны воскресшего Спасителя. «Зияющая рана мира» в контексте стихотворения А.Тарковского - это все страдания, которые существуют в мире, а любое страдание в мире, согласно православному богословию, есть страдание Самого Христа[21].
Сложно трансформированный А. Тарковским библейский контекст, в который вписывается философия его поэтического слова, бросает своеобразный отсвет даже на слова «явь» и «речь». Вспомним, что в Ветхом Завете Бог открывается Моисею как Сущий; Явь же - это то, что явлено, открыто, то, что есть. В последующих строках «явь и речь», как мы уже сказали, даны как единое целое, к которому обращена молитва поэта: «О явь и речь, зрачки расширьте мне» (вспомним строки пушкинского «Пророка»: «Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы»). Следующая строка - «И причастите вашей царской мощи» останавливает наше внимание глаголом «причастите». Перед нами не просто метафора, а скрытое обращение к высшим духовным силам. В символическом плане «явь и речь» соотносятся с евхаристией.
Светлана Васильевна Кекова, доктор филологических наук
(Окончание следует)
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Соловьёв В. Общий смысл искусства // Соловьёв В. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 82.
2 Там же. С. 145.
3 Тарковский А. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 29. В дальнейшем все цитаты даются по этому изданию; в квадратных скобках указывается номер тома и страница.
4 См.: Потебня А. Слово и миф. М., 1989.
5 Алексей Фёдорович Лосев: из творческого наследия; современники о мыслителе. М., 2007. С. 385.
6 Флоренский П. Имена. М., 2003. С. 79.
7 Там же. С. 85.
8 Булгаков С. Философия имени. СПб., 1999. С. 16.
9 Там же. С. 74.
10 Там же. С. 35.
11 Там же.
12 Там же. С. 35-36.
13 Там же. С. 36.
14 Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 328.
15 Там же.
16 Там же. С. 330.
17 Там же.
18 Там же. С. 331.
19 Булгаков С. Философия имени. СПб., 1999. С. 192.
20 Бродский И. Большая книга интервью. М., 2000. С. 143.
21 См.: Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Тайна Иова. О страдании / Избранное: в 2 т. Нижний Новгород, 2000. Т. 2. С. 252-269.
22 Лепахин В. Икона и иконичность. СПб., 2002. С. 291
23 Там же.
24 Лепахин В. Икона и иконичность. СПб., 2002. С. 308. См. также: Лепахин В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002.
25 Лепахин В. Икона и иконичность. СПб., 2002. С. 172.
26 Толковая Библия: в 3 т. М, 1988. Т. 2. С. 199.
27 Языкова И. Богословие иконы. М.,1995. С. 107.
28 Там же. С. 107.
29 Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви. СПб., 1997. С. 9.
30 Флоренский П. Иконостас / Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 105-106.
31 Там же. С. 98.
32 «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 30-37).
33 Толковая Библия: в 3 т. М.,1988. Т. 3. С. 193.
34 См.: Языкова И. Богословие иконы. М., 1995. С. 113
35 В книге дочери поэта Марины Тарковской «Осколки зеркала» приведён отрывок из письма Арсения Тарковского сыну Андрею, письма, написанного после прочтения поэтом сценария фильма «Андрей Рублёв». В этом письме поражает глубина проникновения в суть религиозного искусства, психологии иконописца, древнерусской культуры в целом. См.: Тарковская М. Осколки зеркала. М., 2006, С. 250.
36 Флоровский Г. Богословские отрывки // Вера и культура. СПб., 2002. С. 441.




















.jpg)