
Ко дню памяти (13 марта) известного русского правоведа, общественного деятеля, публициста, музыканта, Черниговского губернского тюремного инспектора Дмитрия Васильевича Краинского (23.10/5.11.1871-13.03.1935) мы помещаем фрагменты записок из XIV тома, посвященного Харьковскому институту благородных девиц во время нахождения его в Сербии.
Свои дневники (в соответствии с досоветской орфографией и по юлианскому календарю) Д.В. Краинский (см. о нем подробнее: «Хотелось бы вернуться домой, увидеть своих и послужить Родине») вел непрерывно с 1903 г. Из-за болезни автора они прервались 9 (22) октября 1934 г.
Впервые они были изданы в 2016 г. (См. здесь: Краинский Дмитрий. Записки тюремного инспектора.

Деление XIV тома на части, подготовка рукописи к публикации, названия частей - составителей (О.В. Григорьева, И.К. Корсаковой, А.Д. Каплина, С.В. Мущенко). Орфография приближена к современной.
+ + +
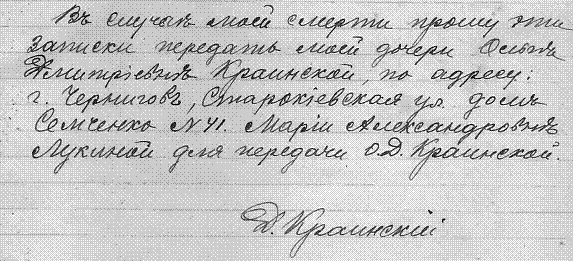
ЗАПИСКИ. Т. XIV.
1926-1932 гг.
СЕРБИЯ.
ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ.
Часть 3.

Преподавательский состав института в 1922-1923 гг. М.А. Неклюдова сидит в центре.
Все служащие в институте обезпечены и имеют постоянную службу. В этом отношении они живут нормальною жизнью, не думая о завтрашнем дне. Многие служат здесь уже 8-10 лет и обзавелись имуществом. Некоторые даже ведут свое хозяйство и держат свиней. Вот почему и психология их не та, что у рядового беженца. Это скорее эмиграция, чем беженство. Так, в сущности, и называют себя беженцы в Новом-Бечее.
Общество в Н. Бечее, можно сказать, приобрело устойчивость и потому выработало уже свои традиции, с которыми все считаются. Есть, например, здесь кружок служащих в институте, который обосновался с первого дня приезда в Бечей института. Им, конечно, принадлежит первенство в Бечее, и каждый вновь вступающий в бечейское общество невольно подчиняется уже установившимся традициям.
Каждому вновь прибывающему преподносится характеристика всех обывателей Н. Бечея и институтских служащих и на основании этих данных новому лицу предоставляется устраивать свое общественное положение в Бечее, т. е. сообразить, кому надо нанести визит, кому не надо. С кем надо считаться, с кем не надо. С кем надо вести знакомство, с кем не надо. Визиту придается большое значение, так как при этом происходит сортировка общества, и Вы часто слышите в обществе фразу: «Это не нашего круга человек».
Я слышу постоянно пререкания между двумя генеральшами враждующими между собою. Одна из них вдова дивизионного генерала, а другая дочь генерала, вышедшая замуж за капитана и, следовательно, потерявшая генеральство. Еще бывает смешнее, когда к светскому обществу примыкают люди совершенно иного социального положения и тянутся за ним. К сожалению, этой выработавшейся традицией пропитана и институтская жизнь.
Мне говорил преподаватель латинского языка, что одна хорошо известная ему воспитанница, долго скрывала перед подругами, что она дочь священника. Потом и мне пришлось убедиться, что социальному положению родителей воспитанниц придается в институте большое значение не только подругами, но и воспитательным персоналом, причем и здесь наблюдается градация (разграничение).
Есть дети родителей, приобретших значение в беженской жизни, и дети бывших русских сановников и аристократов. С первыми считаются, пожалуй, еще больше, так как они теперь у власти, но все-таки происхождению придается больше цены. Мне лично приходилось потом часто слышать от воспитанниц такую фразу: «я дворянка, а не какая-нибудь. У моего отца было в России имение» и т. д. Слово «хам» распространено и среди учащихся. И в этих вопросах они чуть ни с 12 лет разбираются отлично, критикую не только своих подруг, но и взрослых.
Буржуазное направление, безусловно, составляет уже традицию института и надо сказать, что, по-видимому это настроение выработало и соответствующее политическое «kredo».
Институт монархичен. Воспитанницы разбираются и в этом отношении. Они любят свою Россию такою, как она была и готовы защищать ее. Те, кто разрушал ее, ненавистны детям. И если в институте нет политики, то в отдельных случаях воспитанницы в высшей степени последовательны. Дочерей, воспитывавшихся в институте М.М. Родзянко (сына М.В. Родзянко), подруги чуждались и пренебрегали их знакомством. На этой почве происходили вечно недоразумения, и ответ был всегда один: «Мы не хотим иметь в своей среде внучек известного изменника Царю и Отечества Родзянко».
Самого М.В. Родзянко воспитанницы института преследовали и часто кричали ему, проходящему мимо окон института, дерзости. Был даже случай большого скандала, когда после концерта в институте М.В. Родзянко подал мысль спеть «Боже Царя храни» и принял участие в этом пении, но выступление это кончилось неудачно. Одна из воспитанниц, Яржемская VII кл., подошла к нему и крикнула ему в лицо: «Как смеете Вы, изменник Царю, петь наш русский гимн».
И в этом отношении настроение учащейся молодежи было одинаково с настроением громадного большинства членов русских колоний. Всюду, где появлялся М.В. Родзянко, ему делали скандалы. В Панчеве, где сначала жил он, его преследовали и гнали вон. Говорят, что М.В. Родзянко даже испросил у сербских властей разрешение на ношение при себе револьвера на всякий случай. В конце концов М.В. Родзянко выехал на жительство в Нови-Бечей, недалеко от которого (в Беодре) служил подкомиссаром его младший сын Михаил Михайлович. Но и здесь М.В. Родзянко не удержался. После нескольких скандалов, устроенных членами русской колонии, Родзянко ушел на покой в Беодру к сыну, где и умер безславно в 1923 году.

Ученицы 7-ого класса Харьковского девичьего института в городе Нови Бечей, Югославия, 1921 год.
Я был еще мало знаком с бечейским обществом, но уже знал все интересы, а также интриги и сплетни, которыми жил Бечей. Оказалось, что я попал сюда уже в период затишья. Не так давно в Новом-Бечее была колоссальная борьба, которая имеет свою историю. Еще будучи в Загребе я слыхал об этом от племянницы М.А. Неклюдовой Т. Куколь-Яснопольской, окончившей институт в 1921 г. Она, между прочим, пошла против своей тетки и принимала участие в борьбе.
Институт был тогда еще в периоде организации и был в некоторой зависимости от Бечейской колонии. Ведь Харьковский институт был вывезен в Сербию в 1919 году[i] во время русской катастрофы при Деникине и первый год своего пребывания в Новом-Бечее испытывал большие лишения. Не было одежды, белья и обуви. Летом девочки ходили босяком. Не было также пальто. Зимою дети кутались в одеяла, так как здание школы почти не отапливалось. Город переживал еще послевоенное время, и дров в нем не было. В дортуарах температура доходила до мороза, так что были случаи примораживания рук и ног.
Зимой институтки ходили даже по улице, закутавшись в одеяла. Не было также посуды, и дети ели по очереди по три из одной миски. Кормили, говорят, отлично, в особенности первое время, когда местные сербы посылали на помощь институту целые окорока мяса и в неограниченном количестве хлеб. Не было, конечно, учебников и учителей. Учительский персонал был случайно набран из лиц, так или иначе соприкасавшихся с институтом во время эвакуации. Хотя в Белграде была уже сформирована Державная комиссия по делам русских беженцев с учебным советом при ней, который должен был ведать русскими учебными заведениями, эвакуированными из России, но работа ее не наладилась.
Начальница института сама приглашала на службу преподавателей и служебный персонал. Державная комиссия успевала лишь справляться сначала с ассигнованиями. При таких обстоятельствах образовалась учебная часть института с доморощенным педагогическим персоналом. Из настоящих педагогов был здесь только один Я.П. Кобец, директор Елизаветградского реального училища.

Борис Николаевич Эрдели и его воспитанницы. Фото 1925 г.
Исполняющим обязанности Инспектора был приглашен встретившийся по пути эвакуации института помещик Херсонской губ. Б.Н. Эрдели, между прочим отличный пианист, который устроил свою жену преподавательницею русского языка.

Фото 1916 г.

Наталия Корнелиевна Эрдели принимает рапорты от дежурных по классам.Фото из журнала «Кадетская перекличка», № 8, 1974 г.
Наталия Корнельевна Эрдели (бывшая смолянка) вторая жена Бориса Николаевича Эрдели, будучи властной и умной женщиной, с места в карьер повела отчаянную борьбу с начальницей института М.А. Неклюдовой, желая удалить ее и занять ее место. В ход были пущены все средства и, конечно, в первую очередь агитация в бечейском обществе.
Общество разделилось на две партии, не только враждовавшие между собою, но и ведущие настоящий бой. В Белград летели жалобы, доносы и частные письма. В Белград командировались члены колонии и служащие института. На месте в Новом-Бечее устраивались собрания и заседания, на которых страсти разгорались до такой степени, что из заседаний выводили участников ее чуть ни в обморочном состоянии. В Белграде растерялись и не умели разобраться в этой интриге. Стоящий во главе Учебного совета Державной комиссии профессор Кишенский пробовал лично разобраться в этом деле и приезжал с этой целью в Новый-Бечей, но все, что он сделал - это открыто стал на сторону Н.К. Эрдели и перевел все на личную почву.
Борьба продолжалась. В интригу постепенно втянулись воспитанницы старших классов, которые тоже собирали свои сходки и горячо обсуждали положение. Г-ж Эрдели умела влиять на учащихся, и потому большинство воспитанниц было на ее стороне. Из Белграда вторично прибыл для расследования какой-то генерал, но и он уехал ни с чем. Скандал кончился «мордобитием». Помощник заведывающего хозяйством В.Т. Данилевич дважды ударил по физиономии инспектора Эрдели в его служебном кабинете. Г-н Данилевич был по образованию юрист и вместе с женой принадлежал в России к светскому обществу, и, говорят, был очень воспитанный и деловой человек.
Возбуждение, вызванное этим инцидентом в Новом-Бечее, было настолько сильное, что Правление местной колонии в лице исп. об. председателя С.К. Хитрово и членов господ Летючева и Дубицкого буквально ворвалось в помещение, где происходило заседание педагогического совета и стало требовать немедленного удаления со службы Данилевича. Вмешались и встревоженные родители, живущие в Новом-Бечее и его окрестности. Они в сущности и положили конец этой сумятице в Новом-Бечее. Пославши своих представителей в Белград, они добились настоящей ревизии в лице генерал-лейтенанта З.А. Макшеева (директора Педагогического музея военно-учебных заведений С. Петербурга).

Приезд Захария Андреевича Макшеева положил предел разыгравшимся страстям в Новом-Бечее. Этот человек отлично разобрался во всем и внес успокоение в институтскую жизнь. Правда, З.А. Макшеев прожил в Бечее довольно долго и вошел, так сказать, в атмосферу жизни Бечея. Эти три начала - общественность, колония беженцев и институт были разобщены. Генерал Макшеев занялся делами института. Работой Макшеева были довольны, но зато противной партии пришлось уйти.

Преподаватели и сотрудники Первой Русско-Сербской девичьей гимназии в Великой Кикинде. В центре сидят Е.Э.Абациева и Б.Н.Эрдели. Фото 1925 г.
Все это вышло не так, как хотелось Белграду. И вот, чтобы не оставить побежденной г-жу Эрдели, господин Кишенский умудрился убедить кого следует открыть в В. Кикинде русско-сербскую гимназию, начальницей которой была назначена г-жа Эрдели. Ее муж получил там же место инспектора. Эту гимназию называют почему-то институтом и говорят, что г-жа Эрдели хотела скопировать в нем Смольный институт.

Первая Русско-Сербская Девичья гимназия проходит маршем на Сокольском слете в Великом Бечкереке. Во главе колонны - Наталия Корнелиевна Эрдели. Фото 8 июня 1925 г.
За г-жой Эрдели потянулись в Кикинду ее сторонники и сторонницы, и таким образом Харьковский институт освободился от враждебного элемента.

К тому времени окончили курсы воспитанницы старшего класса, чуть ни поголовно ставшие на сторону г. Эрдели, а З.А. Макшеев по настоянию родителей занял место инспектора в Харьковском институте (август 1921 г.). Благодаря своей выдержке и долголетнему педагогическому опыту Захар Андреевич быстро справился со своей задачей и направил жизнь института по правильному руслу. И он получил вполне заслуженную оценку. На одной из первых аудиенций М.А. Неклюдова сказала мне: «Это мой большой друг, который так много сделал и для меня и для Харьковского института». Воспитанницы старших классов просто обожали Захария Андреевича и первое время часто украшали перед его уроком кафедру цветами, как рассказывала мне бывшая воспитанница института Е.Я. Кобец.
Ушли из Харьковского института человек 13-15 служащих. Но все же ушли не все противники М.А. Неклюдовой. Оставшимся пришлось примириться и доказать свою лояльность. Поскольку это было искренно трудно сказать и потому друг другу не верили и относились с подозрением. Кое-где, конечно, эта скрытая партийность прорывалась, но из рамок приличия публика все же не выходила.
Этому настроению, конечно, много способствовала так называемая «керенщина», которою пропитана беженская масса, вывезшая эту мерзость из России. Взаимная критика, осуждения, протесты, недовольство распоряжениями начальства - это то, что вносит в нашу беженскую жизнь разлад и, я бы сказал, развал. Все никуда не годятся. Доктор ничего не понимает. Учитель ничего не знает. Авторитеты и знания не признаются. Все нехорошо. Все не так.

Даже концерты известного пианиста И.И. Слатина вызвал в Бечее безпощадную критику: «Да он не умеет играть», - говорили строгие провинциальные критики. Сестра милосердия при институте ведет открытую войну против институтского врача, ставя ультиматум - или она, или он.
Это то, что я застал в Бечее. Да и со мною был в первые дни моего пребывания в Бечее не лучший случай. На фортепиано поставили дюжин 12 тарелок и другую посуду. Я пришел в ужас и, конечно, с безпокойством заметил, что крышка рояля может не выдержать. Истопник, который это сделал, накинулся на меня с бранью и кричал, вероятно, минут 20, пока я освобождал фортепиано от этой тяжести.
Ознакомившись с этим настроением бечейского общества, я не пал духом и решил твердо вести свое дело, держась ближе к учащимся и подальше от тех кругов, где можно попасть в неприятное положение. Повторяю: для меня не была неожиданностью эта атмосфера беженской жизни в Новом-Бечее, и я был доволен тем, что выбрался из ненавистной мне Хорватии и попал, наконец, в русскую среду. Не может быть, чтобы я здесь не нашел себе друзей и знакомых, где бы я мог отдыхать душой.
С первых дней моего пребывания в Новом-Бечее мне стало ясно, что здесь жизнь будет легче. Местные жители относились к русским отлично, хотя и здесь находились отдельные личности и даже группы, которые не любили русских и иронизировали, говоря, что русские оккупировали Сербию. Во всяком случае, местные жители раскланивались с нами на улице и всячески оказывали нам внимание и почтение. Чувствовалось доброжелательство и искренность.
Мне особенно нравилось эта простота в кафанах. Вы входите в кафану как равный и уверены, что никто из присутствующих не отнесется к Вам враждебно. Правда, и здесь в кафанах не едят, а только пьют, но и в этом отношении здесь лучше. Все-таки сразу видно, что Сербия богаче и разнообразнее Хорватии. И вино здесь лучше и все дешевле. На улицах продают фрукты, конфеты. Летом мороженое, лимонады.
Одним словом, если можно так выразиться, по сравнению с чопорным Загребом, здесь запахло востоком и самый уклад жизни больше подходит к границам России. Мне это напоминало немного Болгарию, которая в этом отношении еще ближе подходит к русской жизни. После убогой Хорватии, где даже ездят на коровах, здесь впервые я увидел наших серых, с длинными рогами волов и поражался громадным количеством лошадей. Да и лошади красивые и породистые.
После римских колодцев мне было особенно приятно видеть наши малороссийские журавли (на колодцах) и коромысла, на которых носили ведра с водой (в Хорватии воду носят на голове). Но больше всего я был удовлетворен тем, что попал в степную местность и отделался от давления гор. Я был вполне удовлетворен и чувствовал большое облегчение. Я стал как будто ближе к России. И это понял П.М. Боярский, который писал мне из Загреба: «ну теперь Вы можете спокойно жить до самого возвращения в Россию». Да, все это было так, но неприятно подействовало на меня одно обстоятельство, которое могло сразу втянуть меня в интригу. Я почувствовал, что кое-где меня приняли сухо. Оказалось, что я стал поперек дороги тем, кто хотел занять место преподавателя музыки.

Для полноты картины беженской жизни в Н. Бечее нам остается сказать несколько слов о местной русской колонии. Председателем ее состоит полковник граф Павел Михайлович Граббе, двоюродный брат А.Н. Граббе, который приобрел известность тем, что, будучи начальником конвоя Его Величества, он первый снял во время революции погоны и явился в таком виде в ставку, где все еще офицеры и нижние чины конвоя были в погонах. Это обстоятельство, между прочим, заставило меня воздержаться от записи членом Бечейской колонии, хотя мне уже говорили, что П.М. Граббе человек совершенно другого мира и резко осуждает своего брата.
Как я узнал, очень многие из служащих в институте не состоят членами колонии по той простой причине, что они имеют вполне определенное положение как служащие института, где и зарегистрированы официально. Особой надобности состоять членом колонии, таким образом, не было, и потому вокруг колонии группировались только те, кто получал от Державной комиссии пособие (старики, старушки и впавшие в совершенную бедность) и те, кто составлял окружение П.М. Граббе.
Отношение к колонии первой группы выражались исключительно в том, что они приходили раз в месяц получать пособие. Вторая группа, составляющая значительное меньшинство сгруппировалась возле П.М. Граббе, составляя небольшую компанию в 6-8 человек, которая, помимо экстренных случаев, ежедневно собиралась перед обедом в помещении Правления колонии, чтобы выпить рюмку водки и закусить вкусной закуской.
Инициатива исходила от П.М. Граббе. Будучи гастрономом и понимая это дело, он выписывал за свой счет все эти закуски (икра, селедка, кильки, шпроты, тарань, балыки и т. д.) и пускал их в оборот, чтобы на прибыль опять выписать эти деликатесы. Бутерброд стоит 2-3 динара. Водка тоже приготовлялась по рецепту графа и продавалась очень дешево.
Конечно, ни в одной бечейской кафане нельзя было получить что-нибудь подобное, да еще по такой дешевой цене, и это очень соблазняло тех, кто любил выпить рюмку, другую, третью. Я был раза два-три на таком завтраке, где и познакомился с графом, получив от него приглашение почаще заходить в колонию. Интересного здесь было мало. Пьют изрядно. Рассказывают анекдоты неприличного содержания с употреблением трехэтажных русских ругательных слов. Разглагольствует больше всех П.М. Граббе, а остальные все больше слушают. П.М. Граббе человек военный и при том могущий очень много выпить и это, по-видимому, придает известный колорит этим ежедневным завтракам.
Мне пришлось быть по приглашению и на устраиваемых иногда в том же помещении колонии ужинах (на баранину, раки, рыбу и т. д.). Единственная цель этих собраний - это, конечно, выпить и хорошо поесть. Здесь бывают не только члены колонии, но и те, кто любит выпить. Собирается человек 12-15. Но это бывает редко. Центр тяжести лежит в ежедневных завтраках, где П.М. Граббе является полным хозяином и дает тон этим собраниям. К сожалению, надо сказать, что не пьющим там нет места и они туда не ходят.
Впрочем, к институтской жизни колония не имеет отношений, если не считать того, что иной раз кто-нибудь из преподавателей забежит перед обедом в Правление колонии (руски одбор) выпить рюмку водки и потому по отношению к колонии у публики нет никаких обязательств. Лично граф П.М. Граббе, как человек, имеющий большие средства, делает очень много добра и поддерживает многих неимущих беженцев в Н. Бечее.
Отвратительное впечатление, между прочим, производит группа местных торговцев-кулаков, пользующихся случаем, чтобы скупить у русских беженцев за безценок их ценные вещи. Надо сказать, что здесь торговцы - это самые первые люди, представляющие цвет местной интеллигенции (по своему состоянию, конечно, а не по образованию). Все это почтенные сербы, имеющие большой вес в общественных кругах. Они же поставщики института. Они сидят в первых рядах на концертах. С ними считаются и приглашают их как почетных гостей на все торжества. В их руках капиталы и все они так или иначе причастны к финансовым делам, являясь членами правления разных штедиониц и кредитных учреждений.
Доктор П.И. Пономарев предупреждал меня, чтобы я был осторожен, иначе меня оберут до последней нитки. У него я, между прочим, познакомился с русским беженцем из Одессы Владимиром Иванов. Слатвинским, служащим бухгалтером одного из таких банков (Врањевачка српска штедионица). При помощи г. Слатвинского наши русские устраивали свои дела и смотрели на него, как на своего человека. Продать ли драгоценности или надо ли заложить в банке свои вещи, все обращались к В.И. Слатвинскому, который пользовался в сербских кругах репутацией делового человека.
Очень скоро все эти торговцы появились разукрашенные дорогими русскими кольцами, а их жены браслетами и брошками. Такова чета Туринских, с которыми очень считались русские. Местный торговец - он же директор банка, Гига Иванович имеет отличный золотой портсигар, которым он всегда бравирует, выкладывая его из кармана на стол. И все русские знали, что этот портсигар был ему недавно заложен М.Ф. Зац за 500 дин. При первой неуплате процентов Гига Иванович оставил себе этот портсигар, оцениваемый в тысячах динарах.
Русские находились тогда в очень тяжелом положении. Дело только налаживалось. Ассигнования запаздывали, так что даже институтские служащие получали жалование с запозданием на 3-4 месяца. Продавалось и закладывалось все, что возможно. С первых же шагов мне очень часто приходилось слышать в обществе разговоры по этому поводу и, иногда, я видел, как эти разговоры переходили на шепот и даже что-то передавалось «на ухо». Очевидно, что здесь было не все благополучно.
Даже среди институток шли какие-то таинственные разговоры о каракуле и сундуке с вещами недавно умершей матери Жени Свинкиной. П.И. Пономарев уже знал кое-что, и мы вспоминали, как на константинопольском рейде несчастные, изголодавшиеся беженцы отдавали туркам за кило хлеба и вязанку смоквы золотые кольца, браслеты и одежду.
Это катастрофа. Русская волна беженцев наводнила европейские рынки бриллиантами, золотом, серебром, мехами и ценными вещами. Покупали эти вещи все европейские народы. И это все-таки лучше, чем скупка англичанами и американцами драгоценностей, снятых большевиками с убитых и умученных ими русских людей или содранных в церквях со святых икон и церковной утвари.


Институт благородных девиц на Сумкой улице. Вид
внутреннего фасада здания со стороны Институтского сада. Открытка 1910-ых.
[i] Институт покинул Харьков 22 ноября 1919 года в составе 157 воспитанниц, 38 человек персонала и 46 прикомандированных и членов семейства служащих. Испытав все невзгоды эвакуации в теплушках, институт прибыл в Новочеркасск и поместился в Донском институте. Через три недели под напором наступающих на Юг большевиков оба института спешно эвакуировались в Екатеринодар, а затем в Новороссийск, где начальница института М.А. Неклюдова выхлопотала у представителя Сербского Королевства г-на Ненадича разрешение сербского правительства на эвакуацию институтов, как учебных заведений, в Сербию на смутное время. Имея визы в Сербию транзитом через Болгарию, Харьковский и Донской институты чуть было не остались в Новороссийске у большевиков и только благодаря некоторым энергичным воспитанницам (Куколь-Яснопольская, Золотарева, Эссен), которые добились от военных властей посадки институтов на пароход, выехали из Новороссийска. Около месяца институты пребывали в Новороссийске и, можно сказать, в последнюю минуту погрузились на пароход «Афон» для отплытия в Варну.
4 марта 1920 г. оба института прибыли поездом из Варны в Белград, где их встретил русский посланник В.Н. Штрандман. Здесь последовало разъединение обоих институтов. Донской институт был направлен в Белую Церковь. Под Харьковский институт была отведена большая мадьярская школа в Новом-Бечее (Турски-Бечей). 8 марта 1920 г. Харьковский институт прибыл на пароходе «Любляна» по реке Тиссе в Новый-Бечей в сопровождении сербского чиновника г. Шевича.






















