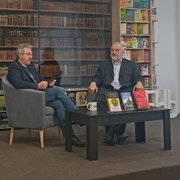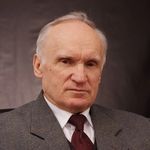Начнем с разъяснений, касающихся терминологических и методологических вопросов.
В 2014 г. мы предложили для обозначения определенных форм социального протеста, вовлекающих в свою орбиту значительное количество участников и приобретающих крайнюю форму проявления, понятие «радикальные массовые формы социального протеста», а также термин «бунт» в качестве равнозначного к определению «радикальные массовые формы социального протеста».[1] Употребление слова «бунт» вошло в русском языке в научную литературу из литературы художественной, но статус термина не приобрело. В связи с этим коннотация слова «бунт» сохраняет свои литературно-художественные черты. Бунт представляется, как крайняя форма социального протеста, которой присуща спонтанность.[2] Однако спонтанность никак не является неотъемлемой характеристикой бунта, и многочисленные исторические примеры говорят о том, что события, которые принято называть бунтами (римского плебса, на новгородских вече, «Пугачевский бунт», «стрелецкие бунты» и др.), были спланированы и организованы. Для нас термин «бунт», который будет использоваться в данной работе - это социальный протест в его крайних, радикальных и массовых формах, которые проявляются в таких явлениях как восстание, мятеж, революция, гражданская война, массовые антиправительственные выступления.
В связи с тем, что был затронут термин «революция» и различные революции будут рассматриваться и далее, следует сразу оговориться. Конечно, революции являются сложным политическим и социальным явлением, которое не может быть исключительно определено его составляющими,[3] но здесь представляется важным, что любая революция содержит в себе три непременных компонента: социальный протест (в различных формах), госпереворот и кардинальные реформы в государстве. Здесь мы рассматриваем причины возникновения радикального протеста в революциях, но не причины самих революций.
Задача общественных наук - это не только анализ прошедших явлений и фактов, но и возможность прогнозирования сходных явлений. Задача поиска причин заключается и в том, чтобы при наличии схожих обстоятельств уметь прогнозировать явления. Если вести речь в рамках обозначенной темы, то выявление причин радикальных массовых форм социального протеста должно дать возможность их прогнозирования.
Однако подобная установка сама по себе уже таит определенные ловушки. Во-первых, одну причину предельно сложно найти для всей массы проявления радикальных форм социального протеста, поэтому поиск смещается в комплексы причин. Во-вторых, точность прогнозирования психологически совмещается с точностью расчета, которая видится в математических вычислениях или неких т.н. «объективных» причинах, которые можно посчитать (а желательно еще и построить графики), что исторически, начиная с XIX в., привело к такому явлению как «экономизм» и с определенной периодичностью продуцирует волны исследовательской склонности к теориям причинности, которые имеют экономическую подоплеку (экономические циклы, мальтузианская ловушка, кривая Дэвиса, структурно-демографическая теория и др.). При этом сама установка является безусловно правильной. Научный принцип в данном случае будет гласить, что если что-то является причиной события, то оно должно самостоятельно или в комплексе с сопутствующими факторами проявляться в каждом подобном событии. С этих принципов и приступим к анализу причин возникновения радикальных массовых форм социального протеста.
«Почему люди бунтуют?» - это тот вопрос, который волнует человечество с первых шагов цивилизации. От ответа на данный вопрос на протяжении всей истории зависела судьба государств и их исторические пути. Понимать причины, двигающие людей к радикальным формам социального протеста, означает возможность предотвращения этого протеста или самых крайних его форм и последствий. Вот почему этому вопросу уделяли особое внимание многие выдающиеся мыслители, и почему анализ и систематизация этих выводов является актуальной на сегодняшний день - время новых вызовов с точки зрения работы с социальным протестом.
Уже к концу эпохи Просвещения сложился комплекс представлений о причинах мятежей, смут, бунтов и революций в государствах. Эти комплексы причин эксплуатируются до сегодняшнего дня в анализе всех форм и видов социального протеста и условно делятся на «экономические», «социальные» и «психологические».[4]
История показывает, что экономические условия сами по себе не ведут к массовому протесту. Примечательно, что против полной экономической детерминированности революций (и других форм радикального массового социального протеста) выступили видные марксисты и практики революционного движения: Каутский, Ленин, Грамши, Че Гевара. Экономические условия, на их взгляд, не работают без других составляющих и не всегда являются даже главной составляющей возникновения и развития бунта.[5]
В этом свидетельствуют все самые известные примеры массового радикального социального протеста в XX и XXI вв. В 1913 г. российская экономика была четвертой по величине в мире, почти эквивалентной в общем объеме производства Великобритании, она была хорошо интегрирована в мировую экономику, уровень роста был относительно высоким, а Россия принадлежала к группе наиболее быстро развивающихся стран.[6] Германия после Первой мировой войны оставалась одной из самых экономически развитых стран Европы. Куба в середине XX в. отличалась высоким уровнем экономического развития и модернизации, а также ВВП на душу населения среди стран Латинской Америки. Те же принципы были характерны в началеXXI в. для Туниса и Египта, а Ливия и Сирия по уровню развития и материального благосостояния перед событиями т.н. «арабской весны» могли равняться не только на самые богатые страны региона, но и на ведущие мировые державы.[7]
Очевидность отсутствия прямой постоянной зависимости социального протеста от экономических факторов привела к поиску комбинированных условий.
Первое из них относится к концепции американского социолога Джеймса Дэвиса, известной как «кривая Дэвиса»: революции происходят не в период наиболее острых кризисов и не в период устойчивого подъема, а в ситуации, когда период подъема, внушивший людям надежды, сменяется резким упадком. То есть протест вызывается не низким материальным уровнем и плохим экономическим положением, а снижением этого уровня в сравнении с предыдущим и повысившимися требованиями к жизни.[8] Классический пример - начало Великой французской революции в связи с неурожайными годами и ростом цен на продовольствие. Многие примеры XX и XXI вв. подпадают под этот принцип: ухудшение экономической ситуации и материального положения после периода относительного благополучия было характерно для Русской революции (в связи с войной), времени прихода нацистов к власти (Великая депрессия), для событий «арабской весны» (мировой экономический кризис). Не подпадают под этот принцип Кубинская революция и события «цветных революций». Если обратиться к более раннему историческому периоду, то принцип Дэвиса точно не был характерен для Нидерландской революции XVI в., Английской революции XVII в., Американской XVIII в., революций 1848-49 гг. в Европе, Китайской революции 1911-1949 гг. (или серии революций). С большой натяжкой он применим к Парижской коммуне. Бунт не произошел в России в период максимального ухудшения материального положения в начале 30-х, а затем с резким ухудшением с началом ВОВ - поражения в войне, резкое ухудшение положения не вызвали антисталинских восстаний. В 70-80-е благосостояние граждан СССР росло, в 90-е стремительно упало, но это не вызвало радикальных массовых протестов против нового режима. (Были протесты небольших групп, было выступление радикалов в 93-м, но не массовые протестные движения.) Протест на Украине ни в 2004, ни в 2014 гг. не был связан с «кривой Дэвиса» (как считают некоторые исследователи[9]) - в основе бунта и социального противостояния, как показывает исследование, лежал и лежит «национальный вопрос».[10] В феврале 2014 г. там при поддержке радикальных групп произошел государственный переворот при минимальном уровне протестных настроений в стране, и этот акт вызвал рост социального протеста, в котором страна, как и в 2004 г., разделилась по национальному и территориальному признаку (который практически совпадает с национальным). Ввиду отсутствия легитимности новой власти уровень протеста и противостояния значительно превысил уровень 2004 г. Кроме того, существенную роль играет пример «оранжевой революции»: во-первых, все стороны черпают в ней «вдохновение» и шаблоны для своих действий; во-вторых, волнения в юго-восточных регионах являются протестом против навязанной воли в 2004-м (когда «восток» проявил относительную пассивность) и против «новой редакции» такого сценария, усугубленного ущемлением ключевых прав - свободы, свободы воли, национального самоопределения - и ключевого социально-психологического понятия «справедливости».
Достаточно очевидно, что не каждый экономический кризис, повышение цен, снижение доходов и неурожайный год ведут к радикальным массовым формам протеста, поэтому в «чистом виде» этот принцип вызывает большие сомнения. Самым интересным, на наш взгляд, в теории Дэвиса является положение, что реальное социально-экономическое развитие не играет большого значенияв протестных настроениях - значение имеет представление различных социальных групп об этом и применительно к себе.
Второе «комбинированнное условие» - это сочетание экономики и демографии, которое проявилось в двух самых популярных концепциях последних десятилетий: «мальтузианская ловушка» и структурно-демографическая концепция Д. Голдстоуна.
Название «мальтузианская ловушка» связано с именем английского экономиста Томаса Мальтуса (1766-1834). Труд Мальтуса «Опыт закона о народонаселении» был достаточно популярен при жизни автора и выдержал шесть прижизненных изданий, однако его «Опыт» был подвергнут серьезной критике со стороны научного сообщества.[11] У Мальтуса появились последователи, но они проявились не в научной, а в идеологической сфере, отстаивая идеи контроля населения и различных форм социальной дискриминации и сегрегации, в связи с чем труд Мальтуса подвергался анафеме, а в 1856 г. внесен Священною Конгрегацией в список запрещенных книг.[12] Возрождение новой популярности неомальтузианства произошло в 1950 и 60-х гг. В последнее десятилетие этот принципстал популярен среди российских исследователей.
Если быть предельно корректным, то сам Томас Мальтус имеет мало отношения к экономическому феномену, названному его именем. Вообще, «мальтузианством» называется демографическая теория, согласно которой рост населения значительно превышает рост производства продуктов питания, что неминуемо ведет к голоду. Согласно теории Мальтуса рост населения ограничен плодородием земли: с точки зрения Мальтуса, население удваивается каждые 25 лет и будет возрастать в геометрической прогрессии, что ведет к бедности, голоду и социальным потрясениям, в связи с чем Мальтус призывал к контролю за ростом населения.[13] Ключевые положения Мальтуса заключаются в следующем: «1) количество народонаселения неизбежно ограничивается средствами существования; 2) народонаселение неизменно возрастает всюду, где возрастают средства существования, если только то не будет остановлено явными и могущественными препятствиями; 3) эти особые препятствия, точно так же как и все те, которые, останавливая силу размножения, возвращают население к уровню средств существования, могут быть сведены к следующим трем видам: нравственному обузданию, пороку и несчастью».[14]
Из этой концепции был взят принцип зависимости уровня населения от производящих возможностей и создана одна из социально-экономических моделей т.н. доиндустриальных обществ: рост населения обгоняет рост производства продуктов питания, поэтому в долгосрочной перспективе не происходит ни роста производства продуктов питания на душу населения, ни улучшения условий существования большинства населения. Это большинство населения находится на уровне, близком к уровню голодного выживания, и выход из мальтузианской ловушки рассматривается только в процессе модернизации, которая в свою очередь создает повышенную опасность социальных потрясений - революции, гражданские войны и т.д.[15]
Необходимо понимать, что, как справедливо отметил Франсуа Крузэ, на сегодняшний день нет полностью удовлетворяющей теории развития для доиндустриальных экономических систем, а мальтузианская модель выступает одной из таких моделей, которая получила популярность на определенном отрезке исторического развития.[16] Выдвинутый в качестве главенствующего в экономическом развитии принцип мальтузианской ловушки часто сводит изображение истории до XIX в. к максимально упрощенному пониманию и примитивизации. Рассуждения о мальтузианской ловушке доводит до крайних утверждений, что «средний человек в 1800 году жил не лучше, чем за 100 тыс. лет до н.э.»[17]: «Качество жизни также не возрастало ни в каком из ощутимых отношений. Продолжительность жизни в 1800 году была не больше, чем у охотников и собирателей: 30-35 лет. Средний рост - показатель качества питания, а также заболеваемости среди детей - в каменном веке был выше, чем в 1800 году. И если первобытные люди были способны удовлетворить свои материальные потребности, приложив к тому совсем немного усилий, то англичане 1800 года могли обеспечить себе скромный комфорт лишь путем неустанного труда».[18]Это, конечно, исторический нонсенс. Описываемый уровень общества оставляет только удивляться, как эти общества выжили, смогли создать капиталистическую экономику и промышленную революцию. В качестве решения этой задачи предлагается идея о целенаправленном ограничении рождаемости в Европе в позднее Средневековье, что способствовало росту благосостояния.[19]
Во-первых, человек в ходе истории тратил на добывание пропитания все меньше времени и сил, что, собственно, и стало залогом развития этого вида и прогресса. Как раз начало индустриальной эпохи принесло на определенный промежуток времени повышение количества затрачиваемого времени на работу в городах. Особенно сильно это проявилось в Европе XIX в., что и породило выводы Маркса об эксплуатации, взглядах на пролетариат как на класс рабов, которому нечего терять, кроме своих цепей. Во-вторых, как абсолютно справедливо подметил Жан Бодрийяр, «все общества всегда расточали, разбазаривали, расходовали и потребляли сверх строго необходимого в силу той простой причины, что только в потреблении излишка, избытка индивид, как и общество, чувствует себя не только существующим, но и по-настоящему живущим».[20] В-третьих, при отсутствии эффективных средств контрацепции не было возможности принять решение не производить потомство в связи с любыми причинами, хоть и рассуждениями о потенциальной нехватке продовольствия (и это даже не учитывая церковного запрета на аборты и контрацепцию). В-четвертых, как раз демографический рост был двигателем прогресса Западной Европы: именно благодаря существенному росту населения (с 40 до 200 миллионов) произошли развитие торговли и рост производства между XI и XVIII вв.[21]
Связан с принципом мальтузианской ловушки и принцип демографического фактора, выдвигаемый в основу всех революций и массовых радикальных форм социального протеста Джеком Голдстоуном. Причем этот фактор рассматривается и в связи с продовольственными проблемами, и самостоятельно. Голдстоун считает, что периоды революций и значимых народных выступлений (восстаний, крестьянских войн и т.д.) напрямую связаны с волнами демографического роста. Так, первая такая волна в Новом времени дала Нидерландскую и Английскую революции; вторая волна - с 1770 по 1850 гг. - привела к французским революциям, революциям в Европе 1848-50 гг., крестьянской войне Пугачева в России и т.д.; а период 1660-1760 гг., когда демографическая ситуация ухудшалась, отметился в истории лишь некоторыми малозначимыми социальными выступлениями.[22] Что касается периода Нового времени, то Голдстоун считал, что аграрные государства не могли справиться с постоянным ростом населения: уровень населения превышал плодородие земли, что и вело к социальным возмущениям; в последних работах Джек Голдстоун стал рассматривать рост населения как бомбу замедленного действия и современной цивилизации.[23]
То, что экономический рост «съедается» ростом населения (ВВП растет, а на душу населения падает), в качестве теоретического постулата и абстрактной экономической модели вполне состоятельный принцип. В применении к реалиям и как основа далеко идущих выводов, особенно связанных со всплеском социального протеста, - вызывает огромное количество вопросов и замечаний. Большинство этих вопросов делит и концепция Голдстоуна.
Во-первых, рост населения двигает в Средние века это население в города, что, собственно, создает городскую цивилизацию (восстанавливает потерянную с падением Западной Римской империи). Во-вторых, рост населения позволяет высвободить часть этого населения из производственного цикла в иные сферы: военные, науки, искусства и т.п. «Излишек» создает возможность военных потерь без угрозы выживания популяции, что ведет к захватническим войнам и грабительским набегам. Так сложилась ситуация, например, у скандинавских народов в период широко известных набегов викингов. Добыча в таких военных походах с лихвой перекрывала условный доход на душу населения в обычных экономических условиях. Нехватка земли и продовольствия должна неминуемо вести к освоению новых территорий, однако в период классических и поздних Средних веков такой экспансии почти не происходило, а колонизационный процесс Нового времени - Северная и Южная Америка и Сибирь - был более связан не с низким уровнем жизни и нехваткой продовольствия в доминионах, и не с тягой к обработке новой земли, а со стремлением к «вольнице», быстрой и легкой наживе за счет аборигенов, получению социального статуса и т.д. Только возможность общества производить избыточный прибавочный продукт позволяет содержать больше людей, не занятых в производстве. Если средневековая Европа жила на грани голода, то объяснить расцвет культуры в XIII-XV вв., а затем в XVII в. не представляется возможным.
В середине XIV в. чума унесла огромное количество населения, которое Европа смогла восстановить только к XVI в.[24] «С открытием Америки население Европы впервые начало уменьшаться из-за такого фактора, как эмиграция. Стала гуще сеть городов. Этот подъем обрывается к концу XVI в. и переходит в кризис XVII века, обусловленный Тридцатилетней войной, новой эпидемией чумы и все чаще случающимися продовольственными кризисами».[25] Таким образом, о перенаселенности Европы в период до 1800 г. (который ставят условной границей конца доиндустриальных государств в Европе и прорыва мальтузианской ловушки) говорить не приходится. Европа никогда не была перенаселена в том смысле, который вкладывается в это понятие сегодня. (Сами люди различных исторических эпох вполне могли считать, что населения стало больше, а свободного пространства меньше, но это отражение психологических особенностей, кстати, характерных и для современности, а не экономических показателей количества еды на количество населения.)
Относительная перенаселенность регулировалась различными путями: войны и колонизация (участие всех слоев общества); систематические грабительские набеги, которые вели к людским потерям и большим финансовым приобретениям (напр., викинги); отсылка за рубеж большой группы дворянства (как правило, нищего и безземельного), способного с оружием в руках выступить против власти (крестовые походы, экспедиционные отряды в Америку); большую роль в сокращении населения вплоть до Новейшего времени играли эпидемии и городские пожары. В истории человечества еще никогда не было периода, чтобы предел возможности пропитания был достигнут. Голодные года не давали релевантной убыли населения. Рост населения, как и его торможение и упадок, всегда зависел от других факторов. Восстания и революции никак не помогали улучшить пропитание, и это вполне осознавалось уже предками: человек стремился искать лучшей жизни в других землях и находил в колонизации или войне. Рост населения и недостаток ресурсов на какой-то территории всегда в истории, по крайней мере до Новейшего времени, приводил к движению народов, войнам, но не к революциям. Самые яркие и известные примеры - арабы, монголы, викинги.
Исследования демографического и экономического состояния Франции перед революцией (которое является «классическим» в демонстрации причин революций в экономических и демографических факторах) приводят ряд современных исследователей к выводу, что высокое давление демографии на экономику в предреволюционной Франции является недоказанным. 1788 г. дал плохой урожай, но в 1789-м не было никакого кризиса голодания или повышенной смертности.[26] Вообще, в истории Европы нет прямой корреляции между неурожайными годами и кризисами повышенной смертности населения (если эти годы не попадали на эпидемии).[27] Есть связь между ростом населения и ростом стоимости на зерно,[28] но это не означает существенную нехватку продовольствия, голод и увеличение смертности.
Перед Французской революцией не было голода, было падение уровня потребления в связи с двумя годами неурожая. Однако такого падения не было ни перед Нидерландской, ни Английской, ни Американской революциями, ни Китайской, ни Кубинской. Русская революция тоже не была вызвана голодом: в стране было достаточно продовольствия, наличествовали некоторые сложности в прифронтовой зоне и с доставкой продовольствия в Петроград. Голодные не бунтуют, голодные борются за существование. Голод в СССР 1932-33 гг. не вызвал новую революцию, даже значительных массовых и радикальных выступлений против власти не последовало. Бунтующая в 20-е - начале 30-х гг. Германия не голодала. То же можно сказать и о Кубинской революции, и «бархатных революциях», и «цветных».
Проблема здесь заключается не в фактическом положении, а в представлении этого положения. «Голодным годам» сопутствовал фактор панических настроений и резко негативного отношения к богатым и торгующим продовольствием.[29] При этом всегда следует учитывать, что оценка привычного уровня потребления в разных странах и культурах всегда разнится. Ежедневный стол европейского крестьянина Средних веков и Нового времени мог представляться праздничным для русского и пиршественным для китайского. Здесь важен не сам факт голода и недоедания, а представление об уровне, который должен быть.
Проблемы соотношения роста экономики и роста населения связываются с низкой урожайностью: от сам-семь до сам-десять в европейских странах между 1500 и 1800 г.[30] Однако в сравнении с Россией, где средняя урожайность даже в XIX в. редко достигала сам-четыре,[31] такой уровень выглядит сверхбогатым, и он действительно позволял европейским странам иметь излишек и использовать его для развития. (С точки зрения указанных теорий Россия, т.о., вообще не могла существовать, не то что развиваться). Вообще, понятия «излишек» и «недостаток» определяются не количественным значением (если речь не идет о крайне низком уровне, ведущем к голоду), а отношением к этим величинам. То, что человек Средневековья воспринимал как богатую жизнь, сегодня будет на уровне от среднего класса и ниже, и то, что мы сегодня считаем невозможно низким уровнем, было вполне достаточно для людей Средних веков, Нового времени и даже большинства стран начала Новейшего времени.
Главная ошибка причинности мальтузианской ловушки в социальных потрясениях (при переходе от теоретической экономической модели в практическую и гуманитарную сферу) содержится в том, что мышление современного человека эпохи «общества потребления» приписывается предыдущим эпохам. Такой прямой перенос абсолютно неправомерен. Человек Средневековья и большей частью Нового времени воспринимал свой достаток как данность (Богом данный, трудом и т.д.). Фрустрация начинается тогда, когда уровень твоего достатка разнится с релевантными группами, а в Средние века таковыми выступали жители округи, потом страны, такие же крестьяне и горожане. Новое время привнесло фактор интернационализации и сравнений с состоянием за пределами государства, но, во-первых, уровень этой информированности был достаточно ограничен, во-вторых, уровень материального благосостояния граждан различных европейских государств, принадлежащих к одним и тем же социальным группам, отличался незначительно почти до Новейшего времени.
Эта ошибка частично устраняется концепцией «мальтузианско-марксовой», или «мальтузианско-урбанистской ловушки», которая, в отличие от классической мальтузианской ловушки, характерна не для доиндустриальных, а для индустриализующихся стран,[32] но только в той части, если относить эту проблему к индустриализующимся обществам XX и XXI вв. в условиях снижения информационных барьеров, широкого распространения шаблонов «модернизации», «успешности», «достатка», «высокого уровня жизни» и примеров развитых государств. Однако и эта модифицированная форма принципа не устраняет другую проблему: непрекращающуюся цикличность причинно-следственной связи, в случае если мальтузианскую ловушку рассматривать не как экономический феномен, а как причину массового социального протеста. После бунта мальтузианская ловушка никуда не девалась. Т.е. бунт не устранял свою «причину», а если так, то, следуя логике причинно-следственных связей, он должен был возникать снова и снова и переходить в непрекращающийся бунт до тех пор, пока количество населения не уменьшится настолько, чтобы снова повысить уровень материального благосостояния на душу населения. Однако такие масштабные и продолжительные смуты (которые способны были унести такое количество населения) приводят к полному упадку экономики, так что уровень материального благосостояния после таких бунтов существенно ниже, чем до. Т.е. это должно было бы вызывать еще большее недовольство и новые бунты. Такое развитие событий невозможно даже теоретически и на практике никогда не встречалось.
Ведет ли демографический рост сам по себе к социальной напряженности? Д. Голдстоун не решился окончательно остановиться на таком утверждении. Для того чтобы понять причинную структуру и природу государственных кризисов, по мнению исследователя, необходимо ответить на вопрос, влиял ли демографический рост на рост цен, затрагивали ли эти изменения государственные доходы, доход и условия занятости населения в целом?[33] Рост населения может вести к росту цен на продовольствие (и товары), но к этому ведут и неурожайные годы, и процесс инфляции - на таких длительных временных промежутках, которые рассматриваются, этот процесс является закономерным явлением даже вне зависимости от роста или убыли населения. Рост цен и особенно проблемы казны чаще всего были вызваны иными факторами и событиями: войны, расточительность и неразумная политика, - причем эти проблемы могли доставаться по наследству правителям, при которых случались революции. (Алексис Токвиль справедливо утверждал, что истощение Франции (в первую очередь казны) началось при Людовике XIV, еще в период его победоносных войн, почти за столетие до Французской революции.[34]) Т.о., сложно оспаривать тезис, что циклические взаимодействия демографического роста с социальными, экономическими и политическими институтами (особенно при неэластичности этих институтов) могут оказывать влияние на социальную напряженность в обществе и давать всплески активности социального протеста, но тогда сам демографический фактор не является самостоятельным, а насколько определяющим - остается под вопросом. Т.е. сам по себе рост населения не ведет автоматически к взрывам социального протеста.
Что касается проблемы т.н. «молодежного бугра» - когда в обществе существует значительная доля молодых людей в возрасте 15-29 лет,что становится причиной социальной напряженности и радикальных протестов[35]- то этот феномен присутствовал не при всех даже самых известных примерах радикальных массовых форм социального протеста последнего столетия, для которых мы имеем достаточно уверенные статистические данные.Так, в России в начале XX в. и в Германии между двумя мировыми войнами наблюдался демографический факт большой доли молодежи, чего не было на Кубе, а в современных событиях «избыток», или «перевес», молодого населения в структуре общества был характерен только для арабских стран, но не для стран бывшего СССР, где прошли «цветные революции». При этом следует учитывать, что тот «молодежный бугор», который потенциально сформировался в России уже к началу XX в., был существенно уменьшен в связи с потерями в I мировой войне. Что касается Германии и прихода Гитлера к власти, то следует заключить, что «молодежный бугор» придавал особенности политической борьбе и служил одним из факторов победы в этой борьбе правой радикальной партии, но не сыграл решающей роли, а уж тем более не стал основной причиной смуты в немецком государстве и победы НСДАП.[36] И в России, и в Германии с точки зрения социальной базы речь идет не о молодежи как таковой и самостоятельно, а о поколениях, которые сохранили свои политические взгляды и шаблоны поведения, выйдя из молодежного возраста. Наиболее «молодежным бунтом» были события на Кубе, где и руководство, и первоначальный костяк партизанского отряда были достаточно молоды,[37] но во всех трех указанных примерах большая доля молодежи в партиях и боевых организациях, растворилась, когда социальный протест охватил все слои общества. Безусловно, молодежь является самым быстро воспламеняющимся материалом бунта, однако превалирование доли молодежи в обществе, само по себе, не является причиной бунта. Тем более, что чаще всего проблема заключается не в участниках, а в направляющей и идеологической силе, которая формируется представителями старших поколений.
Под «экономическими протестами» большей частью следует считать те, что связаны с улучшением условий труда и требованием определенных государственных гарантий и их исполнения. Протест, имеющий в своей основе экономические требования, редко приобретает радикальные формы. Даже т.н. «всеобщие забастовки» переходят в состояние серьезного бунта, только политизируясь, добавляя (или подменяя) к экономическим требованиям политические. Кроме того, следует отметить, что корни такого «экономического протеста» лежат в сфере представлений о справедливости: справедливой заработной плате, справедливой поддержке государством различных социальных групп и т.д. Выступления крестьянства «за землю» тоже относятся к такой категории психологических понятий. Для крестьянства земля - это не просто средство производства, это целый комплекс психологических установок, включающих в первую очередь и понятие справедливого владения землей тем, кто ее обрабатывает.
Крестьянские восстания и войны XV-XVIII вв. были связаны с усилением поборов и расширением «господских прав», а также с идеей раздела земли. Земля и воля - слова, ставшие самоназванием и лозунгом русских народовольцев, - были главными требованиями крестьян. Исключительно крестьянский состав не давал продолжительности восстания и не превращал его в революционную войну. В европейских крестьянских войнах активное участие принимали горожане и дворяне, борющиеся за свои права. В русских крестьянских войнах активное участие принимало казачество - этносоциальные группы, обладающие особым статусом (законодательно или на практике), проживавшие на границах империи и имевшие военный опыт. Собственно, нарушение прав этого казачества и стало главной причиной их восстаний, которые привели к т.н. крестьянским войнам под руководством Степана Разина (1670-71 гг.) и Емельяна Пугачева (1773-75 гг.). Ни в тех, ни в других случаях нехватка продовольствия или недовольство средним уровнем жизни существующего общества не были ни скрытыми, ни открытыми причинами социального протеста.
Идеология главных примеров социального протеста в период XV-XVII вв. имела религиозную основу. Так было в Гуситских войнах (Богемия 1420-34 гг.), войнах, связанных с Реформацией в XVI в.; к таким примерам относятся и две первые буржуазные революции, в Нидерландах и Англии, которые проходили под религиозным знаменем протестантизма. Религиозная идеология - это идеология справедливости и избранности. Социальные утопии, которые становились идеологией социального протеста, не были ориентированы на обилие продовольствия и товаров, а на социальную справедливость. «Экономические утопии» Фурье и Оуэна не вели к протесту. Лозунги Французской революции: свобода, равенство и братство - это снова лозунги социальной справедливости. Национально-освободительные революции также имели в основе принципы социальной справедливости. Первой социальной утопией (взятой в качестве идеологии протеста), которая ставила во главу угла принципы увеличения достатка, стала коммунистическая идея в марксизме, под знаменем которой прошли многие революции и иные формы социального протеста в XX в. Таким образом, с точки зрения идеологии, т.е. того, за что выступает социальный протест, повышение уровня жизни, особенно в плане его значительного увеличения выше норм существующего общества, никогда до XX в. не стояло в качестве идеи и главного лозунга социального протеста. Но и здесь, в первую очередь, речь шла о более справедливом обществе, справедливом с точки зрения прав, свобод, устранения несправедливостей существующего государства.
Египетские «революционеры» 2011 г. рассчитывали, по их словам, вернуть в страну десятки миллиардов долларов, выведенных за рубеж коррупционерами.[38] События начала 2014 г. на Украине одним из главных лозунгов несли борьбу с коррупцией и расследование трат действующего президента. Это, с одной стороны, наивная вера масс в сказочные средства: скрываемая грамота о воле или земле для крестьян, существование где-то - и возможность их получить (чаще - еще и поделить) - больших средств, перенос причинности из обыденности с ее экономическими кризисами и возможностями государства в сферу решения всех проблем благосостояния одним действием. С другой стороны, это популистские лозунги, в силу указанных особенностей массового сознания действующие на протяжении всей истории цивилизаций. Наличие силы, разыгрывающей эти лозунги в политических целях, является определяющей в разогревании бунта, так как само представление массового сознания возникает вновь и вновь с каждым неблагополучным периодом истории.
Первенство «психологии», а не «экономики» и «демографии» в причинах возникновения радикальных массовых форм социального протеста позволяет объяснить те примеры таких явлений, к которым невозможно (или очень сложно) применить экономические или демографические факторы, и дает понимание, почему люди, выступая с протестными акциями, готовы идти на материальные потери, снижение уровня жизни и даже на риск физических повреждений или смерти в отстаивании своих прав и взглядов.
Экономические требования могут быть на лозунгах, но никто не пойдет умирать на баррикады ради незначительного улучшения условий труда. Для того чтобы это случилось, необходим психологический сдвиг. На баррикады идут за идею: не важно, за какую, главное, чтобы в данный момент времени она представляла собой самую важную идею для данной группы лиц и социальных групп. Безысходность и бесперспективность - достаточно сильный двигатель в этом вопросе. Недаром Маркс подметил, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, - это и есть безысходность и бесперспективность, а перспективу и светлое будущее можно только завоевать кровью на баррикадах революции.
Томас Гоббс дал основу двум самым популярным во второй половине XX в. течениям в поисках психологических причин возникновенияпротеста: теория относительной депривации и теория рационального выбора. К бунту ведет недовольство людей (discontent), полагал Т. Гоббс: пока человек считает, что у него все в порядке, а существующая власть не стоит у него на пути от состояния «хорошо» к состоянию «еще лучше», люди не стремятся к переменам.[39] Однако такой подход позволяет видеть в любых действиях властей, препятствующих представлениям индивида или групп об улучшении их жизни, причины бунта, а это не так: сюда не должны включаться пути, которые общество признает криминальными, и система обложения государством доходов граждан, если большинство общества считает их справедливыми или близкими к такому состоянию.
Еще Аристотель указал на ключевые побудители бунта. Граждане поднимают мятеж, когда 1) группы людей не получают своей доли в государственном управлении[40] и 2) когда наличествует стремление к равноправию, упразднению несправедливых преимуществ у других.[41]При этом повторимся и повторим точку зрения философа: реальное состояние дел не имеет значения.[42]Т. Гоббс, на наш взгляд, называет эти же причины, но другими словами. Первое - это требование почестей определенными группами, у которых есть достаточно свободного времени[43] (т.е. им не приходится беспрестанно работать, чтобы заработать пропитание). Второе - когда Томас Гоббс пишет, что волнениям больше всего способствует «бедность или недостаток того, что необходимо для поддержания достойной жизни»,[44] то ключевым, на наш взгляд, является вторая часть предложения и соотнесение уровня жизни с понятием «достойной жизни».
«Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. От уничтожения богатых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными. Этот вопрос не политической экономии, а полицейского права, т.е. народной психологии»,[45] - писал великий русский историк В.О. Ключевский. Это принципы относительного и сравнительного уровня благосостояния и уровня экономики государства, а не абсолютного. И действительно, сравнительный взгляд имеет более значимое значение. Первичным принципом является сравнение «с окружением»: соседями, представителями той же социальной группы, класса, представителями других социальных групп. Интернационализация привела к сравнениям с другими странами, в том числе с наиболее развитыми. Так, доходы рабочих в дореволюционной России были достаточно высокими (в СССР к уровню таких доходов пришли только в 60-е - 70-е гг.), однако интеллигенция навязывала сравнения с рабочими Германии, Англии и США, и здесь «русский рабочий», безусловно, проигрывал. Бунтующие в Египте в 2011 г. считали оскорбительным низкий уровень своих доходов в сравнении с богатыми арабскими странами и развитыми западными державами. Однако низкий уровень доходов кубинцев, особенно в сравнении с соседними странами и туристами, не вызывает антикастровского движения. Это говорит о том, что здесь действуют и другие принципы.
Сравнительно-оценочный подход к своему положению у различных групп населения и индивидов приводит к формированию протестных настроений в случае, если это положение хуже, чем в сравниваемой релевантной категории. Мелкий служащий может сравнить свой социальный статус и достаток со своим коллегой, а может с категорией топ-менеджеров. В случае, когда в обществе сильна пропаганда идей достижений и роста через труд и затрачиваемые усилия, и этот рост вполне реален, этот субъект чаще всего будет стараться (или воображать эти старания и усилия) вырасти до следующего уровня. Если в обществе такие установки отсутствуют или слабы, или на таком пути встречается огромное количество препон, а сам путь кажется невозможным, то активная часть населения выступит с серьезными протестными акциями. Именно этот комплекс причин - ограничение доступа к общим символам успеха - Роберт Мертон клал в основу антисоциального поведения.[46] Другой причиной, по мнению американского социолога, является чрезмерное психологическое давление, которое образуется в силу излишнего превознесения цели (символов успеха), что ведет к принципу «цель оправдывает средства».[47] В нашем случае речь будет идти о попытках получить недостижимые цели через бунт и социальные потрясения.
Теории рационального поведения и общего блага при выборе протестных действий, пожалуй, тоже наиболее четко были обозначены уже Т. Гоббсом, который утверждал, что люди идут на нарушение законов в том случае, если считают, что эти действия принесут им большее благо и меньшее зло, чем соблюдение законов.[48] Во второй половине XX в. эти подходы получили новую жизнь.
С критикой теории относительной депривации (relativedeprivation) выступили сторонники теории рационального выбора (rationalchoicetheory) применительно к социальному протесту. Сторонники этого подхода справедливо называют трюизмом основной тезис теории относительной депривации: люди, которые принимают участие в актах гражданского неповиновения или политического насилия, чем-то недовольны. Теория рационального выбора применительно к социальному протесту базируется на работах Манкура Олсона «Логика коллективного действия» (1965) и Гордона Таллока «Парадокс революции» (1971) и утверждает, что недовольство само по себе не важно, решение заинтересованного человека относительно участия в коллективных политических выступлениях, таких как протест или восстание, принимается на основании желаний определенных результатов: сокращение неравенства, изменение в государственной политике или иные подпадающие под понятие общественной пользы, - если эти блага можно получить и так, то индивиду нет смысла участвовать в каких-либо коллективных действиях.[49]
Участие индивидов и групп, согласно такому подходу, выглядит абсолютно рациональным, и его можно рассчитать. Выстраиваемые формулы ожидаемого уровня участия в коллективных политических действиях зависят от ценности (важности), которую индивид прилагает к общественному благу.[50] Наибольшая уязвимость этих теорий проявляется при рассмотрении конкретных исторических примеров массовых радикальных форм социального протеста. Так, Джеймс Гибсон на примере революции в России в августе 1991 г. расшифровывал указанные постулаты таким образом, что если граждане полагают, что их активность не спасет демократию, то они не будут в них участвовать, но выступят, если будут уверены в обратном.[51] Однако участники событий в Москве в августе 1991 г. (не элиты и контрэлиты, а народ, вышедший на поддержку Белого дома) не то что не взвешивали на чаше весов «затраты-общественное благо», но имели небольшие представления о борьбе за демократию и т.п. Этот протест был протестом в прямом смысле слова - протестом против того, что происходит, а не движением за нечто другое.
Проблема «замеров» протестных настроений и определения их причин наталкивается на две существенные ментальные особенности. Социологические опросы не дают возможности оценить уровень реального, а не декларируемого протеста, а также степень его активности (готовность к активным действиям). Любой опрос дает «проговариваемые причины», т.е. те, которые люди вербализуют и формализуют. Разница между произносимыми причинами и реальными у респондентов может быть достаточно велика, особенно в случае с радикальными формами социального протеста: любые крайние формы сильно связаны с эмоциональной составляющей, которую очень тяжело объяснить и формализовать.
За последние десятилетия было предложено множество формул расчета потенциального участия граждан в протестных акциях, например, что восстание равно сумме недовольства, мобилизации, заразительности и возможностей самого восстания; или возможности, идентичности, мобилизации, репрессии, недовольства; к последним составляющим добавляются другие привходящие элементы, такие как заразительность, демократизация и величина группы, безработица, потерянная автономия, ВВП, уровень образования, стойкость режима.[52]
Следует отметить, что, невзирая на сложность, подобные формулы тоже являются трюизмом и никак не приближают к ответу на вопрос «почему же люди бунтуют?». Отстаивание групповых интересов в таких вопросах, как лоббирование или достижение групповой пользы (коллективное или общественное благо) в корпоративном секторе и бизнесе, о которых ведет речь М. Олсон,[53] вполне рационально и основано на принципах расчёта, но такой подход нельзя интерполировать и механически переносить на протестные настроения. Участие в массовых радикальных акциях протеста идет не от головы. Как отметил немецкий философ Людвиг Фейербах, «сердце порождает революции, голова - реформы».[54]
Т.о., приписывание протесту расчета ожидаемых выгод от участия (в виде преимуществ, связанных с коллективной пользой) или полезности этого участия (которая определяется с точки зрения относительной величины затрат и преимуществ)[55] не имеет отношения к радикальным и массовым формам протеста - речь в данном случае не идет о политических партиях или лидерах, стремящихся возглавить протест. Рациональность действует в электоральном процессе, рациональные аргументы способны осуществлять накопление негатива против власти, но последней каплей всегда выступает сильный эмоциональный порыв. Любые крайние формы поведения человека сильно связаны с эмоциональной составляющей, и радикальные формы социального протеста, особенно массовые, имеют ту же основу. Основная масса протеста в таких случаях выходит по убеждениям, а не исходя из расчета последствий и потенциальных выгод. Бунта не происходит, если нет убежденности бунтаря в своей правоте,[56] а это происходит только тогда, когда человек выходит на протестные акции по убеждениям (речь не идет об организованной массовке). Вот почему наиболее яростные противостояния происходят на религиозной и национальной почве.
Выдающийся русский мыслитель начала XX в. Владимир Францевич Эрн справедливо заметил, что «проблема свободы - это бесспорно одна из самых трудных и сложных проблем. Когда ее берутся решать практически - льются потоки крови. Когда в нее углубляются теоретически - заходят в такие дебри умозрения, что становится трудным связать исходные пункты рассуждения с результатами».[57] Однако на бытовом уровне свобода понимается достаточно просто - как право и возможность своих верований, высказывания собственного мнения, а также различных действий и поступков. Первые два принципа закреплены во всех демократических конституциях. Два последних являются всегда результатом сочетания общесоциальных и индивидуальных стремлений, а также принципов «права и обязанности», «преступление и наказание» и т.п. «Реки крови» говорят о важности этого принципа и понятия и его ключевом значении в социальных требованиях и, соответственно, в возникновении и развитии социального протеста. С «принципом свободы» тесно связан «принцип справедливости». Ущемленное чувство справедливости - один из основных двигателей бунта, и на этом сходились все философы от Аристотеля до Юма.[58]Восстание против деспотичного режима, которое все социальные философы считали правомерным, выступает как борьба за свободу и справедливость (так как тирания и деспотичный режим - это набор проявленных «несправедливостей» и ущемление прав, которые считаются неотъемлемыми). Исследование протестных настроений французов со времен Фронды сер. XVII в. до начала Великой французской революции приводит к выводам, что бунтовщики боролись прежде всего за справедливость и были убеждены, что вершат правосудие.[59] Американская революция начиналась неприятием жителями колоний указов английской короны в отношении них, которые они сочли несправедливыми, лишающими их свободы собственных решений.[60] Социальная справедливость в виде свободы и равенства была главным лозунгом Великой французской революции. Идеи справедливости для всех обездоленных лежали во всех народных и социалистических революциях XX в. Идеи классовой справедливости лежали в основе Русской революции, национальной справедливости - в идеологии Гитлера, национальной и классовой справедливости - в Кубинской революции. Лозунги, требования, ожидания всех «цветных революций» - это тоже различные вариации на тему «справедливость».
Проблема неравенства считается основой социального конфликта.[61] Неравенство - это тоже проблема, относящаяся к принципам справедливости и восприятия людьми собственного положения. Справедливость определяет такие ключевые понятия, как свобода, национальная идея (в широком контексте), свобода воли и вероисповедания, человеческое достоинство и др. Принцип справедливости (справедливость системы, законов, действий) определяет легитимность власти. Русская общественная мысль XVI-XVII вв. выработала термин «правда» для обозначения широкого понятийного значения, связанного со словом «справедливость».
Главные мотивационные принципы радикальности и массовости социального протеста лучше всего прослеживаются в самых масштабных проявлениях этого протеста.Каждое сильное протестное движение опирается на определенную идеологию, иболее того, чем сильнее такое движение, тем более сильные идеологические посылы должны лежать в основании, и наоборот, чем сильнее идеология, ее постулаты и воздействие, тем более сильным и жизнеспособным получается социальный протест. Особенно ярко этот принцип проявляется в таких радикальных формах социального протеста, какими являются революции. На протяжении всего Нового времени те революции, у которых не было четкой и основательной идеологической базы, оказывались в лучшем случае половинчатыми, а чаще - заканчивались поражением. К таким, например, можно отнести большинство революций в Европе 1848-1850 гг., Парижскую коммуну 1871 г., Германскую революцию 1918 г., Русскую революцию периодов 1905-07 гг. и февраля 1917 г.,целый ряд латиноамериканских революций и др.
Первая «буржуазная революция» - революция 1566-1609 гг. в Нидерландах - являлась по сути своей войной протестантов (кальвинистов) против католиков и инквизиции, а основной вопрос революции - свобода вероисповедания.[62] Пуританизм стал идеологией Английской буржуазной революции 1640-1660 гг.[63] Фридрих Энгельс специально подчеркивал, что «кальвинизм создал республику в Голландии и деятельные республиканские партии в Англии».[64] Религиозные аспекты были характерны и для Американской революции - войны за независимость США (1775-1783 гг.). Великая французская революция была зарождена идеями Просвещения, но «это была революция, которая обеспечивала неожиданную движущую силу светской религиозности...».[65] Эта «светская религиозность» в конце концов вылилась в строительство Пантеона - усыпальницы великих людей, культы Разума и Высшего Существа с Робеспьером в роли первосвященника и праздниками, посвященными Верховному Существу, Истине, Справедливости, Скромности, Дружбе, Воздержанности, Искренности, Славе, Бессмертию, Несчастью и т.д., наконец, всем нравственным и республиканским добродетелям.[66] Как обратил внимание один из ранних исследователей Великой французской революции Алексис Токвиль, несмотря на свой политический характер, эта революция действовала «подобно религиозной».[67] Русская революция, шаблоном для которой выступила Великая французская революция, как и французская, опиралась на философское учение, а не религию, но эти философские системы превратились в очень близкие к религиозным и заменили собой религиозное мировоззрение.
Пример марксизма дает квинтэссенцию для понимания психологических ориентиров в рассматриваемых вопросах. Марксизм был преподнесен в качестве мессианской идеи для рабочего класса, а если еще шире - для всех обездоленных, в этом учении был предложен путь построения нового общества, основанного на общем полном равенстве и справедливости, - это и сделало марксизм одной из самых популярных и успешных социальных теорий в качестве основы протестного движения («революционного» - как самой радикальной формы социального протеста), которая послужила идеологической основой Великой русской революции, т.н. «пролетарских» и многих «народно-демократических» революций XX в., а также многих леворадикальных протестных движений двадцатого столетия.[68]
Идея создания идеального общества являлась одной из самых сильных движущих сил идеологии протеста XVI-XIX вв. - от утопии Томаса Мора до «коммунистических теорий». «Таково, - писал по этому поводу Ф. Энгельс, - было движение Томаса Мюнцера во время Реформации и Крестьянской войны в Германии, левеллеров - во время Великой английской революции, Бабёфа - во время Великой французской революции. Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями; таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке - уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли)».[69]Заменив «утопические общества» на идею «научно обоснованного» коммунистического мира, марксизм заменил собой все социальные утопии, став главной идеологией социального протеста XX в. (Однако популярность и жизнестойкость марксистских утопических идей в качестве идеологии социального протеста следует искать не только в самом «учении» и удачном сочетании компонентов марксизма как идеологии, но и в его носителях и последователях, которые и превратили его «в боевую теорию революций».)
Идеология религий или философских учений не исчерпывает главные мотивационные принципы радикальных форм массового социального протеста. Так, не «обремененные» «большой идеологией» (религий, Просвещения, марксизма и т.п.) Бисмарк и Гарибальди, пользуясь поддержкой масс (протестные настроения против раздробленности и иноземных монархий), добились объединения - один Германии, другой Италии, один сверху, другой снизу - сделали то, что не смогла сделать ни одна революция в их странах. Здесь мы имеем дело с идеей национальной свободы и национального объединения (национальной независимости).
Национальная идея и элементы национализма и интернационализм (кажущиеся на первый взгляд идеями и принципами абсолютно противоположными) выступают самыми распространенными основами (или основой) идеологии протеста. Различные современные авторы предлагают определять национализм как создание объединенных притязаний от имени населения к идентичности, юрисдикции и к территории;[70] видеть в нем оппозицию международному объединению;[71] выделяют территориально-гражданский национализм и этнокультурный национализм, этатический и культурный национализм;[72] характеризуют это явление как консервативное, либеральное или социалистическое.[73] Действительно, национализм необходимо рассматривать в широком контексте, выходящем за определение подавления одной нации другой: национализм связан с базовым принципом «мы-они» и проявляется на бытовом уровне даже в среде самых демократичных и толерантных слоев населения даже в самых благополучных странах. Сюда же следует отнести культурно-исторические особенности, которые, по мнению населения, выделяют их народ (нацию, страну) среди других народов.
Интернационализм имеет несколько коннотаций. Интернационализм рассматривается в противоположность национализму 1) как равенство, солидарность и сотрудничество всех народов, 2) равенство, солидарность и сотрудничество рабочего класса в борьбе с национальными государствами и национальной буржуазией. Более широкое понимание интернационализма - это интернационализация различных слоев населения разных стран в связи с процессами «стирания границ» и «уменьшения расстояний», общей глобализации экономики, политической и общественной жизни. Эта интернационализация характеризуется преобладанием общих принципов (общегуманитарных, общеевропейских, цивилизованных и т.д.) над национальными в мышлении, культуре, политике и экономике.
Национальная идея (и национализм в указанном выше понимании) была присуща всем национально-освободительным движениям и революциям. Первая буржуазная революция - Нидерландская - по сути, являлась национально-освободительным движением против испанского владычества и базировалась на национальной идее в сумме с религиозными различиями. Революция в Америке так и называется - война за независимость. Национальная идея как основа идеологии протестного движения проявилась в национально-освободительной революции в Норвегии в 1814 г., Греческой 1821-29 гг., 1830 г. в Бельгии, 1848-49 гг. в Венгрии и Италии. Образование единого национального германского государства составляло главную задачу революции 1848-1849 гг. в Германии.[74]
Национальный вопрос стоял остро для западных территорий Российской империи - Польши, Финляндии, Западной Украины. В борьбе с царизмом отдельный расчет лидеров большевиков строился на «инонациональное население», т.е. «нерусское население» и национальные окраины империи.[75] Ленин видел революционные преимущества России перед Европой в наличии целого ряда угнетенных царизмом народностей, которые «делают натиск на самодержавие особенно энергичным».[76] В ходе революции и гражданской войны национальный вопрос раскачали до такой степени, что он стал одним из самых важных (или самых используемых) для всех национальных окраин.
Национальная идея (в ее политическом, социальном и экономическом проявлении) стала определяющей в приходе Гитлера к власти, что произошло в результате высокого уровня социального протеста в стране и радикализации населения. Несмотря на, казалось бы, самый крайний случай национализма, пример с Германией демонстрирует и диалектику принципов. Р. Гриффин отметил, что коммунизм, провозглашавший интернационализм, на практике реализовывался привлечением радикального национализма, фашизм, «будучи крайне этноцентрическим и ультранационалистическим - может, тем не менее, прибегать к интернационализму в рамках представления отдельных попыток возрождения нации, расы или региональной культуры (этноплюрализм) как частных проявлений международной борьбы против общих врагов (например, коммунизма, материализма, иудаизма, исламизма, мультикультурализма, западного загнивания)...»[77]
Национальная независимость, политическая, экономическая и культурная самостоятельность и т.п. стали движущей силой всех антиколониальных революций, революций 1989-91 гг. в странах «социалистического лагеря».
При всех лозунгах о демократии и свободе, стремлении отстоять собственное понимание справедливости и требуемого уровня благосостояния и ряде других психологических причин бунта, события на Украине 2004 и 2014 гг. и в ряде арабских стран в 2011 г. и сегодня показывают важность «национального фактора»: национализм в форме отстаивания самоидентификации на Украине или кланово-племенных конфликтов в Ливии и Сирии, а также идеи единого арабского обновления всей «арабской весны».
Интернационализация мира с началом Нового времени привела к тому, что стали стираться границы, крупные события в одном европейском государстве оказывали влияние на другие государства. Гражданские войны, религиозные войны и революции стали легко пересекать границы. Образованные слои общества стали сравнивать условия и принципы жизни с другими государствами не просто с точки зрения познавательной, а как ориентир в развитии. Прием ссылки на установления в вымышленных государствах использовался с незапамятных времен (утопии), здесь ориентироваться начали на вполне конкретные государства, пусть даже приписываемые им законы и условия могли и не соответствовать действительности.
Интернационализм проявлялся в сравнении собственной страны с другими странами, их уровнем развития, в стремлении жить по лучшим международным образцам.
Многие революции XX в. и сильные протестные движения использовали марксистскую идею интернационализма рабочего класса.
Если разобрать классический постулат о пролетарском интернационализме, то обращает на себя внимание, что не происходит смены ценностей как таковой, просто национальная идея и предмет национальной гордости смещаются в область революционных достижений. «Мы полны чувства национальной гордости, - писал Ленин в 1914 г. в статье «О национальной гордости великороссов», - ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм... И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий».[78] Т.е. верх патриотизма - стать передовой державой, а передовой страна может стать, осуществив самый прогрессивный переход в истории - пролетарскую революцию, и построив самый прогрессивный строй. Более того, идеи интернационализма хорошо накладывались на пример передового для многих европейцев, и особенно революционеров, государства - США. Здесь, во-первых, отдельные национальности складывались в новый народ-нацию - американцев, а во-вторых, заимствовались самые передовые технологии и формы. Таким образом, идеи интернационализма вполне сочетаются с национальными идеями и «национальной гордостью».
Т.о., национальная идея (национализм в указанном понимании) является одним из самых сильных мотивационных факторов протестного поведения. При этом интернационализм, в том понимании, как мы разобрали выше, становится не менее сильным фактором, особенно в сочетании с первым. Интернационализм наравне с национализмом (или в обратном порядке) смог стать идеологической платформой большевиков, нацистов, Кубинской революции, «цветных революций». Сочетание интернационализма и национализма стало характерной чертой «арабской весны»: национальная идея на уровне недовольства отсталостью страны и благосостояния народа в сравнении с развитыми странами, а на уровне группы народов - солидарность с другими арабскими странами.
Итак, люди бунтуют тогда, когда их представления о том, как есть, расходятся с представлениями о том, как должно быть, и на определенном временном промежутке представления о важности ликвидации этого разрыва начинают превалировать над всем остальным, перевешивать защитные механизмы самосохранения, логики и трезвого расчета. Чем больше этот разрыв и отсутствие движения в сокращении этого разрыва в государственной политике, тем больше возникает чувство безнадежности и усталости от действующей власти. Когда такое восприятие совпадает на групповом уровне, это вызывает протестные настроения, когда они охватывают большие социальные группы и появляется «спусковой крючок» - это ведет к массовым радикальным протестным выступлениям.
Многочисленные исторические примеры демонстрируют, что наличие тяжелой экономической ситуации, падение благосостояния, демографический рост и другие социально-экономические факторы не являются сами по себе причинами потенциального протеста, однако, безусловно, входят в факторы риска для возникновения бунта.
Причины возникновения социального протеста, особенно в его радикальных и массовых формах лежат в психологии, что, собственно и делает протест удобной мишенью для политических технологий. Наиболее сильные психологические установки для проявления протеста - это комплексы проблем, связанных с понятиями «свобода» и «справедливость», а также «утопия» (построение лучшего общества - более справедливого, богатого, свободного и т.д.), «национализм» и «интернационализм».
Бунт возникает тогда, когда значительная доля общества полагает сложившееся положение дел несправедливым, при этом вина за это возлагается на власть и отсутствует надежда на способность власти исправить положение вещей. Все три компонента имеют определяющее значение. Ухудшение материального положения вплоть до тяжелого будет восприниматься несправедливым, но не вызовет бунта, если вина за это будет возлагаться на экономический кризис, сторонние силы, но не действующую власть. То же касается и других классических причин и поводов. В странах развитой демократии первые два состояния (несправедливость и вина власти), как правило, не получают третьего компонента, потому что неспособность действующей власти компенсируется верой в смену власти на следующих выборах.
Важная деталь - к протесту приводит не само ухудшение материального положения после периода подъема и благополучия, а обвинение правительства в этих ухудшениях и неверие в способность правительства решить проблемы. Т.о., периоды ухудшения положения могут являться своеобразным спусковым крючком, но это требует дополнительных условий, в частности, наличия партии (группы/групп), нацеленной на использование протестных настроений в политических целях.
В 1905 г. начало протестному движению в России положила интеллигенция, которая сначала подтолкнула царизм к войне с Японией, а когда война пошла неудачно, стала обвинять царя и правительство во всех неудачах и неспособности управлять страной. Похожая ситуация сложилась и в I Мировую войну: в 1914 г. всеобщее единение и повышенный всплеск патриотизма в связи со вступлением в войну с Германией, и обвинения в неудачной войне в конце 1916 г. и резкие антиправительственные и антимонархические настроения. Недовольство положением в связи с войной стало основной причиной протестных выступлений петроградских рабочих и в петроградских частях, что привело в феврале 1917 г. к отречению Николая II и появлению Временного правительства. Нежелание воевать весь 1917 г. давало питательную базу протеста среди солдатской массы на фронтах, в Петроградских частях и на базе флота в Кронштадте, нежелающих отправляться на фронт. Обещание прекращения войны стало главным козырем большевиков в борьбе за власть.[79] Поражения, огромные потери, тяжелейшее положение на фронтах и в тылу в период войны с тем же противником в 1941 г. не привели к возникновению массового радикального протеста в СССР. В неудачах всегда обвиняется вышестоящее руководство (вне зависимости от обоснованности или необоснованности таких обвинений и их справедливости), и 1941 г. не стал исключением, но это недовольство не вылилось в активное недовольство властью. Разница с 1905 и 1917 гг., очевидно, заключалась в отсутствии протестной идеологии и партии (партий, политических сил внутри страны) желающих и способных разжечь такой протест и использовать его в своих целях.
Предвестниками смуты Фрэнсис Бэкон считал «пасквили и крамольные речи», «а также ложные слухи», порочащие правительство: «когда они возникают часто и охотно подхватываются» - жди мятежа.[80] При этом английский философ был уверен, что одни и те же слухи и крамольные речи повторяются с каждым мятежом.[81] Другой английский мыслитель Томас Гоббс считал, что «в государстве, граждане которого устраивают мятежи» обязательным компонентом всех бунтов являются «учения и склонности... предрасполагающие людей к мятежу».[82]
В началеXX в. социолог Вильфредо Парето, видимо, взяв за основу идею Никколо Макиавелли[83], вывел постулат, «что всякое правление покоится на согласии и силе».[84]В. Парето указал причины переворотов, революций и иных форм социального протеста в слабости правящего класса, который «преимущественно довольствуется настоящим и мало беспокоится о будущем».[85] Этот правящий класс не способен ассимилировать «лучшие элементы, рождающиеся в классе управляемых».[86] Если при этом «в управляемом классе имеется некоторое количество индивидов, склонных к применению силы, и если у них есть предводители, способные вести их за собой, то правящий класс часто лишается власти и его место занимает другой класс».[87] Таким образом, В. Парето во главу угла поставил неспособность действующих элит и активность идущих им на смену. В определении революционной ситуации В.И. Ленина (сделанных параллельно заключениям Парето) этот пункт входит в два условия: неспособность действующей власти управлять по-старому и наличие активной политической партии, способной повести массы.[88]
Наши рассуждения тоже приходят к выводам, что существуют два ключевых условия выплеска социального протеста в радикальные массовые формы. Это - 1) наличие идеологии - общих протестных идей, захватывающих большие социальные группы; 2) наличие групп (партий в широком понимании), стремящихся использовать данный протест для достижения определенных целей. Успешность данных выступлений с точки зрения свержения действующей власти зависит от способности этой власти сопротивляться, и это сопротивление выражается в идеологии (пропаганде ценностей) и социальной поддержке, что позволяет купировать протест (с помощью силы и/или некоторых уступок).Т.о., с точки зрения прогнозирования радикальных массовых форм социального протеста можно заключить, что если в стране возможна протестная идеология (которая будет концентрироваться вокруг указанных выше принципов), которая может иметь подпитку в указанных политических, социальных и экономических факторах риска, и группа или группы людей, которые видят в протестных выступлениях определенные возможности, то в стране обязательно возникнут проявления протеста в радикальных и массовых формах. Степень их массовости и успешности будет зависеть от запаса прочности власти и ее способности сыграть на опережение, лишить протест социальной подпитки и быстро и эффективно свести его на нет.
Шульц Эдуард Эдуардович, кандидат исторических наук, директор Центра политических и социальных технологий
***
Родился в 1972 г.р.
Выпускник исторического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук (МГУ).
Автор 5 монографий и 40 статей в научных журналах.
Директор Центра политических и социальных технологий.
[1]Шульц Э.Э. Причины возникновения радикальных форм социального протеста (историографический обзор) // Вестник МГУ. Серия "Политология". 2014. № 2. С. 40-51; См. также: Шульц Э.Э. Сирия: к пониманию причин событий // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 29 (266). С. 35-42; Он же. Теория социальных движений: проблемы теории и практики // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2014. № 4. С. 23-30; Он же. Технологии бунта: «цветные революции» и «арабская весна» // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 19 (256). С. 46-54.
[2]Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. С. 41; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. СПб.-М.: Товарищество М.О. Вольф, 1880. С. 143; Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологический словарь. Т. 1. М.: Вече, 1999. С. 65; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. С. 56; Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Политологический словарь-справочник. Ростов-на-Дону: Наука-Спектр, 2008. C. 41; Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2013. С. 47; Collin P.H. Dictionary of Politics and Government. 3-rd ed. London: Bloomsbury Publishing, 2004. P. 216.
[3]Подробноореволюцияхвданномконтекстесм.: ШульцЭ.Э. Теорияреволюции: революцииисовременныецивилизации. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 113-114, 171-217.
[4] См.: Шульц Э.Э. Технологии бунта. (Технологии управления радикальными формами социального протеста в политическом контексте). М.: Подольская фабрика офсетной печати, 2014. С. 12-23, 31-44.
[5]Грамши А. Политическая борьба и война // Грамши А. Избранные произведения в трех томах /Пер. с итальянского. Т. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С. 196; Гевара Э., Че. Партизанская война как метод // Гевара Э., Че. Статьи, выступления, письма. М.: Культурная революция, 2006. С. 331; Каутский К. Путь к власти. (Политические очерки о врастании в революцию). М., 1959. C. 77; Ленин В.И. Заключительное слово по докладу об очередных задачах Советской власти (Заседание ВЦИК 29 апреля 1918 г.) // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 36. М.: Политиздат, 1969. С. 269; Ленин В.И. Крах II Интернационала // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М.: Политиздат, 1969. С. 219-220; Ленин В.И. Маевка революционного пролетариата // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 23. М.: Политиздат, 1973. С. 300.
[6] Gregory P.R. Russian National Income, 1885-1913. Cambridge University Press, 2004. P. 192-194.
[7]ШульцЭ.Э. Технологиибунта. С. 268-270, 299-300.
[8] Davies J. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. 1962. 27. P. 5-19.
[9] См.: Коротаев А.В. О возможных экономико-психологических факторах Украинской революции 2014 года // Историческая психология и социология истории. 2014. № 1. С. 56-74.
[10] Шульц Э.Э. «Оранжевая революция» и технологии управления бунтом // Политическая экспертиза. 2013. № 3. С. 137-143.
[11] Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении /Пер. И.А. Вернера. М.: Издание К.Т. Солдатенкова, Типо-литография О.И. Лашвевич и Ко, 1895. C. XXX, XL, XLI; Bonar J. Malthus and His Work. London: Macmillan and Co., 1885. P. 3; Fetter F.A. The Essay of Malthus: A Centennial Review // Yale Review, August, 1898. P. 154.
[12] См.: Мальтус Т.-Р. Указ.соч. C. VIII, XVIII, XVIII.
[13]Там же. C. 10, 13-16, 22.
[14] Там же. C. 33-34.
[15] См.: Гринин Л.Е., Малков С.Ю., Гусев В.А., Коротаев А.В. Некоторые возможные направления развития теории социально-демографических циклов и математические модели выхода из мальтузианской ловушки // История и Математика: процессы и модели /Ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 134-210; Turchin P., Korotayev A. Population Dynamics and Internal Warfare: A Reconsideration // Social Evolution & History. 2006. N 5 (2). P. 112-147.
[16]Crouzet F. A History of the European Economy, 1000-2000. Charlottesville - London: The University Press of Virginia, 2001. P. 87.
[17] Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира /Пер. с англ. М.: Издательство Института Гайдара, 2012. С. 14.
[18] Там же. С. 15.
[19]Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М.: «Восточная литература» РАН, 2003. С. 194.
[20]Бодрийяр Ж. Общество потребления. го мифы и структуры /Пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской. М.: Республика; Культурная революция, 2006.C. 67.
[21]CrouzetF. Op. cit. P. 10, 88.
[22]Goldstone J.A. Revolution and rebellion in the early modern world. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 2-3.
[23] Goldstone J.A. Revolution and rebellion... P. 2-3, 27, 31, 419-421; Goldstone J. The New Population Bomb: The Four Megatrends that will Change the World // Foreign Affairs. 2010 (January/February). Vol. 89.No. 1.P. 31.
[24]CrouzetF. Op. cit. P. 89; ЛивиБаччи М. Демографическая история Европы. СПб.: Александрия, 2010. С. 15.
[25]ЛивиБаччи М. Указ.соч. С. 15.
[26]См.: CrouzetF. Op. cit. P. 92.
[27]См.: Crouzet F. Op. cit. P. 92-93.
[28]ЛивиБаччи М. Указ.соч. С. 27.
[29] См.: Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок: протестующая толпа во Франции между Фрондой и революцией. Изд. 2-ое. М., 2012. С. 132, 133, 161.
[30]ЛивиБаччи М. Указ.соч. С. 26.
[31] Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. С. 384, 390.
[32] Гринин Л.Е. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции // О причинах русской революции /Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: Издательство ЛКИ, 2010. C. 214, 216.
[33]Goldstone J.A. Revolution and rebellion... P. 27, 31.
[34]Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб.: Алетейя, 2008. С. 151.
[35] Goldstone J. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict // Journal of International Affairs. 2002. № 56. P. 11-12; Kaufmann E.P., Toft M.D. Introduction // Political Demography: How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics /Ed. by Jack A. Goldstone, Eric P. Kaufmann, Monica Duffy Toft. OxfordUniversityPress, 2012.P. 6.
[36] Шульц Э.Э. Приход нацистов к власти в Германии и концепция «молодежного бугра» // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 3 (30). С. 98-101. См. также: Шульц Э.Э. «Левый» и «правый» бунт в Германии 1920-30-х гг.: истоки, ход событий, результаты. Барнаул: Издательская группа «Си-пресс», 2014. С. 75-91; Он же. Э.Э. От Веймарской республики к Третьему рейху: Электоральная история. Германии 1920-х - начала 1930-х гг. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 150-180.
[37] Шульц Э.Э. Феномен кубинской революции в контексте технологий управления социальным протестом // Приволжский научный вестник. 2014. № 4 (32). С. 145-153.
[38] См. интервью: Васильев А.М., Петров Н.И. Рецепты арабской весны: русская версия. М.: Алгоритм, 2012. С. 26.
[39] Hobbes T. De Corpore Politico, or the Elements // Hobbes T. The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury /Ed. by Sir William Molesworth, Bart.Vol. IV. London: JohnBohn, 1840. P. 200.
[40] Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М., 1983. С. 527.
[41] Там же. С. 529, 530.
[42] Там же. С. 529.
[43] Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М.: АСТ; Минск: Харвест, 2001. С. 166.
[44] Там же.
[45] Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IX. М.: Мысль, 1990. C. 394.
[46] Мертон Р. Вызов Демонов антисоциального поведения // Кризис сознания. М.: Алгоритм-Книга, 2009. С. 36-37.
[47] Там же. С. 38.
[48]Гоббс Т. Основ философии. Часть третья. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 327.
[49]Finkel S.E., Muller E.N., Opp K.-D. Personal Influence, Collective Rationality, and Mass Political Action // American Political Science Review. 1989. Vol. 83, No 3 September. P. 885-886.
[50]Ibid. P. 886.
[51] Gibson J.L. Mass Opposition to the Soviet Putsch of August 1991: Collective Action, Rational Choice, and Democratic Values in the Former Soviet Union // The American Political Science Review. 1997. Volume 91, Issue 3 (September). P. 672.
[52] Saxton G.D. Repression, Grievances, Mobilization, and Rebellion: a New Test of Gurr's Model of Ethnopolitical Rebellion // International Interactions. 2005. 31. P. 5, 7, 8.
[53] Olson M. The Logic of Collective Action.Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge - London: Harvard University Press, 2002. P. 1, 3, 22-23, 51-52.
[54] Фейербах Л. Предварительные тезисы к реформе философии // Фейербах Л. Сочинения в 2-х т. М.: Наука, 1995. С. 81.
[55]GibsonJ.L. Op. cit. P. 672.
[56]Камю А. Человек бунтующий // Камю А. Сочинения в пяти томах. Т. 3. Харьков: Фолио, 1998. C. 70.
[57] Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. C. 157.
[58] Шульц Э.Э. Политическая теория социального протеста от Аристотеля до Гоббса // Приволжский научный вестник. 2014. № 1. C. 118-124.
[59] См.: Чеканцева З.А. Указ.соч. С. 452.
[60] Гегель. Из «Конфиденциальных писем о прежнем государственно-правовом отношении земли Ваадта (ВО) к городу Берну» // Гегель. Политическиепроизведения. М.: Наука, 1978. С. 56.
[61]Lichbach M.I. An Evaluation of "Does Economic Inequality Breed Political Conflict?" Studies // WorldPolitics. 1989. Vol. 41.No. 4.P. 431, 433.
[62] История Европы. Т. 3. От Средневековья к Новому времени (конец XV - первая половина XVII в.). М.: Наука, 1993. С. 364-384.
[63] История Европы. Т. 4. Европа Нового времени (XVII-XVIII века). М.: Наука, 1994. С. 19; Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. Некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века. М.: Изд-во соц.-эк. литературы, 1958. С. 144.
[64] Энгельс Ф. Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 22. М., 1962. С. 308.
[65]Cassels A. Ideology and International Relations in the Modern World.LondonandNewYork, 2003. P. 7.
[66] См.: История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. М.: Наука, 2000. С. 80-81; Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 311, 313.
[67]Токвиль А. Указ.соч. C. 21-22.
[68] Подробно см.: Шульц Э.Э. Теория социального протеста. Барнаул: Издательская группа «Си-пресс», 2014. С. 81-102.
[69] Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-ое. Т. 20. М., 1961. C. 18.
[70] Hearn J. Rethinking Nationalism: A Critical Introduction. Palgrave Macmillan, 2006. P. 11.
[71]Holbraad C. Internationalism and Nationalism in European Political Thought. Palgrave Macmillan, 2003. P. 2.
[72]Gans C. The Limits of Nationalism.Cambridge University Press, 2003.P. 9, 17.
[73]Holbraad C. Op. cit. P. 1-2. См. также: Onuf P.S. Nations, Revolutions, and The End of History // Revolutionary Currents. Nation Building in the Transatlantic World /Ed. by Michael A. Morrison and Melinda Zook.Rowman&LittlefieldPublishers, 2004.P. 173-188.
[74] См.: История Европы. Т. 5. С. 295.
[75] Ленин В.И. Статистика и социология // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 30. М., 1973. С. 356.
[76] Ленин В.И. Революция типа 1789 или типа 1848 года? // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 9. М., 1967. С. 381.
[77]Гриффин Р. Фашизм // ПОЛИС. 2012. № 3. С. 141.
[78] Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 26. М., 1969. С. 107-108.
[79] Ленин В.И. Большевизм и «разложение» армии // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 32. М., 1969. С. 256; Крупская Н.К. Октябрьские дни// Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 2. М., 1989. С. 264; Ленин В.И. Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской войной... // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-ое. Т. 34. М., 1969. С. 218.
[80] Бэкон Ф. Опыты, или Наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах Т. 2. М., 1978. С. 381.
[81] Там же.
[82] Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. С. 158.
[83]Макьявелли Н. Государь // Макьявелли Н. Государь. М.: АСТ, 2012. С. 44.
[84] Парето В. Трансформация демократии /Пер. с итальянского. М.: Территория будущего, 2011. С. 140.
[85] Там же. С. 347.
[86] Там же. С. 348.
[87] Там же.
[88] Ленин В.И. Маевка революционного пролетариата. С. 300; Ленин В.И. Крах II Интернационала. С. 219-220.