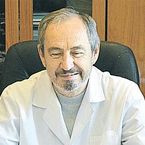Генерал-губернатор (1905 - 1908)
После японской войны (1905 - 1909)
Бюрократия, финансовые заботы, парламент
Сотрудники и противники по работе
Дальние и малые поездки. Ликвидация старых порядков
Говорят, «дурная слава по большой дороге валит, а добрая - по тропинкам пробирается». Со слов тех, кого я видел после освобождения из крепости, для меня было ясно, что по тропинке кое-что уже пробирается. В печати начали выясняться по мясоедовскому делу некоторые подробности. Так, например, в «Новой Жизни» г. А. Гойхбарг сообщает следующее:
«Верховное командование, желая снять с себя вину за отступление нашей армии, решает объяснить это отступление существованием обширной шпионской организации. Для этой цели инсценируется вопрос о шпионстве. Набираются с бору да с сосенки разные обвиняемые, в большинстве евреи, из которых многие никогда и не видели Мясоедова.
Собирается подходящий материал, и по поручению Верховного главнокомандующего, следствие поручают следователю по особо важным делам в Варшаве Матвееву, который вместе с прокурором Жижиным начинает «готовить» дело».
Но Верховному главнокомандующему не терпится. Он приказывает «закончить дело быстро и решительно», незаконно приказывает передать дело особо образованному военно-полевому суду. Следователь, вопреки закону, не окончив следствия, отсылает дело в военно-полевой суд.
Военно-полевой суд, скоро-решительный, на основании оговора сумасшедшей, покончившей с собой до суда, приговаривает трех обвиняемых евреев - Бориса Фрейдберга и братьев Зальманов к смертной казни, трех обвиняемых: еврея Давида Фрейберга, купца Ригера и крестьянина Микулиса - к каторге, а остальных 8 человек оправдывает. Этот приговор на следующий день, 17 июня, был утвержден, а в отношении смертников - приведен в исполнение.
Но такое малое количество смертных приговоров, опровергавшее легенду об обширной шпионской организации, погубившей армию, по-видимому, вовсе не понравилось инициаторам этих организованных убийств. Хотя оправданных судом вторично судить нельзя, но не насытившийся тремя убийствами, тремя смертями, Николай Николаевич Романов отдает новый неслыханный приказ - считать приговор утвержденным только относительно казненных, а всех остальных, т.е. и тех, кто уже вошедшим в законную силу приговором военно-полевого суда были признаны невиновными, вновь судить другим судом, военно-окружным, так как, по его мнению, они все-таки шпионы. В приказе сказано: «Безусловно не допуская гражданских защитников... и принять все меры к формированию надлежащего состава суда и назначению опытного обвинителя».
Этот приказ был равносилен приказу приговорить к смерти еще несколько человек, это был приказ подстрекателя убийцам. Двинский военно-окружной суд вновь судил 11 человек, из которых 8 были, по решению военно-полевого суда, заведомо невиновными, и приговорил к смертной казни, кроме трех стариков, прежним судом приговоренных только к каторге, также и трех оправданных: еврея Фалька 58 лет, барона Гротгуса и Мясоедова.
Всем обвиняемым, опять вопреки закону, было объявлено, что на это решение нельзя принести никакой жалобы. Приговор, явно незаконный, был утвержден, но барону Гротгусу и Мясоедову заменен каторгой.
Вполне возможное, при таких условиях, прекращение моего дела грозило завершиться крупным скандалом для многих, принимавших недобросовестное участие в этой грандиозной провокации.
Но закулисные мастера Поливанов и Гучков не зевали. Надо было спасать положение. Кузьмин и Носович поехали в Тифлис и допрашивали Янушкевича. Из этого ничего не вышло. Нельзя было решительно ничего придумать, что могло бы меня сокрушить окончательно; поэтому пришло в голову использовать явно ложное показание Бутовича, опровергаемое лицом, на которое тот ссылался, и предъявить мне новое обвинение в том, будто бы в германском банке в Берлине помещены мои миллионы, и, кроме того, впутать мою жену, предъявив и ей обвинение.
Начались опять допросы, и мы с женой уже ездили в Министерство юстиции, где была штаб-квартира нашего следователя. И после шестимесячного заключения началось наше ознакомление со следственным материалом. Можно было с ума сойти от всей той наглой лжи, клеветы, провокации и всего нагроможденного в нем. Бессовестно при этом понукали нас, чтобы мы скорее читали всю эту груду в тридцать или сорок томов!
Что выяснили эти акты?
Может быть, читателю трудно будет поверить следующему, но я утверждаю, что излагаемое мною взято из обвинительного акта.
Я убежден, что найдутся русские юристы и писатели, которые эти документы еще раз пересмотрят, чтобы восстановить добрую славу русского правосудия исследованием, свободным от возражения и ничем не связанным.
Как раз в то самое время, когда специалисты военного дела начали резко критиковать стратегические эксперименты великого князя, которые стоили нам трех армий, входящие в состав штабов господа взяли на себя труд все несчастие объяснить недостатком боевого снабжения. Этого обвинения было, пожалуй, достаточно для того, чтобы убедить государя в необходимости меня уволить, но боевую славу великого князя спасти этим не могли. Это в Ставке скоро поняли. Положение великого князя стало бы не очень завидным, если бы энергичное расследование было предпринято для выяснения вопроса о несправедливом увольнении военного министра и по каким именно побудительным причинам.
Если не сам великий князь, то Янушкевич должен был ожидать возможности возникновения подобного дела.
Допустить это было опасно, поэтому решили использовать обычную психологическую особенность на войне при неудачах: охотное и болезненное доверие ко всяким слухам об измене.
Нужен был для этого кое-какой материал, а главное юристы, с этикой своей корпорации не считающиеся и от всего сердца холопствующие. Нашлось и то и другое; в результате же получились два приговора военно-полевых судов, которые послужили поводом создать чудовищное обвинение меня в измене. Это были приговоры полевого суда над Мясоедовым в Варшаве и Ивановым в Бердичеве. Варшавский приговор состоялся вследствие ложного доноса возвратившегося из плена подпоручика Колаковского. Он заявил, что немцы его отпустили с условием, чтобы он организовал убийство великого князя Николая Николаевича и уничтожение мостов на Висле; что же касается передачи сведений о наших войсках немцам, то это он может исполнить через Мясоедова, находящегося в связи с военным министром, у которого, между прочим, с 1912 года он уже не находился. Это заявление мне доложено было своевременно, и я сейчас же направил его в Главную квартиру. В Ставке не потрудились в достоверности этого сообщения убедиться и выяснить, каким путем с фронта могли доставляться сведения противнику; более того, полевым судом был отдан приказ немедленно ликвидировать полковника Мясоедова.
После неудачи в Восточной Пруссии генерал Янушкевич писал мне: «Дело Мясоедова будет, вероятно, ликвидировано окончательно в отношении его самого не сегодня-завтра. Это необходимо ввиду полной измены и для успокоения общественного мнения до праздников».
Долго не могли получить подлинное дело полевого суда в Александровской цитадели в Варшаве и дали его для просмотра мне только в последние дни предварительного следствия, в 1917 году. Оказалось, что по двум главным обвинениям Мясоедов был оправдан, а именно в том, что будто сообщил о XX корпусе неприятелю и что полученные сведения о германских войсках в Мариамполе скрыл от штаба. Виновным же признан в том, что: 1) сообщал сведения иностранному государству в 1907, 1911 и 1912 году, причем в деле нет никаких данных, чтобы судить, на чем это основано и как мог в 1915 году разобраться в этом полевой суд, которому повелено было покончить дело «быстро и решительно»; 2) собирал сведения для сообщения агентам германских властей о наших войсках и сообщал ли он действительно - не установлено; 3) за мародерство.
Собственно, за последнее осужден потому, что сам в этом сознался. Что же касается обвинения в преступлениях, совершенных будто бы Мясоедовым в мирное время, в 1907, 1911 и 1912 годах, то оно, сверх всего, не подлежало суждению полевым судом.
Мнимый немецкий шпион, освобожденный поручик Колаковский, между тем в последующих своих показаниях сознался, что о покушении на великого князя он сочинил, чтобы обратить на себя больше внимания. В отношении же Мясоедова сперва показывал, что никогда о нем не слыхал, а затем, что, будучи в военном училище, читал о дуэли Мясоедова с Гучковым.
Всенародно об этом, конечно, не было известно, и «до праздников» 1915 года общественное мнение могло успокоиться, что виновник неудач найден и осужден.
* * *
Другой приговор полевого суда, а именно против полковника Иванова и К º , - явился тоже необходимым, вследствие великокняжеских неудач в Карпатах.
В письме ко мне эти неудачи закарпатской операции вызвали со стороны генерала Янушкевича такой же вопль об измене: «Сейчас узел событий на Карпатах. Надо успеть предупредить. Очень опасаюсь, что и там есть свой Мясоедов. Это так чувствуется, что волосы дыбом становятся. Неужели Русь так опустилась? Впрочем, Бог даст, справимся и с изменниками, хотя роль даже заглазного палача не особенно приятна, но тут не до того». Так писал мне Янушкевич.
И действительно, усердием следователя, специалиста в таких делах, прапорщика Кочубинского, найден и здесь шпион - Альтшиллер, которого я знал еще в Киеве, и в составе уже целого сообщества: полковник Иванов, его жена, Н.М. Гошкевич, его бывшая жена, Веллер, Думбадзе и писарь Главного артиллерийского управления Милюков.
Если дело Мясоедова возмутительно, то дело полковника Иванова и Кº - верх безобразий и морального упадка. Приговор по этому процессу, который велся полевым судом в Бердичеве, состоялся лишь после моего увольнения.
Какой это был суд, можно представить, исходя из сообщения главнокомандующего Юго-Западным фронтом 23 февраля 1916 года начальнику штаба Верховного главнокомандующего по поводу приговора: «Я не мог не прийти к выводу, что между изложенным в приговоре и постановлением заключается непримиримое противоречие: суд, признавая подсудимых виновными в тягчайшем преступлении, в шпионстве в военное время, в текущую войну, в пользу неприятеля, - в то же время указывает, что деятельность названных лиц являлась полезной в период настоящей войны, а в отношении Иванова даже усиленно полезной. Такое исключительное противоречие в таких важных документах, как приговор суда и постановление того же суда, я могу объяснить только тем, что полевой суд не вынес твердого убеждения в виновности осужденных, а это в свою очередь могло произойти вследствие того, что полевой суд не мог разобраться во всех деталях дела и справиться с возложенной на него задачей, о чем неопровержимо и свидетельствует противоречие приговора и постановления».
К счастью, по этому суду никого не казнили, двух дам оправдали, остальных же приговорили в каторгу и на поселение на разные сроки.
Насколько все это было незакономерно, достаточно указать на то, что, на основании ст. 1321 устава военного суда, дело было подсудно военно-окружному суду. Затем, на основании ст. 1317 того же устава, так как в «сообщество» входил нижний чин, унтер-офицер Главного артиллерийского управления Милюков, - то и петроградскому суду. А это было уже совсем не в интересах преступного оборудования и подтасовки всего дела, так как, если по ст. 1345 устава военного суда как свидетеля меня могли не вызвать, - то в Петрограде избежать этого было трудно.
На суде все время упоминалось мое имя, а я допрошен не был. Письмо, которое я писал начальнику штаба фронта, Кочубинский предъявил лишь после энергичного настояния подсудимого Н. Гошкевича.
Что касается «сообщества», то только из неблагодарного усердия и желания угодить Ставке можно было сочинить подобный абсурд: будто бы военный министр «состоял деятельным членом преступного сообщества и, будучи по должности источником наиболее важных военных тайн, являлся центральной фигурой этого сообщества, связующим звеном между деятелями, с одной стороны германского, с другой - австрийского шпионажа».
Преступное же сообщество это образовалось якобы с целью «учинения против России государственной измены, а именно способствования правительствам Германии и Австро-Венгрии в их враждебных против России планах и действиях путем собрания и доставления этим правительствам, через их агентов, сведений о вооруженных силах России».
Обращаясь просто к здравому смыслу судей, спрашивается, зачем «источнику военных тайн» могло понадобиться целое сообщество в таком прямо до смешного составе, с Анной Гошкевич и писарем Милюковым? «Тайны» у меня в руках, а я собираю какую-то совершенно невероятную компанию для собирания этих же тайн, подвергаю такое страшное дело без всякой надобности риску!
* * *
В актах следственного производства было еще много чудовищного. Оба приговора полевых судов казались недостаточными, чтобы на основании моих отношений к Мясоедову и Альтшиллеру приговорить и меня к смертной казни. Поэтому в следственный материал притянуто было и десятилетней давности бракоразводное дело моей жены с первым ее мужем Бутовичем. Очевидно, здесь была и другая цель - придать моему процессу «пикантность» и доставить господину Бутовичу случай своей клеветой и сплетнями обдавать меня грязью перед обществом.
Среди следственного материала находился и анонимный донос, автором которого обнаружился князь Андроников.
Когда назначена была комиссия генерала Петрова для выяснения причин недостаточной нашей подготовки к войне, то князь Андроников сочинил донос, который в экземпляре, направленном в комиссию генерала Петрова, заканчивался заявлением, что пишет маленький человек, не рискующий подписаться, чтобы не пострадать от Сухомлинова, но может указать на князя Андроникова, который, он надеется, не откажется подтвердить все изложенное невидным маленьким человеком.
Пригласили Андроникова, и как автору этого клеветнического документа - ему ли было не знать, что там написано? Показания его сошлись с доносом как две капли воды и послужили программой для всего следствия. А все, что было измышлено князем, при содействии достойных его сотрудников, всякими благородными способами, о нашей с женой жизнью, - было, например, в таком роде.
Была у меня севрская люстра, которую я собирался продать. Об этом знала Червинская. Из этого создано было, что я продал люстру на завод Шнейдера-Крезо за громадные деньги. Маскированный подкуп! Но люстры я не продал и с Крезо никогда никаких дел не имел; сама же люстра продолжала висеть в моей квартире.
Затем: в склад ее величества, устроенный у меня на квартире, инженер Балинский привез пожертвование от завода и вручил деньги мне. Я передал их по принадлежности и квитанцию выслал Балинскому. Этот факт в доносе превратился во взятку, которую я якобы получил от Балинского за заказы на его фабрику.
Нетрудно представить себе, какой смысл мог быть в подобном подкупе в такое время, когда у нас не было достаточно заводов для наших заказов и вследствие этого правительство находилось в зависимости от доброй воли фабрикантов, а не обратно! Русская индустрия далеко не была так развита, чтобы правительство могло делать выбор, и военный министр должен был бы радоваться, что вообще может помещать свои заказы. Таково было совершенно ясное положение этого дела.
В довершение всего возник еще один курьез. Жена моя была в меховом магазине, где ей показывали дорогой мех, в несколько десятков тысяч рублей, как и другим дамам. Она купила всего муфту в несколько десятков рублей. Об этом чудном мехе был, конечно, разговор дома. Этот факт приводился в доказательство безумных, не по моим средствам, трат и, стало быть, тоже на доходы незаконные; о покупке одной муфты, конечно, умалчивалось.
На все эти и подобные же измышления свидетели готовились из салона госпожи Червинской. Но на суд никто из этих лжесвидетелей не явился - один только Андроников был приведен под стражей, но и тот сознался, что никаких конкретных данных у него не было во всем том, что он сочинял в своем доносе.
* * *
Верховная комиссия генерала Петрова имела полную возможность все эти махинации и измышления Андроникова разоблачить. Для этого ей нужно было только допросить меня. То, что она на это не решилась, было понятно, если представить себе цель ее существования. Она образована была не для того, чтобы раскрыть правду, а чтобы ее скрыть и меня уничтожить.
Оценке свидетелей сенатор Кузьмин не придавал никакого значения, но подбор их оказался удивительный, - начиная князем Андрониковым и заканчивая австрийским шпионом Мюллером.
Мои дополнительные письменные показания подшиты просто к делу, без занесения в постановление или протокол, поэтому не попали в копии. Вообще материал, который мог служить в мою пользу, игнорировался, а письменные показания, поданные моей женой дополнительно следователю Кузьмину, в Петропавловской крепости, через администрацию последней, из дела исчезли бесследно, о чем и было заявлено на суде.
В таком же смысле сделана и выборка из писем моих и Янушкевича, а целый ряд писем из действующей армии, взятых у меня при обыске, в которых добросовестный следователь мог найти материал, свидетельствующий о том, что нельзя приписывать мне какое-то якобы «бездействие», если армия выступила в поход в образцовом порядке, Кузьмин абсолютно игнорировал. Сенатор Кузьмин не обратил даже внимания на то, что я ни разу не был вызван в Верховную комиссию и что при расследовании причин недостаточной подготовленности нашей армии, - о деятельности Совета государственной обороны, специально для того созданного и существовавшего с 1905 по 1909 год, ничего не выяснено, равно как упорно умалчивается о том, что же я получил в наследство и что сделано.
В результате следственного производства обер-прокурор, сенатор Носович, получил такой обильный следственный материал, в котором из-за деревьев леса стало не видно. Он правильно сказал нам с женой после одного из допросов, что для того, чтобы разобраться во всей массе томов, надо два года. Защита же имела на это меньше месяца.
Не особенно способствовало, при столь одностороннем направлении, которое получило дело, собирание данных для фактического разоблачения всего неверно мне приписываемого, - в особенности при той позиции, которую занял сенатор Кузьмин.
Два года тянулось дело, возникшее в 1915 году в самый разгар войны, для выяснения причин недостаточности снабжения армии боевыми припасами. В этот столь продолжительный промежуток времени все, кто только хотел, могли делать какие угодно заявления. Началось нагромождение в одну кучу: ведомостей о пушках, ружьях, снарядах, подозрениях о шпионстве, покупке имения, продаже люстры, мехах, шляпках, нарядах, бракоразводном деле, супружеских подвигах Бутовича и т.п. сплетен, клеветы, шантажа.
Г. обер-прокурор имел полную возможность рассеять туман, что не представляло никаких затруднений. Надо было поставить несколько вопросов по существу, для ответа на которые из кучи взять лишь материал, непосредственно относящийся к делу. А именно:
1. В каком состоянии была русская армия к 1909 году? На этот вопрос можно было ответить неопровержимо:
- К выступлению в поход неготовой и небоеспособной.
2. В каком состоянии застало ее объявление войны в 1914 году?
- Способной быстро мобилизоваться, сосредоточиться на театре войны и боеспособной.
3. Чем же объяснить недостаток снабжения боевыми припасами?
- Тем, что никто из воюющих сторон не ожидал такой продолжительной войны. То, что можно было сделать за 4,5 года в русской армии, - сделано, и для кампании в 4 - 6 месяцев, при правильном расходовании, припасов было достаточно.
4. Почему не приняты были меры обеспечения боевыми припасами на случай такой продолжительной войны?
- Потому что на это не было ни времени, ни средств, так как только широко развитая обрабатывающая промышленность в стране могла задачу эту разрешить успешно. Одному же военному ведомству такая задача была не по силам.
На этом, по вопросу о бездействии власти, можно было бы поставить точку, потому что в разных деталях специального артиллерийского дела явится возможность разобраться лишь по окончании войны, а делать сейчас одного человека ответственным решительно за все, относящееся даже ко времени задолго до его фактической ответственности, - может быть, с политической точки 372 зрения и нужно было, но с этической было бессовестно, нечестно. Что же касается обвинения, то тут и вопросов ставить не было надобности, так как чистейший вымысел, фантасмагория прапорщика Кочубинского со всей очевидностью вызвала необходимость применения к нему ст. 1210 устава военного суда, т.е. за преступление по должности следователя, проявившего чисто провокаторскую деятельность.
Мое глубокое убеждение, что это для г. обер-прокурора был тот редкий случай, когда по чистой совести обвинитель от обвинения мог отказаться, что было бы встречено полнейшим одобрением.
* * *
В то время, когда я так отстаивал свою голову, вспыхивает Февральская революция 1917 года, и какая-то компания вооруженных людей арестовывает меня на квартире и везет в Таврический дворец, где уже организовалась новая власть.
Во время переезда в грузовом автомобиле субъект в очках держал против моего виска браунинг, дуло которого стукалось мне в голову на ухабах. Полнейшее мое равнодушие к этому боевому его приему привело к тому, что он вскоре спрятал оружие в кобуру.
Затем несколько вопросов относительно моего дела и совершенно спокойные мои ответы на них окончились тем, что первоначальное неприязненное ко мне отношение превратилось в благожелательное.
У Таврического дворца снаружи и в залах, по которым я проходил, была масса народу, и никаким оскорблениям я не подвергался, как об этом неверно сообщали газеты. Действительно, всего один долговязый, кавказского типа человек произнес из дальних рядов: «Изменник!» Я остановился и, глядя на него в упор, громко ему ответил: «Неправда!» Тип настолько уменьшился тогда в росте, что головы его больше не стало видно, и я спокойно продолжал дорогу, без малейших каких-либо инцидентов.
Сначала меня провели, очевидно, к коменданту города, каковым оказался бывший улан его величества, а затем офицер Генерального штаба, член Государственной думы, Энгельгардт.
Он, конечно, поспешил меня сплавить, я вполне понимаю его щекотливое положение при таком свидании, и по указанию господина коменданта меня повели к Керенскому. Разобраться в том сумбуре, который происходил в то время в этом бывшем потемкинском жилище, было очень затруднительно. Мы вошли в какую-то залу, в которой за громадным столом сидела масса генералов, чиновных лиц и, кроме того, у всех стен, где только можно было приткнуться. Я думал, что это какое-то заседание, так как заметил генералов Павла Сергеевича Савича и Петра Ивановича Секретева. Оказалось, что они все арестованные. Меня провели дальше, а в небольшом коридоре просили подождать.
Я сел у колонны и наблюдал то столпотворение, которое происходило вокруг. Солдаты, матросы, штатские с повязками и шарфами, вооруженные, - все это снует, что-то ищет: «Товарищ, как пройти к такому-то?» - «Вы, товарищ, обратитесь в информационную комнату»... Кругом все «товарищи».
Подошел ко мне какой-то приличный господин, подал мне ножницы и попросил очень вежливо, чтобы я спорол погоны. Я их просто отвязал и отдал ему, тогда он попросил и мой Георгиевский крест, но я его не отдал, и, к моему удивлению, бывший тут часовой, молодой солдатик, вступился за меня и сказал: «Вы, господин (а не «товарищ»), этого не понимаете, это заслуженное и так отнимать, да еще такой крест, - не полагается».
Наконец пригласили меня, тут же рядом, в сени, где стоял взвод солдат с ружьями, и появился Керенский, небольшого роста, бритый, как актер.
Мне он ничего не говорил, а обратился к нижним чинам и в приподнятом тоне сказал, что вот, мол, бывший военный министр царский, который очень виноват и его будут судить, а пока он им повелевает, чтобы волос с головы моей не упал. Хорошо, что я был в фуражке, а то люди убедились бы, что им нечего оберегать на моей голове.
Так начал свои гастроли, в роли Бонапарта, Керенский, выступая против царизма.
Тем все и закончилось. Я вышел во внутренний подъезд дворца, где стоял тот самый автомобиль, в котором меня привезли; мой почетный караул, оберегавший мою голову, присутствовал, когда я в него садился, а мои, уже старые знакомые, конвоиры дружески встретили меня и самостоятельно распорядились, чтобы посторонней публики не было. От них же я узнал, что меня повезут в Петропавловскую крепость, куда приблизительно через полчаса меня и доставили.
После же моего ареста явилась на квартиру целая шайка грабителей во главе с прапорщиком Черкуновым и под предлогом поиска оружия попользовалась чужой собственностью. Этот предусмотрительный прапорщик, перед тем как удалиться с награбленным, потребовал удостоверения, что никаких претензий моя жена к ним не имеет: они исполнили свой революционный долг как порядочные люди.
В крепости уже хозяйничали революционеры - вместо коменданта появился какой-то офицер в казачьей форме. Грязь и беспорядок успели уже водвориться и в комендантском доме. Какой-то гимназист сидел в роли писаря, хотя кое-кто из старых писарей еще показывался. Тут же ели, пили, курили, спали, вообще всякий делал то, что хотел, - полная свобода.
В то время как я среди этой публики ожидал своей дальнейшей участи, явился хорунжий Донского войска и осиплым голосом рассказывал, как он с казаками водворил порядок при разгроме винного магазина на Васильевском острове. Видимо, это его очень забавляло.
Со мной все были вежливы, даже принесли котлету с картофелем и чай. Затем явился исполнявший роль коменданта и предложил следовать за ним. У подъезда выстроен был взвод пехоты, который меня конвоировал в Трубецкой бастион. По глубокому снегу мы пробирались медленно, в ясный, лунный вечер, под печальные звуки «Коль славен» на колоколах часов Петропавловского собора.
В бастионе меня встретил тот же полковник Иванишин со своей старой командой унтер-офицеров. Арестованных еще не было никого; камеры были не отоплены. Я занял опять свой N 55. Оказалось, что революционная толпа нахлынула в крепость разбивать «бастилию» и выпускать заключенных, но таковых не оказалось, повторить страничку из французской истории не пришлось. Собирались учинить насилие над командой бастиона, но ограничились украшением их шинелей красными тряпочками.
Опять лязгнули запоры, и я остался в моем каменном гробу только со своими мыслями.
Снова опустился занавес, отделивший меня от мира, и я понятия не имел о том, что творится на свете. Отняли у меня все, что было в карманах, и без часов я узнавал о времени от дежурных, так как бой крепостных часов не доходил до этой камеры.
По шуму и движению в коридорах можно было догадаться, что камеры наполняются арестованными. Помощником у полковника Иванишина был какой-то офицер из Михайловского артиллерийского училища, на погонах которого спорота была уже корона над вензелем.
А что происходило нечто совсем скверное, я мог догадываться по тому, что проделывали со мной. Режим при царском правительстве был строгий, но гуманный, а при новом порядке или, говоря правильнее, беспорядке - бесчеловечный, чисто инквизиторский. Существовавшую до революции инструкцию забраковали, стали вырабатывать новую, и недели три нашу жизнь заключенных отдали на произвол солдат гарнизона крепости.
Обнаглевшие, со зверскими физиономиями люди в серых шинелях под видом каких-то гарнизонных комиссий врывались периодически в камеру, шарили в убогой и без того обстановке. У меня решительно ничего не было своего, полагалось быть в казенном белье и халате. Утешались эти изверги тем, что выбрасывали в коридор подушку, одеяло, матрац. Свирепствовал особенно какой-то рябой, скотоподобный солдат Куликов. При неоднократных обысках, причем раздевали меня догола, на каменном полу, в холодной камере, этот изверг нашел, что надо снять с меня и крест. Сняли, но кто-то из верующих еще в Бога отстоял, и крест отдали, а золотую цепочку Куликов оставил себе на память. Убрали его от нас, когда он присвоил себе два револьвера «товарищей».
Белье давали с клеймом клинического военного госпиталя, очевидно, выбракованное, до того рваное, что нижнее состояло иногда из отдельных штанин на каждую ногу. Рубашки, доходившие лишь до половины живота, с оборванными тесемками, так что нельзя было завязать воротника, а грубейшие носки, фасона прямого мешка, в том месте, где приходилась пятка, во всю ее величину имели дыру. В две недели один раз меняли простыню и однажды дали вместо нее саван с нашитым посредине крестом.
Немного суеверного каптенармуса латыша Мазика, очень хорошего человека, это даже смутило, но я ему объяснил, что крест не может быть плохим предзнаменованием, а скорей хорошим.
Зато попалась как-то прекрасная, длинная, батистовая рубашка с клеймом «Женек, гимн. кн. Оболенской». Как она попала сюда, никто объяснить не мог, а я жалел, когда с ней пришлось расставаться при смене на кургузую и грубую мужскую.
Хозяйство начало приходить в расстройство - электричество часто не давало света, и в зимние дни приходилось сидеть в темноте, потому что ни керосина, ни свечей уже не было. Это было особенно тягостно, поэтому когда раздобывали какой-нибудь огарок и спички, то приходилось беречь его как зеницу ока, зажигая лишь на несколько секунд.
Всю старую команду постепенно отправили в строй, а вместо нее назначили новую. Приехал и сам Бонапарт - Керенский. Надобности в этом, понятно, не было никакой, но его «влекло к знакомым берегам», и надо же было покуражиться перед бывшими сановниками, которым он объявил, что государь отрекся от престола и составилась новая власть - Временное правительство, в коем он не последнее звено.
Объявили новую инструкцию, утвержденную Керенским. Жаль, что он не испытал ее после того на своей спине. Прогулки полагались всего по несколько минут, так как выводили поодиночке, чтобы никто друг друга не видел; пища - исключительно из солдатского котла, вернее - остатков в нем, так как команда питалась раньше нас, в коридоре, а затем разносили заключенным, подавая оловянную миску с бурдой и на ней тарелку с признаками какой-нибудь каши, в которую однажды мне подсыпали битое стекло, кусок которого уколол в нёбо, что и спасло меня. В «глазок» при этом все время наблюдали - когда начнутся последствия этого варварства.
От полков гарнизона приходили солдаты посмотреть, как сидят бывшие царские слуги. На нервы действовало постоянное щелкание закладки «глазка», пока все не удовлетворят свое любопытство. Слышен был при этом смех, всякие издевательства, обещание скоро с нами покончить...
В самом начале никаких свиданий не допускали, и я не подозревал, что мою жену тоже арестовали. Во время прогулки один из часовых мне мимоходом сообщил: «Ваша жена тоже арестована». Через несколько же дней, проходя по коридору на прогулку, я заметил женщину вместе с дежурным. Это; навело меня на мысль: не здесь ли и Екатерина Викторовна? Оказалось, что она и Анна Александровна Вырубова действительно в Трубецком бастионе и для них из женской тюрьмы командированы две надзирательницы.
Камеры наши мы должны были убирать сами, для чего в форточку нам просовывалась половая щетка. При царском режиме уборка производилась во время прогулки прислугой, и никогда ничего из нашего имущества не пропадало, чего нельзя сказать про время царствования Керенского.
И физические, и моральные условия были таковы, что никакое здоровье не могло их вынести без ущерба. Пришлось обратиться к врачу, каковым оказался ассистент известного Мечникова - и прекрасный доктор, и прекраснейший человек, Иван Иоанович Манухин. Все, что он только в силах был сделать, чтобы облегчить нашу участь, не говоря уже о медицинской помощи, он делал. Разрешено было, например, молоко сильно ослабевшим и второй матрац.
При всей строгости наблюдения страже удавалось сделать кое-что, выходящее за пределы установленного режима. Так, например, я мечтал о том, каким развлечением были бы карты и возможность убивать время пасьянсами. Бумага, перо и чернила нам разрешались в течение дня. Я попросил купить мне так называемую «александрийскую» и получил несколько листов этой бумаги. Ни ножа, ни ножниц, конечно, не давали. Перегибая лист многократно и нажимая ногтем на сгиб, я постепенно делил бумагу до размера самых малых пасьянсных карт, что выходило у меня чрезвычайно аккуратно. Затем от руки изображены были все масти и фигуры, но особенно забавно вышли дамы. Когда мне удалось передать затем такие карты в камеру жены, она мне говорила, что страшно им обрадовалась, - они придали ее номеру уют, но на дам она без смеха не могла смотреть.
Раскладывать пасьянсы надо было только так, чтобы карты не были видны в «глазок». Это достигалось тем, что сидеть приходилось спиною к двери, - да у столика иначе и нельзя было поместиться.
Удалось соорудить и абажур к электрическому фонарю, благодаря случайно очутившемуся у меня в руках кусочку проволоки от бутылки «Боржоми», которую откупоривали в коридоре у моей двери.
Отправляясь на прогулку, я ее заметил и при возвращении носком сапога продвинул в камеру. Бумага у меня была, и этого материала было достаточно, чтобы защититься от падающего прямо в глаза отраженного от рефлектора неприятного света. На это примитивное сооружение почему-то решительно никто никакого внимания не обратил.
Среди нашей стражи были люди с человеческим сердцем, которым мы с женою обязаны тем, что имели возможность сообщать друг другу несколько слов, а каким это было подбадривающим средством для нас лично - не испытавшему того, что мы испытывали, понять трудно.
Также мне удалось самостоятельно значительно уменьшить сырость в камере. Дело в том, что зимой окно намерзало, оттаявшая вода собиралась в желобок и затем текла по стене, образуя на полу лужу. Мокрая же стена покрывалась плесенью. Я неоднократно заявлял об этом старшему, но это оставалось «гласом вопиющего в пустыне».
Сердце мое стало пошаливать, и доктор прописал микстуру, которую принесли из аптеки в довольно большой стеклянной посуде. По инструкции она подавалась только в окошко и после приема лекарства отбиралась. Но однажды, случайно, бутылка осталась у меня, и я решил ею воспользоваться для осушки стены. Для этого нужна была веревка. На мое счастье, во время прогулки я заметил порядочный кусок таковой возле водосточной трубы, и мне удалось поднять ее незаметно для часовых.
Нужный материал был у меня таким образом готов, не хватало только палки, чтобы достать до высоко прибитого, у нижнего края окна, желобка. Это удалось добыть последовательно на трех прогулках: в первую я выломал из куста хворостинку и должен был оставить на месте; во вторую - я ее очистил, но не успел спрятать, и в третью - забрал, принес в камеру и положил под матрац.
Я проложил по желобу веревку, и ее хватило настолько, что удалось еще из середины опустить часть и привязать бутылку. По этой системе «вервия» стала стекать вода преисправно, и я только ежедневно выливал ее. Вся эта махинация, находясь за светом, не была видна со стороны двери, поэтому обратило на себя внимание старшего то обстоятельство, что стена стала просыхать, а затем и совсем высохла. Когда же он мне заявил, что не понимает, почему у других стена мокрая, а у меня сухая, во избежание недоразумений я секрет свой открыл, но не только не получил упреков, а напротив, мне высказано было одобрение.
Называли меня «дедушкой», и на этот раз старший говорил библиотекарю: «А дедушка-то, поди, какой механик, оказывается».
Наша квартира и все наше достояние осталось на руках у Марьи Францевны Кювье, заведовавшей в доме хозяйством уже много лет. Несмотря на свое слабое здоровье, она добилась с большим трудом свиданий со мной. Происходили они в присутствии товарища прокурора и солдатского депутата - всего 10 минут.
Однажды меня неожиданно позвали на допрос. Приехал сенатор Кузьмин, чтобы закончить следствие и заявить, что появившееся со слов Варуна-Секрета сообщение в «Новом Времени» по моему делу оказалось ложным. Оно действительно было ложно, как и все остальные приписываемые мне, но только не удостоилось того же внимания со стороны следователя раньше. Со следственным материалом ознакомиться я успел только частью и настаивал на предъявлении мне дел полевых судов о Мясоедове и Иванове.
Их и привез мне, после того, прокурор Ланской. Прочтя одни только приговоры, я понял, почему так долго нельзя было их добиться и почему сенаторы Таганцев и Носович так сопротивлялись и так опасались их оглашения... Такими же были в действительности и оба Николая Николаевича - великий князь и его начальник штаба.
Для чтения этих дел посадили меня в комнату, в которой градусник показывал ниже нуля. Ланской находил, что в делах нет ничего интересного и не стоило из-за этого зябнуть. Ему очень не понравилось, когда я ему показал, что в них представляет совершенно исключительный интерес, и сделал все нужные мне из дел выписки.
После того явился ко мне в камеру присяжный поверенный Муравьев в роли председателя новой Чрезвычайной следственной комиссии и убедительно говорил, что дело это чрезвычайно важное. Я и ожидал, что «чрезвычайная» комиссия в «чрезвычайном» деле и разберется.