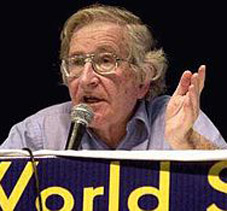
Нам надо либо смириться с глобальной несправедливостью и тиранией, либо участвовать в борьбе за справедливость и свободу. [1]
(Ноам Хомски)
Мир - штука непростая, поскольку «все наблюдаемое (...), может восприниматься по-разному, и в зависимости от того, какой вы выбираете способ видения, Вы получите разные ответы»[2]. Это - общая проблема методологии, многократно усложняющаяся, когда речь заходит об исследовании общества и общественных отношений, поскольку эти отношения непросты и, следовательно, неоднозначны. Столкнувшись с этой проблемой, вы «должны найти подходящую перспективу, из которой вы будете смотреть на вещи в надежде уловить, в лучшем случае, хотя бы один важный аспект этой сложной реальности», но и тогда «нам остается надежда, что мы имеем дело с важным аспектом» [3]. Это то, что мы должны иметь в виду при анализе процесса глобализации и проблем неолиберализма в современном обществе.
Глобализация представляет собой сложный и противоречивый процесс, который имеет двойственную природу: и освобождающую, и порабощающую. Хотя все больше создается впечатление, что порабощающая суть прячется в тени своей освобождающей стороны. Впрочем, для Ноама Хомски нет места для каких-то сомнений: концепция неолибералной глобализации является новой версией старого империализма. «Гуманитарная интервенция», «справедливая война», «борьба за демократию», «превентивная война», «защита прав человека», «борьба с терроризмом» - эти и многие другие термины для этого великого мыслителя являются только фиговыми листочками, которыми великие державы, в первую очередь, Соединенные Штаты, прикрывают свои неоимпериалистические претензии с целью »обеспечения согласия». Напомним, что Соединенные Штаты, согласно официальной риторике, сейчас не пребывают в состоянии войны, но они только участвуют в гуманитарных интервенциях, в борьбе за демократию и выступают за реализацию прав человека. В связи с этим, Зоран Милошевич справедливо заключает, что война, с т.зрения общественного мнения, не является приемлемым инструментом политики, поэтому агрессоры вынуждены обзывать войну какими угодно словесами, «лакируя» действительность. [4]
Джереми Фокс [Jeremy Fox] указывает, что экономическая глобализация может рассматриваться как новейший вариант капитализма. [5] Ноам Хомски, как непримиримый противник «грабительского капитализма», с 1973 года не устает повторять о том, что эта система не соответствует современному мировому сообществу, поскольку «не может удовлетворить потребности человека, которые мы можем осмыслить только в рамках осмысления общественных нужд. Капитализм же формирует представление о конкурентоспособности конкретного человека, стремящегося только лишь к увеличению своего богатства и власти. Капитализм оперирует категориями рыночных отношений, эксплуатации и внешнего авторитета - т.о. является системой бесчеловечной и нетерпимой в самом глубоком смысле» [6].
Неолиберализм как определяющая политико-экономическая парадигма
Неолиберализм является определяющей политико-экономической парадигмой нашего времени. С точки зрения неолиберализма, для того, чтобы капитализм лучше функционировал, государственное вмешательство должно быть сведено к минимуму. Учредителям неолиберальной модели можно считать Фридриха фон Хайека и Милтона Фридмана. Хайек твердо верил в индивидуализм и рынок, и его знаменитая работа The Road to Serfdom («Дорога к рабству») была одной из первых работ, в которой обличается вмешательство в экономику. Милтон Фридман в своей работе Capitalism and Freedom («Капитализм и свобода») отмечает, что самое лучшее развитые капитализма является развитие без каких-либо ограничений и вмешательства государства, а свобода рынка является необходимым фактором для успешного развития капитализма. Неолиберализм обычно определяется как политика свободного рынка, которая подбадривать частные фирмы и повышает потребительский выбор, разрушая в то же время «некомпетентные, бюрократические и паразитирующие правительства, которые никогда не могут сделать ничего хорошего, несмотря на благие намерения» [7]. Все те мероприятия, которые направлены против корпоративного доминирования, автоматически рассматривается как деятельность, направленную против свободного рынка, который - согласно неолиберальной идеологии - считается единственным рациональным, справедливым и демократическим выбором. Неолиберальная модель, однако, в условиях нынешнего глобального кризиса, находится на шатких ногах. И как форма организации общества на глобальном уровне, эта модель показала свою несостоятельность.
Ноам Хомски является одним из ведущих мыслителей, которые критикуют свободный рынок, как миф, говорящий о том, что показателями успешной экономики являются конкурентоспособной, рациональность и эффективность. Свободный рынок, согласно этому мифу, выступает как фактор, который должен обеспечить реализацию этих идеалов. Тем не менее, «в большинстве стран преобладают крупные корпорации, которые имеют огромную власть над рынком, ставшие именно противником свободной конкуренции о которой так много говорится. В учебниках по экономике и в политической речи» [8]. В соответствии с этим великим мифом, «неэффективность» государственных институтов должна быть ограничена, чтобы не подорвала возможности того, что считается laissez-faire (невмешательства) рыночной экономики. Правительства, по словам Хомского, все большая и большая, но под влиянием неолиберализма имеют все меньше и меньше претензий иметь дело с некорпоративными интересами [9].
Эммануэль Тодд в начале своего исследования под названием «После империи», указывает, что мы привыкли видеть в США образец решения, в то время, как они начинают не столько решать, сколько создавать проблемы для всего мира. «Те, кто на протяжении последнего полувека были гарантом политических свобод и экономического порядка, сегодня все чаще становятся фактором международной нестабильности, поддерживая там где это возможно, неуверенность и даже конфликты. По всему миру носятся с идеей признания нескольких второстепенных государства в качестве «оси зла», которую необходимо сокрушить и уничтожить» [10]. Американский капитализм вполне можно охарактеризовать как «суперкапитализм» или, еще лучше, «турбокапитализм». Сегодня процесс глобализации находится в процессе глобального финансового капитализма. Концентрация его участников находится на финансовых рынках и поэтому экономика США все чаще является »экономикой кризиса». Основу их экономики представляет «печатание денег и оружейные заводы».
Ноам Хомски отмечает, что Соединенные Штаты использовали ВТО, Всемирный банк и МВФ чтобы извлекать дополнительные прибыли и эксплуатировали другие страны, порабощая их при посредстве системы различных кредитов, грантов и «пожертвований». Это экономика на глиняных ногах, у которой нет никакого будущего, поскольку над ней висит «дамоклов меч» краха. В американской внешней политике сегодня все меньше и меньше дипломатии, и все больше и больше опоры на грубую силу, что свидетельствует о неопределенности и противоречиях, которые разъедают изнутри эту систему. Соединенные Штаты в 2011 году столкнулись с возможностью банкротства, которое удалось избежать практически в последние минуты, и это может быть результатом одной из крупнейших рецессий, охвативший весь мир, а, наверное, и создание новых. Соединенные Штаты должны были успеть до 2 августа достигнуть согласия по повышению лимита задолженности, дабы быть в состоянии продолжать выплачивать свои кредиты. Это (с большими спорами между Демократической и Республиканской партиями), наконец, сделали, и Соединенные Штаты смогли отдохнуть. Но волна неуверенности прокатилась по др.странам и произвела шокирующее впечатление.
Наоми Клейн говорит, что Фридман и его последователи приняли и усовершенствовали следующую стратегию: «ждать серьезного кризиса, а затем продавать часть государства частным игрокам, и обрушивать на граждан, все еще не оправившийся от шока, провозглашение чрезвычайных реформ в качестве постоянных [11]. Именно эта «шоковая терапия» в сочетании с моно ориентированными формами глобализации привели к появлению так называемого «катастрофического капитализма». Наоми Кляйн считает, что 11 сентября, который, безусловно, является одним из самых ужасных событий в человеческой истории, сослужил службу идеологам администрации Буша. Появилась возможность в полной мере применить идеологию Фридмана и его последователей. Предлогом стала «война против терроризма", а страх, который был взвинчен, использовался весьма эффективно. В конце концов, многие из очень чувствительных и важных функций правительства были предоставлены частным компаниям [12]. Ноам Хомски утверждает, что усилия, которые финансируются крупными корпорациями, дали этим идеям »почти святую ауру», что смяло слабое сопротивление их требованиям [13]. Это привело к тому, что война и стихийные бедствия, которые ранее представляли собой единственный шанс для узкого сектора экономики, приватизированы до такой степени, что открылись «новые рынки». Это приводит к развитию монетаристской политики и расширения финансового капитала, пренебрегая при этом развитием других важных секторов экономики. Соединенные Штаты свое господство реализовывают путем инвестирования в развитие оружия, пока лидерство в развитии технологии, бизнеса и экономики, оставлено другим странам, таким как, например, Германия или Япония. Манера, в которой Германия установила господство над Европой с использованием экономического кризиса, лучшем всего говорит Саймон Хефер в тексте, опубликованном в Daily Mail. Он сказал, что призрак кризиса все больше распространяется на север, сделав вывод, что, там где Гитлеру не удалось покорить Европу военным путем, современным немцам удалось за счет торговли и финансовой дисциплины. Добро пожаловать в Четвертый Рейх!» [14]
Латинская Америка под прицелом неолиберализма
В плане ресурсов Латинская Америка является для Соединенных Штатов очень привлекательной областью. Например, доля Венесуэлы в импорте нефти в США составляет 15%. Это - главная причина, почему во всех отношениях янки хотят сохранить господство в регионе, хотя это всегда не совсем успешно. «Латинская Америка в целом увеличивает объемы торговли и развития других отношений с Европейским Союзом и Китаем, с редкими колебаниями, но с вероятностью дальнейшего расширения. В особенности, когда речь заходит об экспортерах сырья, таких как Бразилия и Чили. Венесуэла установила с Китаем, вероятно, самые тесные отношения в сравнении с любыми другими странами Латинской Америки. Дабы достигнуть ослабления зависимости от враждебно настроенного правительства США, Венесуэла планирует наращивать объем поставок нефти Китаю» [15]. Причина того, что мы сосредоточили внимание на странах Латинской Америки, заключается в том, что на их примере очень ярко проявился провал неолиберализма, а также потому, что они, по образному выражению Ноама Хомски, в конце концов, взяли свою судьбу в свои руки. И начали развиваться в условиях противостояния Соединенным Штатам» [16].
Интересно, что эти пространства служат примерами проявления «экономического чуда» неолиберальной концепции развития. Ноам Хомски отмечает, что понятие «экономического чуда» относится к комплексу макроэкономических показателей, приносящих большую прибыль иностранным инвесторам и местным элитам, в то время как остальная часть населения живет в бедности. Если это, «чудо» не приносит ожидаемых результатов, то происходит следующее: «Пока «экономическое чудо» счастливо прогрессировало, успехи Бразилии были провозглашены в качестве примера чудес капиталистического свободного рынка, как счастливый результат американского лидерства и дружеской поддержки. Теперь, когда она потерпела крах, вдруг оказалось, что Бразилия, якобы, не смогла последовать советам США и рациональным принципам экономического либерализма. Её неудача объясняется экономической ортодоксией социалистического государства. Таким образом, и этот крах преподносится в качестве еще одного доказательства превосходства капитализма и свободного рынка [17]».
Хотя многие представители интеллигенции, в том числе Джеральд Хейнс [18], воспевали вмешательство Соединенных Штатов в этом регионе Бразилии, в качестве истинной американской истории успеха. Успеха, который привел ко впечатляющему развитию экономики, основанной на капитализме, реальность совсем иная. Данные исследования Всемирного банка с 1975 года, т.е. со времени пика этого «экономические чуда», говорят о том, что 68% населения Бразилии недоедает, причем, от недоедания страдают 58% детей [19].
Таким образом, когда в начале восьмидесятых бразильская экономика начала скатываться в пропасть, Бразилия просто покинула список стран, которые числятся в успешных. Когда в 1980 году Фернардо Аффонсо Колор де Мелло [Fernando Affonso Collor de Mello] (который, кстати, и был представителем местной элиты) победил на выборах, ожидалось, что Бразилия будет двигаться к новым нео-либеральным успехам. Данные, однако, свидетельствуют об обратном. Экономика упала с 3,3% роста в 1989 году до -4,6% в 1990 году. Доход на душу населения сократился на 6% в периоде с 1990-года по 1992 года. Продолжающийся спад производства, снижение затрат на здравоохранение на 33%, дальнейшее снижение образования и увеличение налогов на еженедельной заработной платы на 60%. [20] 20 Об этом говорит Томас Скидмор [Thomas Skidmore], который пишет о том, что неолиберальные реформы, действительно, не преуспели в строительстве бразильского капитализма. [21]
Ларс Шульц [Lars Schoultz], занимающихся проблемой прав человека в регионе Латинской Америки, показывает, что большинство американской помощи поступало тем латиноамериканским правительствам, которые своих граждане подвергали пыткам». [22] 22 Он указывает, что политика США в отношении Латинской Америки во многом зависит от того, насколько нестабильность управляется американскими политиками, что привело к убеждению о причинах нестабильности и ее последствиях для безопасности США. Это тоже одна из причин, почему Латинская Америка столь важна для безопасности США, и исходя из понимания этой причины, можно в полной мере понять политику, направленную на этих областях.
Ноам Хомски критикует созданный Кеннеди [John F. Kennedy] «Союз ради прогресса» [Alliance for Progress], который, в основном, ориентировался на нужды американских инвесторов. Он «укрепил и расширил существующие отношения, которые от Латиноамериканцев требуют производства для экспорта, а, одновременно, способствовали снижению производства основных культур, таких как кукуруза и бобы, которые выращиваются для внутреннего рынка» [23], что привело к том, что после этого вмешательства, производство говядины возросло, но потребление снизилось» [24]. «Такие модели развития агропромышленного экспорта, как правило, производят экономическое чудо, в котором валовой внутренний продукт растет, в то время как большая часть населения голодает». [25]
Когда речь заходит о латиноамериканских гражданах, можно отметить тенденцию к снижению веры в существующие демократические институты и усиление тенденций к более активным и влиятельным действиям: «Такое развитие событий отчасти является результатом явления, которое наблюдается экспертами статистических организаций в Латинской Америке уже несколько лет: граждане выражали растущее разочарование в демократических институтах. Они хотели создать демократическую систему, основанную на участии общественности, а не на участии элиты и иностранного господства».[26]
Аргентинский политолог Атилио Бор [Atilio Alberto Borón] объяснял это упадком веры в демократические институты, поскольку «новая волна демократизации в Латинской Америке совпадает с экономическими реформами, перечеркнувшими реальную демократию: страны Латинской Америки, а также других регионов, которые строго следовали правилам неолиберального консенсуса с Вашингтоном, пришли к экономической катастрофе». [27] Капитализм, который распространяется в Латинской Америке, препятствует осуществлению демократии. «Неолиберальная дилемма не является дилеммой между государством и рынком, а между демократией и рынками. Представители неолиберализма без колебаний жертвуют демократией ради рынка». [28]
Ноам Хомски отмечает, что общим врагом концепции демократии и развития, является проблема утраты суверенитета, которая выражается в самых разных формах. «Правда, в мире национальных государств, по определению, за сокращением суверенитета следует упадок демократии и снижение способности к созданию социальной и экономической политики». [29] Утрата суверенитета в значительной степени препятствует развитию и установлению демократии. Одним из основных механизмов экономического управления в Южной Америке, безусловно, является Международный валютный фонд. Хомски утверждает, что Аргентина, «которая была экспериментальный сирот для МВФ» [30], частично, с помощью Венесуэлы, как-то была восстановлена. И Боливия прошла через освобождение от влияния МВФ, тоже с большой помощью Венесуэлы. Бразилия, Аргентина и Венесуэла стали респектабельным экономическими силами, которые в последние годы укрепляют свое сотрудничество с Китаем, Россией и некоторыми странами Ближнего Востока. В этом смысле, Тиберио Грациани [Tiberio Graziani] считает, что этим странам (вместе с Россией, Индией и Китаем) легче преодолеть кризис, чем США и Европа. [31]
Поэтому Алан Сорал [Alain Soral] справедливо считает, что Латинская Америка постепенно начинает восставать против доктрины Монро, однако, саму возможность для восстания она имеет уже сейчас. [32] По инициативе президента Венесуэлы состоялся второй саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), в начале декабря 2011 года, с той лишь разницей, что на первом саммите было 32, а на другому саммите 33 государства. На этот раз он настоял, что в Содружестве нет места для США и Канады, потому что они виновны в том, что положение Южной Америки было на протяжении веков просто невыносимым». [33] США сегодня не являются самым мощным игроком на международной арене мира, и они должны это понимать. Россия, которая в течение многих лет является мощной силой в мировом порядке, потом Бразилия, которая стала региональным лидером развития, затем Южная Африка, как экономический лидер Африканского континента, (хотя по-прежнему сталкивается с высоким уровнем бедности и безработицы), а также Индия и Китай - составляют группу развивающихся стран БРИК странах на подъеме. [34]
Национальное государство в водовороте неолиберализма
Энтони Гиденс [Anthony Giddens], имевший дело с национальным государством, говорит, что оно существует там, где есть политический аппарат (...), который управляет данной территории, и чей авторитет опирается на правовой систем». [35] Плотная соединенность современных государств, является результатом многих причин - технологической и информационной революции, которая привела к сжатию пространства и времени; создания глобального рынка; растущего влияния события в одном месте на жизнь отдельных людей и сообществ по всему миру; формирование повышения осведомленности о взаимозависимости; роста более мощных транснациональных и наднациональных экономических факторов и политических институтов, которые формируют ландшафт мира; распределение унифицированных форм (индустриализм, постиндустриализм информационной революции, рыночной экономики, многопартийной системой...) почти во всех социальных пространствах. [36]
Здесь возникает вопрос: Означает ли глобализация одновременно и конец национального государства? Неолиберальная концепция, конечно, не в пользу национального государства. Начало ХХI века, однако, показывает, что национализм и национальные государства по-прежнему сохраняют свою силу. «Вера в истину глобального экономического порядка ослабляется. Все больше и больше признаков международных экономических потрясений. Ослабило восхищение лидерами глобалистских проектов. Неправительственные организации и их лидеры, как правило, остаются в обороне, потому что они склонны видеть себя в качестве экспертов и оппонентов власти». [37] С одной стороны, государство должно стремится к стандартам и моделям политической организации развитых стран Запада, а с другой стороны, лучшими достижениями своего государства и своими духовными достоинствами. [38]
Джон Ролстон Сол [John Ralston Saul] считает, что мало кто предполагал, что возвращение национализма будет происходить из-за фатальных ошибок, которые произошли из-за раннего отказа от национализма. «Мы, по сути, просто предположили, что мы можем это исправить. Западная Германия, по понятным причинам, ведущая по данному вопросу, заявила что она является пост-национальными государством. И Германия, в конце концов, была в основе европейского интеграционного проекта. Один из ведущих политиков, Оскар Лафонтен [Oskar Lafontaine], писал в 1988 году о преодолении национального государства. Это было лишь несколько лет, прежде чем междунационналный конфликт разразился в Югославии, а Германия, вместе с другими государствами (с теоретически постнациональной демократией), попытался вмешаться, поддерживая одну этнической группу против другой. Как получилось, что современное национальное правительство ответило на менее значительный кризис в Европе, вспоминая события 1914 года? Чтобы быть точным, каждое государство поддерживало этих этнических групп, которые поддерживали и в войнах ХХ века». [39]
Национальное государство в этой истории находится под ударом. [40] Исходя из этого, о создании нации, по замыслу творцов нового мирового порядка, конечно, не может быть и речи. Как раз наоборот: народ не построить, но сломать, разбить на отдельные части или дробят». [41] Те страны, которые выступают против силовых центров, просто провозглашаются националистическими государствами. Национальное и все, связанное с ним, становится патологическим явлением, которое должно быть искоренено как можно скорее. Национализм это явление, которое существенно влияет на современное общество и как такое является важным объектом исследования. Mиша Джуркович отмечает, что национализм не должен автоматически рассматриваться как патологическое явление, хотя это, безусловно, может быть, и люди на Балканах, к сожалению, очень много знают об этом, но он имеет и свои хорошие стороны: «Защита прав меньшинств и культур национальных меньшинств, защиты и спасения потерянных языков, истории, искусства, разрешения кризиса идентичности, легитимности сообщества и социальной солидарности, идея народного суверенитета и коллективных усилий и так далее». [42]
Джон Ролстон Сол, в решении этого вопроса реально разделяет национализм на положительный и отрицательный. Отрицательный национализм уходит своими корнями в неопределенность, бедность и амбиции, где его выражение часто основывается на этнической лояльности, одностороннему присвоению Бога, горделивом убеждении в невежестве других и убежденность в том, что «именно мы постоянно оскорблены», что «именно к нам проявляется непоправимая несправедливость». Он основан на «страхе, гневе и безнадежном убеждении, что права одного народа существуют только по сравнению с правами других, якобы речь идет о конкурсе, где вы можете выиграть или проиграть». [43] В негативном национализме часто поощряется невежество, хотя иногда дело в вопросе преобразования действительности.
«Такое умышленное невежество дает возможность просвещенным обществам по-прежнему сосредоточится на конкретных обидах. То есть, на худой конец, может быть погружен в психологию цинизма». [44] Для положительного национализма характерны, по Солу, прежде всего вера в положительное напряжение и неопределенность основополагающего значения выборов. Это связано с доверием и открытостью к концепции общественного блага. «Он не связан с ограниченной абсолютной правдой. Особенно подозрительный к общим ответам на практические вопросы. Поэтому, не важно убеждение, что понимание рынка должно преобладать во всех случаях - независимо от того, является ли это марксистский или неолиберальной. Удобный метод, который используется по-разному и со сложностями в соответствии с требованиями реальности. И такой метод, прежде всего, долен практически использоваться, а не служить предметом поклонения». [45]
Национальное государство, следовательно, не груз, от которого нужно освободиться любой ценой. (Хотя неолиберальная концепция глобализации, говорит именно это). Вместо этого стоит принять концепцию «глобализации с человеческим лицом». В этом смысле, Сол прав, когда говорит, что в настоящее время переживается один из тех моментов, которые отделяют эпоху стабильности от нестабильной эпохи. И это привело к «хаотическому» «вакууму», полной растерянности и противоречивым тенденциям: «Ведущие личности, которые когда-то говорили, что национальное государство должно быть отдано стихиям рынка, сегодня говорят иное. Вспоминают о том, что преодолеть глобальные военные потрясения, нужно вновь укрепить государственность. Пророки глобализации, которые воспевали «приватизацию, приватизацию, и еще раз приватизацию», теперь говорят другое. Они, дескать, ошибались. Верховенство национального имеет какое-то значение.
Экономисты резко разделились по вопросу ослабления или усиления контроля над рынками капитала. Все более мощные национальные государства, как Индия и Бразилия, бросают вызов широко признанному принципу глобальной экономики». [46] В связи с этим, следует отметить кризис, который пережил Евросоюз в 2011 и 2012 году, когда дело дошло почти до падения евро, что могло быть основой для серьезного потрясения ЕС. Потрясения, которое удалось избежать буквально в последний момент.
И в заключении...
Неолиберализм у большой мере способствует созданию социальной несправедливости, которая делает нереальной проявление демократии. Крупные корпорации в таком обществе имеют возможность и способность влиять на политические процессы, просто оплачивая их. В США, например, 0,25% самых богатых американцев дают 80% от всего количества вливаний «в политику». [47] В результате этого, реальностью становится снижение демократии и создание условий для доминирования крупных корпораций. Ноам Хомски считает, что демократия должна давать людям ощущение сплоченности. «Воспарению политической культуры необходимы объединение граждан, библиотек, школ, общественных организаций, сотрудничество на общественных местах, общественных организаций и профсоюзов, которые позволили бы гражданам встречаться, общаться и обмениваться мнениями». [48] Неолиберальная форма демократии, ориентирована на рынок и прибыль, где производится потребитель, а не гражданин. Ноам Хомски считает, что это приводит к созданию атомизированного общества, полного безработных граждан, которые ощущаются деморализованными и социально бессильными. «В целом, неолиберализм является наиболее прямой и наиболее непосредственной опасностью представительной демократии, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире». [49] Почти невозможно угадать момент, когда произойдет главный поворот по этому вопросу.
Глобальная рыночная экономика является одной из тех областей, в которых лучше всего можно увидеть деятельность этих факторов. То, что часто называют распространением рыночной экономики, является полной противоположностью этого. Глобализация под силу такому мощному правительству, как, например, правительство США, которые хочет навязать свое влияние по всему миру, а также поддерживать влияние богатых корпораций, которые доминируют в экономике стран всего мира, без создания каких-либо обязательств по отношению к народам этих стран. [50]
Неолиберальная концепция глобализации, конечно, ненадежный путь. Неолиберализм является одной из форм организации общества, которая оказалась полностью провальной. Нагляднее всего, этот провал демонстрируют крупные экономические силы во главе с США. Процесс глобализации в настоящее время находится в стадии, соответствующей фазе глобального финансового капитализма, стоящего на глиняных ногах. О слабости неолиберализма довольно хорошо свидетельствует волна мирового экономического кризиса, от которого оказались не застрахованными даже самые развитые страны в мире. Стратегия, которой пользуются крупные державы, можно описать термином «шоковая терапия», что приводит к предпосылкам катастрофы капитализма». Они заявляют, что державы, которые оказались на дороге великими государствами, называются «вирусом», который должен быть ликвидирован как можно скорее. Они «не в состоянии развивать демократию и, следовательно, в этом отношении им должна быть оказана помощь». Неолиберальная модель глобализации, следовательно, должна быть заменена моделью «глобализации с человеческим лицом», которая будет служить человеку, а не прибыли.
Перевод - Ранко Гойкович, Павел Тихомиров
Литература
Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда и јавно мњење - разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
Borón Alberto Atilio, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2003. Грацијани Тиберио, «Економска криза Западног система», Геополитика, бр. 32, 23. 06. 2009.
Ђурић Живојин, «Модернизација и питање националне државе», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 1/2003.
Елзесер Јирген, Национална држава и феномен глобализације - како можемо да се спасимо из светске економске кризе, Јасен, Београд, 2009.
Ђурковић Миша, «Национални идентитет и либерална демократија» у: Јаел Тамир, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд, 2002.
Zajda Joseph, «Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction», Nation-Building, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives (приредили: Joseph Zajda, Holger Daun, Lawrence J. Saha), Springer, 2009.
Клајн Наоми, Доктрина шока - процват капитализма катастрофе, Самиздат Б92, 2009.
Милошевић Зоран, «НАТО и медији», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2008.
Милошевић Зоран, «Јужноамеричка алтернатива», Печат, 8. децембар 2011.
Митровић Љубиша, Транзција у периферни капитализам (огледи из социологије глобалних и регионалних промена). Институт за политичке студије,Београд, 2009.
Печујлић Мирослав, Глобализација - два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
Skidmore Thomas, The Politics of Military Rule in Brazil, Oxford, 1988.
Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
Сорал Алан, «Савез деснице вредности и левице рада» (разговор водили: Милош Јовановић о Слободан Ерић), Геополитика, бр. 29, 15. децембар 2008.
Стојадиновић Миша, «Национални идентитет у доба глобализације», Српска политичка мисао, vol. 32, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
Стојадиновић Миша, «Од теорије социјалних конфликата до њихових решења», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
Стојадиновић Миша, «Изазови политичких система на Балкану», Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
Стојадиновић Миша, Милошевић Катарина, «Комуникацијски контекст културе и мултикултурног друштва», Наука, Часопис Слобомир П Универзитет за друштвене и хуманистичке науке, Слобомир, Бијељина, бр. 2-3/2010.
Стојадиновић Миша, «Значај медија за развој културе мира», Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет - универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010.
Schoultz Lars, National Security and United States Policy Toward Latin America, Princeton University Press, 1987.
Тод Емануел, После империје - есеј о распаду америчког система, Паидеиа, Београд, 2006.
Францисти Саша, «13. Новембар - Америка добија конкуренцију», Печат, 13. новембар 2011.
Haines Gerald, Americanization of Brazil: A Study of U.S. Cold War Diplomacy in the Third World, 1945-1954, Scholarly Resources Inc, 1989.
Chomsky Noam, For Reasons of State, Fontana/Collns, Great Britain, 1973.
Chomsky Noam, Profit over People - Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
Чомски Ноам, Година 501 - конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998.
Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
Чомски Ноам, «Србија треба да учи од Латинске Америке и да се окрене својој историји» (разговор са Биљаном Ђорђевић), Печат, 28. јануар, 2011.
Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999.
Џереми Фокс, Чомски и глобализација, Академска штампа, Београд, 2003.
Примечания
Работа подготовлена в рамках проекта Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција бр. 179009, финансируемого Министерством Просвещения и Науки Республики Сербии.
[1] Џереми Фокс, Чомски и глобализација, Академска штампа, Београд, 2003, стр. 67.
[2] Дејвид Барсамиан, Ноам Чомски, Пропаганда и јавно мњење - разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006, стр. 34.
[3] ibid, 2006, стр. 34.
[4] Зоран Милошевић, «НАТО и медији», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2008, стр. 544.
[5] Џереми Фокс, Чомски и глобализација, Академска штампа, Београд, 2003, стр. 26.
[6]Noam Chomsky, For Reasons of State, Fontana/Collns, Great Britain, 1973, стр. 403-404.
[7] Noam Chomsky, Profit over People - Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999, стр. 7.
[8] Noam Chomsky, Profit over People - Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999, стр. 12.
[9] ibid, 1999, стр. 12.
[10] Емануел Тод, После империје - есеј о распаду америчког система, Паидеиа, Београд, 2006, стр. 5.
[11] Наоми Клајн, Доктрина шока - процват капитализма катастрофе, Самиздат Б92, 2009, стр. 12.
[12] ibid, стр. 19.
[13] Noam Chomsky, Profit over People - Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999, 17.
[15] Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 156.
[16] Ноам Чомски, «Србија треба да учи од Латинске Америке и да се окрене својој историји» (разговор са Биљаном Ђорђевић), Печат, 28. јануар, 2011, стр. 44.
[17] Ноам Чомски, Година 501 - конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998, стр. 226.
[18] см.: Gerald Haines, Americanization of Brazil: A Study of U.S. Cold War Diplomacy in the Third World, 1945-1954, Scholarly Resources Inc, 1989.
[19]Ноам Чомски, Година 501 - конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998, стр. 202.
[20] ibid, стр. 227.
[21] см.:Thomas Skidmore, The Politics of Military Rule in Brazil, Oxford, 1988.
[22] Lars Schoultz, National Security and United States Policy Toward Latin America, Princeton University Press, 1987.
[23] Ноам Чомски, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999, стр. 34.
[24] ibid, стр. 34.
[25] ibid стр. 34.
[26] Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 193.
[27] ibid. 194.
[28] Atilio Alberto Borón, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2003, стр. 15.
[29] Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 194.
[30] ibid, стр. 199.
[31] Тиберио Грацијани, «Економска криза Западног система», Геополитика, бр. 32, 23. 06. 2009.
[32] Алан Сорал, «Савез деснице вредности и левице рада» (разговор водили: Милош Јовановић о Слободан Ерић), Геополитика, бр. 29, 15. децембар 2008.
[33] Зоран Милошевић, «Јужноамеричка алтернатива», Печат, 8. децембар 2011.
[34] см.: Саша Францисти, «13. Новембар - Америка добија конкуренцију», Печат, 13. новембар 2011.
[35] Joseph Zajda, «Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction», Nation-Building, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives (приредили: Joseph Zajda, Holger Daun, Lawrence J. Saha), Springer, 2009, стр. 2.
[36] Мирослав Печујлић, Глобализација - два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002, стр. 17-18.
[37] Џон Ралстон Сол, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011, стр. 298.
[38] Живојин Ђурић, «Модернизација и питање националне државе», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 1/2003.
[39] Џон Ралстон Сол, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011, стр. 299.
[40] Миша Стојадиновић, «Национални идентитет у доба глобализације», Српска политичка мисао, vol. 32, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
[41] Јирген Елзесер, Национална држава и феномен глобализације - како можемо да се спасимо из светске економске кризе, Јасен, Београд, 2009, стр. 11.
[42] Миша Ђурковић, «Национални идентитет и либерална демократија» у: Јаел Тамир, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд, 2002, стр. 7.
[43] Џон Ралстон Сол, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011, стр. 301.
[44] ibid, стр. 302.
[45] ibid, стр 332.
[46] ibid, стр. 9-10.
[47] Noam Chomsky, Profit over People - Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999, стр. 10.
[48] ibid, стр. 11.
[49] ibid, стр. 11.
[50] ibid, стр. 13.
















