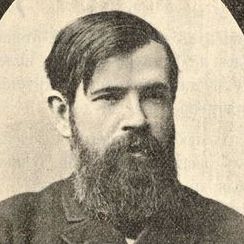Ниже мы завершаем публикацию историко-критического этюда Николая Ивановича Черняева (1853-1910) (См. начало: «Капитанская дочка» Пушкина; продолжение: «Капитанская дочка» Пушкина Историко-критический этюд. 2 часть).
Специально для Русской Народной Линии публикацию (по изданию: Черняев Н.И. «Капитанская дочка» Пушкина: Ист.-крит. этюд.- М.: Унив. тип., 1897.- 207, III с. (оттиск из: Русское обозрение.- 1897. -№№2-4, 8-12; 1898.- №8) подготовил (в сокращении) доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александр Дмитриевич Каплин.
Постраничная ссылка перенесена в окончание текста.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Общие выводы о значении и особенностях «Капитанской дочки». - Ее психология и психологические приемы.- Списывал ли Пушкин с кого-нибудь героев и героинь своего романа?- «Капитанская дочка» отразила в себе русское общество и русский народ времен Екатерины II.- Сравнение «Капитанской дочки» с «Евгением Онегиным» по широте размаха.- Мнение Н. Н. Страхова о «бедной действительности» и «умеренном понимании и чувствовании» действующих лиц «Капитанской дочки».- Их язык.- «Капитанская дочка», как проявление русского национального самосознания.- Отзыв Ю. Н. Говорухи-Отрока.- Особенности «Капитанской дочки». - Слова Шербюлье о художественном идеализме и стиле.- Всемирно-историческое значение «Капитанской дочки».
Теперь нам следует подвести итоги всему прежде сказанному и точнее определить литературное значение и особенности «Капитанской дочки», о которых нам уже приходилось не раз говорить мимоходом.
Представляет ли «Капитанская дочка» большой, исключительный интерес с психологической точки зрения? Мы решаемся поставить и разобрать этот, собственно говоря, лишний вопрос, лишь в виду той сбивчивости понятий, которая господствует в нашей критической литературе и мешает правильной оценке гениальнейших произведений русского искусства. Нет ни малейшего сомнения, что Пушкин дал в «Капитанской дочке» не только неувядаемый образчик художественного воспроизведения русского быта и русских типов, но и выказал себя в ней великим психологом, создав целый ряд характеров, представляющих глубокий общечеловеческий интерес. Взять хотя бы, например, Марью Ивановну. Истолкование всех ее побуждений и разъяснение всех качеств ее ума и сердца могло бы быть предметом отдельного и при том очень поучительного этюда. В Марье Ивановне мы видим целый ряд свойств, редко уживающихся в одном лице: «благоразумие» и «чувствительность», мягкость чисто женственной натуры и твердую, решительную волю, простодушие и прозорливость, здравый, практический смысл и высокие, идеальные стремления, искренность и замкнутость, способность сильно чувствовать и неспособность увлекаться страстями и терять под их влиянием сознание долга. О Корделии, Офелии, Дездемоне и т. д. написано безчисленное множество статей, подробно же разбирать характер Марьи Ивановны еще никому не приходило в голову, а между тем она не уступает героиням Шекспира ни по изяществу отделки, ни по глубине замысла. - А Швабрин? Разве он менее интересен для психолога, чем Яго? Разве он также не представляет сочетания самых различных свойств и наклонностей -коварства и общительности, самолюбия и злости, дерзости и трусости, заносчивости и отсутствия истинного чувства достоинства, самомнения и низости, остроумия и недальновидности и т. д. и т. д.? Уяснить себе все изгибы души Марьи Ивановны или Швабрина, этих двух противоположных полюсов пушкинского романа, столь же трудно, как уяснить себе все изгибы души Офелии или Яго. Для того, кто умеет вдумываться в произведения великих поэтов, характеры Марьи Ивановны и Швабрина дают неисчерпаемый материал для размышления и психологических сближений. То же самое, впрочем, можно сказать о характерах всех главных действующих лиц «Капитанской дочки»: каждое из них, помимо чисто-русских черт, представляет большой интересе просто как характер. Пугачев, со всеми его казацкими свычаями и обычаями, был возможен, конечно, только в России, но люди, подобные Пугачеву, встречались и встречаются во все времена и у всех народов. Савельич, на ряду с Калебом, никогда не утратит значения, как тип преданного слуги и один из привлекательнейших по трогательному комизму характеров, какие только существуют в литературе. Гринев-отец и Гринев-сын, Иван Кузьмич, Иван Игнатьич и Василиса Егоровна - все они чрезвычайно своеобразны и интересны, как характеры. Екатерина II «Капитанской дочки» является как бы воплощением просвещенного абсолютизма ХVIII века. Вообще, пo сложности, по глубине, по оригинальности и по разработке характеров «Капитанская дочка» принадлежит к числу гениальнейших романов.
Мастерски обрисовывая и освещая самые сложные характеры путем особенно рельефного воспроизведения их основных черта, Пушкин систематически воздерживался в «Капитанской дочке» от столь распространенного ныне многословного анализа каждого душевного движения своих героев и героинь. В «Капитанской дочке» нет и помину о том, если можно так выразиться, психологическом пережевывании, без которого не могут ступить шагу наши новейшие романисты, ничего не оставляющие для воображения читателя и твердо убежденные, что ему нужно объяснять до мельчайших подробностей, что чувствовали и думали те или другие лица при тех или других обстоятельствах. Устраняя из «Капитанской дочки» все ненужные подробности, Пушкин прибегал к психологическому анализу лишь в тех случаях, когда без него никак нельзя было обойтись. Так, например, поэт сравнительно долго останавливался на душевном состоянии Гринева в те минуты, когда Пугачев сначала велел его повесить, а потом возвратил ему свободу. Если бы Пушкин не разъяснил тех «смутных чувствований», благодаря которым Петр Андреич, потрясенный зрелищем казней и переживший в немногие мгновения весь ужас прощания с жизнью, находился в полубессознательном состоянии, нам было бы непонятно, каким образом такой рыцарь чести, как он, мог стоять перед Пугачевым на коленях, не оказывая сопротивления тем, кто принуждал его к этому унижению. По большей же части, Пушкин дает лишь беглые указания на душевные настроения героев и героинь романа, но роман от этого не делается неясным и не возбуждает никаких недоумений в человеке, умеющем не только читать, но и понимать читаемое. В конце двенадцатой главы, например, рассказывается очень сжато о прощании Марьи Ивановны, при отъезде из Белогорской крепости, с могилами отца и матери. Какой обильный материал нашел бы в этой сцене для психологического анализа любой из теперешних романистов! Он наверно посвятил бы ей несколько страниц, не опустив ни одной подробности. Иначе поступил Пушкин: «Марья Ивановна, вспоминает Гринев, пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила оставить ее одну; через несколько минут она воротилась, молча, обливаясь тихими слезами». Вот и все, что дает нам «Капитанская дочка» об этом эпизоде. Но нужно ли прибавлять что-нибудь для человека, не лишенного воображения, к этим словам? Какой художник, внимательно вчитавшийся в «Капитанскую дочку», если только у него есть неподдельный талант, не поймет и затруднится передать на полотне то глубокое, но чуждое отчаяния и соединенное с покорностью воле Божией горе, которое чувствовала, прощаясь с прахом родителей, Марья Ивановна, уже пережившая страшное нравственное потрясение во время болезни, немедленно вслед за гибелью Ивана Игнатьевича и Василисы Егоровны? «Тихие слезы» Марьи Ивановны, как нельзя лучше, характеризуют ее душевное настроение в то время, когда она прощалась с дорогими для нее могилами, а ее просьба оставить ее одну, когда она идет в последний раз поклониться праху родителей, прекрасно обрисовывает правдивую и стыдливую душу Марьи Ивановны, инстинктивно чуждавшуюся всего показного и стеснявшуюся обнаруживать святая святых своей души даже пред любимым человеком. Две строчки «Капитанской дочки», посвященные прощанию Марьи Ивановны с могилами Ивана Кузьмича и Василисы Егоровны, не имеют ничего общего с психологическим анализом: в них нет, по-видимому, ничего, кроме беглого рассказа или, лучше сказать, упоминания о том, как Марья Ивановна отправилась на кладбище и вернулась оттуда, но эти две строчки, которые каждый романист-психолог последнего покроя счел бы долгом заменить, по крайней мере, двумя страницами, дают о Марье Ивановне такое ясное понятие, какого не дала бы о ней целая глава, наполненная подробнейшим описанием того, как она склонила колени перед прахом отца и матери, как она молилась за своих родителей, как она прощалась с ними, что она думала, чувствовала и вспоминала при этом, как она оправляла дорогие для нее могилы, как она крестилась, бросая на них последний взгляд и уходя с кладбища. Приведем еще один пример, с целью показать, как старательно избегал Пушкин всякого психологического размазывания и как быстро он вел свое повествование, ничего не терявшее, однако, при этом в ясности и полноте. В двенадцатой главе мы расстаемся со Швабриным в то время, когда он управляет по поручению Пугачева Белогорскою крепостью; в последней же главе мы встречаемся с ним уже тогда, когда он находится в казанской тюрьме. Что пережил Швабрин, когда попал в руки правительства, и как он вел себя на первых допросах, об этом в романе не говорится, хотя каждый из теперешних романистов психологов счел бы за сущую ересь не показать всего этого в целом ряде сцен и картин. Пушкин ограничился всего несколькими строчками воспоминаний Гринева: «Я с живостью оборотился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волосы его, недавно черные, как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена». Пушкин ничего не прибавил к этим словам, да к ним и не нужно было ничего прибавлять, ибо они дают полное понятие о том ужасе и отчаянии, которые овладели Швабриным, когда он попал в тюрьму, о том трепете, с которым он помышлял о неизбежной расплате за измену, о том угнетающем и гибельном влиянии, которое имели на него тюрьма и следствие. Кто из читателей, помнящих, как Швабрин валялся в ногах у Пугачева и как охотно он прибегал, для достижения своих целей, ко лжи, клевете, доносам и наушничеству, не догадается без всяких разъяснений, что Швабрин держал себя самым недостойным и унизительным образом перед своими судьями, ничем не брезгал для того, чтобы возбудить в них жалость к своему положению, всячески старался выгородить себя и приплетал к делу о мятеже всех мало-мальски причастных к нему, а иногда даже и совершенно невиновных людей, с целью заслужить благосклонность суда безпощадною готовностью раскрыть все тайны своих бывших сообщников?
_______________
С кого списывал Пушкин действующих лиц «Капитанской, дочки»? Покойный Семевский, ездивший в Михайловское и Тригорское с целью собрать на месте сохранившиеся у тамошних старожилов предания о подневольном пребывании Пушкина в деревне, дал разгадку имен, придуманных поэтом для жены отца Герасима и для главной героини романа, дочери капитана Миронова. Марья Ивановна Осипова, дочь Прасковьи Александровны Осиповой, владелицы Тригорского той поры, когда его посещал Пушкин, сообщила Семевскому, между прочим, вот что: «Жила у нас ключница Акулина Панфиловна, ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы до поздней ночи, Пушкину и захочется яблок. Вот и пойдем мы просить Акулину Панфиловну принести моченых яблок, а та и разворчится. Пушкин раз и говорит ей шутя: «Акулина Панфиловна, полноте, не сердитесь! Завтра же вас произведу в попадьи». И точно, под именем ее, чуть ли не в «Капитанской дочке», он вывел попадью. А в мою честь, если хотите знать, названа сама героиня романа» (С. Петербургские Ведомости, 1866 г., № 139). Из этого, конечно, не следует, что капитанская дочка была списана с Марьи Ивановны Осиповой, а жена отца Герасима с тригорской ключницы. Пушкин наделил их знакомыми именами,- и только; самые же типы и характеры явились у него плодом самостоятельного творчества и не имели ничего общего не только с фотографией, но и с портретами. Пушкин никогда не сталкивался близко с теми общественными слоями, к которым принадлежали Иван Кузмич, Василиса Егоровна, Иван Игнатьич, Марья Ивановна и т. д. Нет никаких указаний и на то, чтобы он знавал слугу, подобного Савельичу. Всех этих лиц он создал по мимолетным наблюдениям и едва уловимым, здесь и тут схваченным, чертам. Кое-какие данные для создания Мироновых и других обитателей Белогорской крепости он мог подметить и собрать при объезде Оренбургских крепостей; тем не менее, и они были, прежде всего, художественными вымыслами, исполненными необыкновенной жизненности и поражающими гениальною способностью великого поэта угадывать людей и творить почти из ничего. Подобно тому, как Пушкин создал Пугачева и Рейнсдорпа, не имея под рукой никаких точно определенных данных для воспроизведения их нравственного облика, подобно тому, как он угадал этих людей своим гениальным художественным чутьем - также точно он угадал и создал всех других героев «Капитанской дочки», вместе с породившими их бытом и жизнью. Процесс творчества составлял его тайну, и никому, конечно, не удастся проследить его во всех подробностях. Дальше кое-каких догадок в этом случае некуда идти. Придя, на основании изучения памятников пугачевского бунта, к тому выводу, что Пугачев был, прежде всего, плут, казак прямой, Пушкин не мог не пользоваться теми наблюдениями и впечатлениями, которые он вынес из знакомства с казаками, и которые породили, между прочим, несколько стихотворений 1829 года («Был и я среди донцов», «Дон» и «Делибаш»); индивидуальные же черты Пугачева были угаданы поэтом по самым сбивчивым указаниям современников мятежа и по некоторым преданиям о нем. Очень может быть, что Савельич был задуман первоначально под обаянием Калеба Вальтер Скотта, но Савельич вышел у Пушкина не русским Калебом, а совершенно оригинальным типом слуги, который мог зародиться и сложиться только в России, среди условий русского быта второй половины ХVIII века. Столь же своеобразен Савельич и в психологическом отношении, как характер. Между Калебом и Савельичем так же мало общего, как между Санхо-Пансо и Сганарелем, слугой мольеровского Дон-Жуана. Нет сомнения, что при создании Рейнсдорпа, Пушкин имел в виду тех немцев, которых ему приходилось встречать на своем веку. Но основные черты характера Рейнсдорпа и весь его душевный склад и внешний облик были, все-таки плодом самостоятельного творчества, основанного на изучении служебных действий и распоряжений, оренбургского губернатора.
Умаляя значение своего громадного дарования, Гоголь писал в «Авторской исповеди»: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у, меня, верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всяким другим писателем потому, что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение, и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображению, которое может само творить и производить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь подметил мой взгляд в натуре». Гоголь был, конечно, не прав к самому себе, у него была несомненная способность творить самостоятельно, ибо он отнюдь не всегда был портретистом и создавал такие типы и характеры, которые имели очень мало общего с более или менее знакомыми ему людьми. Что же касается до Пушкина, то о его творчестве можно сказать совершенно обратное тому, что говорил Гоголь о себе. В «Капитанской дочке», как и во всех своих главных произведениях, Пушкин обнаружил изумительную способность «создавать в воображении» и угадывать действительность. Пушкин не только не копировал в «Капитанской дочке» действительности как фотограф, но и не создавал портретов. Поэт был в «Капитанской дочке» портретистом в строгом смысле слова лишь при воссоздании Екатерины II. Пушкин творил, говоря языком Гоголя, не только «вследствие соображения», сколько «вследствие воображения». Ему не нужно было большого запаса наблюдений, фактов и «документов человеческой жизни» для того, чтобы создавать образы, исполненные жизни и правдоподобия, а иногда при этом и духовной красоты. Он не стоял в зависимости от знания всех частностей действительной жизни: он постигал ее сущность художественным чутьем, озаряя жизнь и тайники души человеческой светом своего гения. Все главные герои и героини «Капитанской дочки» были прежде всего чудными грезами мощного воображения, устремленного к возсозданию пугачевского бунта, а также людей и нравов России семидесятых годов ХVIII века и тех типов и характеров, которые мы находим в романе.
__________
В «Капитанской дочке» более или менее отразилась вся, или почти вся Россия времен Екатерины II. Белинский уподоблял этот роман «Онегину» в прозе, ибо в «Онегине» поэт пытался изобразить всю Россию - времен императора Николая I. Но по широте размаха и полноте картин «Капитанская дочка» стоит несравненно выше «Евгения Онегина». В «Капитанской дочке» мы находим типы всех слоев русского общества и русского народа, чего никак нельзя сказать об «Евгении Онегине». Народ в «Евгении Онегине» почти совершенно отсутствует. Его представительницей является лишь Татьянина няня; о типах же, которые можно было бы противопоставить Пугачеву, Хлопуше, Белобородову, Савельичу, Палашке и Максимычу, в «Онегине» нет и помина. В нем нет также героев и героинь, бытовое значение которых было бы равносильно значению капитана Миронова, Ивана Игнатьича и Василисы Егоровны. Двор также не имеет в «Онегине» своих представителей, вследствие чего и в этом отношении преимущество оказывается на стороне «Капитанской дочки». Из иностранных выходцев «Евгений Онегин» нам дает лишь француза Трике, тогда как в «Капитанской дочке» мы имеем Бопре и Рейнсдорпа, то есть, и иностранца-учителя, и иностранца-администратора. Инородцев-кочевников, о которых «Капитанская дочка» дает весьма ясное понятие, совершенно нет в «Онегине». Но в нем едва ли можно найти много таких сторон русской жизни, которые не отразились в «Капитанской дочке». Семье Лариных можно противопоставить семью Гриневых, героям своего времени Онегину и Ленскому - тоже героев своего времени, Швабрина и Петра Андреича; Татьяне - Марью Ивановну. Вообще, «Капитанская дочка» гораздо содержательнее «Евгения Онегина», если их сравнивать с точки зрения живописи русского быта. Русская жизнь, русские типы и русские характеры отчетливее, полнее и разнообразнее отразились в «Капитанской дочке, чем в «Евгении Онегине». То же самое придется сказать и при сближении «Капитанской дочки» с «Мертвыми душами». Поэма Гоголя, несмотря на свой объемистый размер, кажется, сравнительно с «Капитанскою дочкой» односторонним и узким произведением, оставляющим в стороне целый ряд таких особенностей и явлений русской жизни, которые воспроизведены в «Капитанской дочке» с совершенною ясностью. Если бы какой-нибудь иностранец спросил: по какому из наших художественных произведений можно составить наиболее верное и полное представление о России, ему нельзя было бы указать ни на что, кроме «Капитанской дочки». Этим определяется ее значение, как исторического и бытового романа.
Это значение усиливается еще оттого, что в «Капитанской дочке» нет и тени чего-либо похожего на сатиру и прикрашиванье. Она принадлежит к гениальнейшим образцам чисто объективного творчества. В ней нет ни скорбного, горького смеха «Мертвых душ», ни веселой, легкой иронии «Евгения Онегина». Мягкий, светлый, добродушный, примиряющий, бодрый и меткий юмор «Капитанской дочки» не карикатурит и не опошляет людей и не делает из них исключительно комичных типов и характеров (исключительно комичных типов и характеров в «Капитанской дочке», по крайней мере, между главными героями и героинями, совсем нет). Юмор «Капитанской дочки» лишь оттеняет основные черты некоторых действующих лиц романа. Поэт пользовался юмором не для того, чтобы осмеять в обидном смысле его героев: его юмор вытекал из любовного отношения к ним, чуждого, однако, всякой сентиментальности и ходульности. Это чисто русский юмор, - юмор наших народных пословиц, исполненный здравого смысла, бодрого взгляда на жизнь, безпристрастного и в то же время доверчивого и снисходительного отношения к людям; это юмор П. А. Гринева, дожившего до глубокой старости и сумевшего сохранить, несмотря на все житейские невзгоды и разочарования, веру в лучшие заветы молодости. В этом юморе проявляется склонность и способность подмечать и воссоздавать смешные стороны жизни, но в нем нет ни жесткого, холодного отношения к человеческой природе, ни стремления стушевывать человеческие слабости и давать им искусственное освещение. Юмор «Капитанской дочки» придает некоторым из ее героев особенную привлекательность, раскрывая, путем комизма, все, что есть в них трогательного и благородного. Благодаря юмору поэта, Савельич, капитан Миронов, Василиса Егоровна, Иван Игнатьич и т. д. вызывают наше участие даже в тех сценах, которых нельзя вспомнить без улыбки, а такие сцены встречаются в «Капитанской дочке» чуть не на каждой странице. Пушкин доказал «Капитанскою дочкой», что он мог так же легко исторгать смех, как и слезы, и что у него были все задатки сделаться величайшим из юмористов. Как юморист, он может выдержать какое угодно сравнение. Что может быть комичнее таких сцен, как сцена подачи Савельичем Пугачеву прошения об уплате Гриневу стоимости его вещей, расхищенных «злодеями», или той сцены, в которой Василиса Егоровна творит суд и расправу над провинившимися обитателями крепости в качестве их командирши? Юмор «Капитанской дочки» - юмор высокой пробы и, притом вполне самоцветный. Одна из особенностей его состоит в его изяществе и тонкости. Иногда он бывает почти неуловим, а между тем и как бы совершенно скрывается от читателей. В виде примера, можно указать, хотя бы на объяснение Марьи Ивановны, почему она не согласилась выйти замуж за Швабрина. Это объяснение составляет единственное место, в котором главная героиня романа является, хотя и в пленительном, но все же несколько комичном освещении. Возвышенная и прекрасная природа Марии Ивановны, всегда углубленной в святое призвание жизни, не поддавалась юмористическому изображению. Юмористическому изображению не поддавалось и царственное величие Екатерины II. Пушкин не пользовался своим юмором и там, где он говорит о Швабрине, ибо видел в нем безусловно отталкивающее лицо и не хотел смягчить темных сторон его характера, чтобы не впасть в психологическую фальшь.
___________
Существует мнение, что в «Капитанской дочке» отразилась лишь будничная сторона русской жизни и русского быта, лишь серенькая, бедная действительность, лишь умеренное понимание и чувствование. Такого мнения держался, между прочим, Н. Н. Страхов. Нет ничего несправедливее этого взгляда. Отождествлять «Капитанскую дочку» с тем, что Пушкин называл «фламандской школы старым вздором», значить умалять до minimum’a ее колоссальное историко-литературное значение. Разве Марья Иванова, с ее возвышенным душевным строем и с ее возвышенными, истинно христианскими идеалами, - разве Марья Ивановна, насквозь проникнутая сиянием духовной красоты, имеет что-нибудь общее с «умеренным пониманием и чувствованием»? Можно ли говорить об «умеренном понимании и чувствовании», когда дело идет о таком характере, которым мог бы плениться даже художник, воспроизводящей столь исключительные эпохи высокого подъема человеческого духа, как первые века христианства, с их идеальными матерями и женами, подвижниками и подвижницами веры и правды? Разве капитан Миронов и Иван Игнатьич, всенародно обличающие Пугачева в самозванстве и безбоязненно приносящие свою жизнь на алтарь любви к царице и к родине, напоминают людей «умеренного чувствования и понимания»? Разве напоминают этих людей оба Гриневы, с их преданностью чести и долгу? Разве напоминает этих людей Савельич, с его беззаветною и трогательною любовью к своему молодому барину, к его родителям и невесте? А Пугачев и Хлопуша, эти представители богатырских сторон простого русского человека? Разве их удаль и мощную широкую натуру можно уложить в рамки «умеренного понимания и чувствования»? «Бедная действительность!» - Счастлива та страна, и богато одарен тот народ, который имел или имеет «бедную действительность» «Капитанской дочки». В этом романе воспроизведены, конечно, главным образом, лишь немногие закоулки русской земли, но в этих закоулках мы находим целую галерею лиц, поражающих своими доблестями, своею нравственною чистотой, своею нравственною выдержкой и крупными, исключительными размерами, крупным, исключительным размахом своей натуры. Пугачев и Хлопуша залиты кровью своих жертв, но вы не можете отказать этим людям в признании их хороших, благородных задатков, свидетельствующих о недюжинных характерах и выдающихся дарованиях. Пугачев и Хлопуша, конечно, разбойники, но это такие разбойники, которые, при иных условиях, могли бы сделаться замечательными историческими деятелями, память которых благословлялась бы в потомстве. Правда, и в «Капитанской дочке» есть представители «умеренного чувствования и понимания» и чисто комичные типы. К ним можно отнести Зурина, Акулину Панфиловну, Анну Власьевну, Бопре и т. д., но ведь они не играют большой роли в романе и выведены в нем лишь для того, чтобы рельефнее очертить героев и героинь совсем иной породы и иного закала. Та действительность «Капитанской дочки», которую Страхов называл бедною, исполнена драматизма, борьбы света и мрака и представляет изумительное, но в то же время и правдивое сочетание трагического и комического, грандиозного и мелкого, добра и зла. Общий уровень этой действительности, конечно, не отличается большою культурностью, но мы находим в нем чуть не все градации, соединявшие полуварварство восточной окраины России с просвещением и блеском XVIII века. Действующих лиц «Капитанской дочки» по их образованности можно расположить в последовательном порядке, на низшей ступени которого будет находиться изувеченный башкирец, а на высшей Екатерина II. Образованность прошлого столетия имеет в «Капитанской дочке» своих представителей в лице гениальной императрицы, Швабрина, Рейнсдорпа, молодого Гринева и т. д.
___________
Язык действующих лиц «Капитанской дочки» выше всякой похвалы. Каждое из них говорит своим особым языком, вполне соответствующим его характеру, образованию и общественному положению. Отрывочный, сжатый и суровый склад речи старика Гринева; многословные и тревожные тирады Савельича; пословицы, шутки и прибаутки Пугачева, его сказка и его беглые, как бы мельком бросаемые замечания, исполненные то силы, то юмора, то плутовства; короткие и не без труда сколачиваемые фразы совсем неречистого Ивана Кузмича; энергичные и словоохотливые разглагольствования Василисы Егоровны; книжные и невозмутимо-спокойные периоды Рейнсдорпа; саркастический и неискренний тон Швабрина, маскирующегося то напускною серьезностью, то мнимым добродушием и быстро переходящего от холодной вежливости к наглому цинизму; язык Марьи Ивановны, исполненный простоты и своеобразной прелести и т. д. и т. д., - все это по истине безподобно по жизненности и, если так можно выразиться, колоритности каждого слова. В «Капитанской дочке» нет двух действующих лиц, которые говорили бы одинаковым языком: у каждого есть свои оттенки, хотя Пушкин совсем не гонялся за этнографическою и иною безусловною точностью и, вообще, воздерживался от приемов прямолинейного реализма (так, например, Рейнсдорп говорит у него ломаным русским языком только в одной, первой сцене, в других сценах читатель должен сам дополнять своим воображением акцент генерала, но это ни мало не мешает цельности впечатления, и каждая фраза Рейнсдорпа и своим духом, и своим построением обличает в нем немца). Как хороши диалоги героев «Капитанской дочки», так хороша и их письменная речь. В стихотворении Петра Андреича так превосходно переданы особенности и дух поэтов ХVIII века, писавших раньше Державина, что лучшей, более художественной пародии, чем «Мысль любовну истребляя», нельзя себе даже и представить. Язык грозного послания Гринева-отца Савельичу; язык, которым написан ответ Савельича; письмо Марьи Ивановны Петру Андреичу; официальные бумаги Рейнсдорпа о появлении самозванца и об исчезновении Гринева из Оренбурга,- все это прекрасно обрисовывает и эпоху, и действующих лиц романа, бравшихся за перо. Даже коротенькая записка Зурина к обыгранному им Гриневу очень типична и не спроста вставлена в роман. Мы далеки от намерения указать и определить все оттенки языка действующих лиц «Капитанской дочки»: такая задача могла бы быть предметом отдельной и очень интересной статьи. Мы хотели только подчеркнуть, изумительную способность Пушкина к объективному творчеству, проявляемому, между прочим, и в языке его героев и героинь. Диалоги и переписка действующих лиц «Капитанской дочки» представляют по языку массу разнообразия и дают наглядное понятие, как говорили русские люди прошлого столетия, начиная с дворца и кончая разбойничьими притонами. В «Капитанской дочке» мы имеем целый ряд великолепных образцов разговорной и письменной речи прошлого столетия, представляющих постепенные переходы от простонародного говора к литературному языку, и к языку наиболее образованных слоев общества.
__________
Пушкин был не только великим поэтом, но и замечательным мыслителем. Это было отмечено еще Мицкевичем, который часто встречался с Пушкиным в конце двадцатых годов. В его некрологе Мицкевич писал:
«Пушкин удивлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума, обладал громадною памятью, верным суждением, изящнейшим вкусом. Когда он рассуждал о политике иностранной и внутренней, казалось, что говорит поседелый, деловой человек, питающийся ежедневно чтением парламентских прений... Речь его, в которой можно было заметить зародыши будущих его произведений, становилась более и более серьезною. Он любил разбирать великие, религиозные, общественные вопросы, само существование которых было, по-видимому, неизвестно его соотечественникам» (Сочинения В. Д. Спасовича, II, 265).
Это подтверждается, между прочим, и записками А.О. Смирновой. Сочинения, письма и рукописи Пушкина показывают, каким разнообразием и какою широтой отличались его умственные интересы, и с какою глубиной и дальновидностью он обсуждал те великие вопросы, о которых упоминает Мицкевич. Миросозерцание Пушкина вообще и, в частности, его взгляд на Россию и на ее минувшие судьбы отразились и в «Капитанской дочке». В «Капитанской дочке» сказалось то глубокое понимание русской истории, которое было свойственно Пушкину. Как известно, он не был ни западником, ни славянофилом и умел одновременно чтить память Петра Великого и любить допетровскую старину. Опередив свой век, Пушкин опередил и нашу историческую науку. «Капитанская дочка» свидетельствует, что он судил о нашем прошлом и о тех противоположных культурных стихиях, из борьбы которых оно слагалось, с ясностью, безпристрастием, и спокойствием истинного мыслителя, стоявшего выше всяких предубеждений. «Капитанская дочка» не только великое художественное произведение, но и великий памятник нашего национального самосознания. Той глубины и трезвости взгляда на русский народ и на русскую старину, которая сквозить между строк «Капитанской дочки», мы не найдем ни у одного из наших историков. Это значение «Капитанской дочки» прекрасно выяснено в книге недавно умершего даровитого критика Ю. II. Говорухи-Отрока - «Тургенев». Приводим из нее отрывок, посвященный «Капитанской дочке»:
«Петр стал между нами и древнею Русью. Он заслонил собой свет предания, мерцавший из глубины веков; он указал нам на иной свет, он привел нас и заставил поклониться европейским «святым чудесам», он показал нам путь, по которому мы пошли за обманчивыми, блуждающими огнями европейского прогресса - пошли за ними «толпой угрюмою и скоро позабытой»; он создал наших «скитальцев», он возрастил этот «тощий плод, до времени созрелый». Эти-то «скитальцы», ослепленные блеском лика Петра, покорились ему, в нем видели начало нашей истории, начало нашего самосознания. Ослепленные его ликом, они не умели различить черты этого лика; они не поняли, что если в нем наше будущее, то в нем же и наше прошедшее, что он, гигант, который, по выражению Пушкина, «один - целая всемирная история», все же только одно из звеньев в ходе нашего исторического развития, что и он своею личностью свидетельствует о величии, силе и красоте нашего прошедшего. Не поняли они Петра, который шел в Европу не как робкий ученик, не как варвар, благоговейно прислушивающийся к речам афинского софиста, а как исполин, могущественный и свободный, властною рукой бравший там все, что ему было нужно; не поняли они, что Петр из сближения с Европой вышел самим собой, крепким русским человеком, духовно связанным со своим народом.
Не поняли Петра и те, которые учились по хартиям и летописям сознательно любить Россию. Сквозь сияние его лика они сумели рассмотреть только черты грубые, бросавшиеся в глаза,- черты деспота, ломавшего все на пути. Они видели, что общество страдает тяжкою болезнью, они понимали, что эта болезнь есть болезнь прививки европейской цивилизации, - и, негодуя на болезнь, они перенесли свое негодование и на того, кто сделал прививку. Они отрицали Петра со всем его делом, они думали, что это дело надо было сделать иначе, они отрицали его во имя правды мертвых летописей и хартий. Но отрицать его было невозможно. Он стоял пред ними во весь свой исполинский рост. Он стоял пред ними в своих деяниях, он стоял пред ними уже в незыблемой красоте - в изображениях Пушкина. Нельзя было отрицать его, ибо он властвовал и над ними. И их он согнул своею мощною рукой, и их он заставил преклониться пред «святыми чудесами» Европы. От Петра некуда было уйти: везде, на всех путях их, он их преследовал, как Евгения в Медном Всаднике:
...............................
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный.
На звонко скачущем коне, -
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
Они хотели укрыться под сенью древней Руси, но он, все тот же исполин, преследовал их и там, заслоняя собой от них и эту древнюю Русь. Они, как герой поэмы Пушкина, были «оглушены шумом внутренней тревоги» - тревоги, произведенной в них Петром, а живой дух древней Руси, сохранившийся не в хартиях и летописях, а в преемственном предании, не давался им, чуждым этого предания.
Это было положение истинно трагическое.
Трагично было положение наших «скитальцев», любивших родину болезненною любовью, преклонявшихся пред Европой, но одинаково чуждых и своей родине, и Европе, бродивших по свету с опустошенною душой,- не менее трагично было и положение тех, которые хотели научиться любить свою родину. Там, в Европе, были «святые чудеса», пред которыми они преклонялись,-здесь, на родине, для них было тускло и темно в настоящем, а в прошедшем вставали лишь бледные призраки со страниц мертвых летописей и хартий. И только лик Петра, с «тайной в нем сокрытой», один возвышался надо всем, неотразимый и непонятный.
В Пушкине разрешился этот трагизм. Пушкин вышел из этого замкнутого круга еще тогда, когда только нарождались в нашем обществе и «скитальцы», и люди, хотевшие научиться сознательно любить Россию. Он просто ее любил, в его душе жило то преемственное предание, которое сделало для него ясным лик Петра, и под живым дуновением которого ожили для поэта бледные образы летописей и хартий, облеклись в плоть и кровь, засветились кротким светом той, своей особой красоты, которой никогда не знала Европа. Из самой глубины древней Руси глянул на нас образ летописца Пимена и озарил своим кротким светом целую полосу нашей истории. Этот свет не померкнет. Ни свет «святых чудес» Европы, ни ослепительный блеск лика Петрова не затмить его. Это свет особенный, не сливающийся ни с каким другим - свет вечный, немеркнущий.
Озаренная этим светом, стала ясна Пушкину наша прошлая жизнь. Он дал нам хронику семейства Гриневых, и мы почувствовали, что предание не прервалось деяниями Петра, что оно жило и живет в глубине жизни, в народной массе, постоянно просачиваясь оттуда и в другие слои. Мы почувствовали, что и старик Гринев, и его сын, и мать, и комендант Белогорской крепости, и кривой поручик Иван Игнатьич - что все это люди древней Руси,- Руси, озаренной кротким и вечным, не меркнущим светом лампады Пимена. Мы почувствовали, что это люди древней Руси, не смотря на их напудренные парики и французские шпаги. Мы почувствовали, что где-то притаилась заснувшая до времени, не умершая, а замершая, как бы завороженная волшебным словом древняя Русь, не дающая активного отпора новым веяниям, но хранящая себя, свой душевный склад, хранящая тот немеркнущий свет, которым она жила и двигалась»[1].
Дав нам это почувствовать, Пушкин оказал великую услугу развитию нашего национального и культурного самосознания. Изучение и усвоение того глубокого и трезвого взгляда на нашу старину, который лежит в основе «Капитанской дочки», может служить прекрасным противоядием против односторонних суждений о русской истории и скороспелых выводов об особенностях и характере русского народа. В речи профессора Ключевского, о которой мы упоминали в шестой главе, есть такое замечание: «Пушкин не мемуарист и не историк, но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристом он встречает художника. В этом значение Пушкина для нашей историографии, по крайней мере, главное и ближайшее значение». Но, во-первых, Пушкин был не только художник, но и историк, а, во-вторых, его значение для нашей историографии далеко не исчерпывается тем, на что указывает г. Ключевский. Нашей историографии еще долго придется учиться по «Капитанской дочке», как следует понимать и изображать нашу старину, не увлекаясь никакими предвзятыми мыслями и не поворачиваясь спиной ни к реформе Петра, ни к допетровской России, ни к западной Европе, ни к коренным началам русской жизни.
_______
В нашей критике установилось мнение, что «Капитанская дочка» написана в духе реальной школы, и что русский литературный реализм ведет именно от нее или, между прочим, от нее свое происхождение. Одни думают, что родоначальником нашего литературного реализма был Гоголь, и что Пушкин в «Капитанской дочке», собственно говоря, лишь примкнул к движению, которое было возбуждено автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода». Другие, напротив того, считают Пушкина, как прозаика, таким же самобытным и гениальным реалистом, как Гоголя, и даже ставят Пушкина в этом отношении выше Гоголя. Несмотря на это различие взглядов на историко-литературное значение пушкинской прозы, вообще, и «Капитанской дочки», в частности, никто, кажется, за исключением разве одного Гоголя, нимало не сомневался в том, что появление «Капитанской дочки» знаменовало собой переход Пушкина к чистейшему реализму.
Этот взгляд грешит односторонностью и основан на недоразумении. В «Капитанской дочке» Пушкин показал, как нужно изображать русский быт и русскую старину и, вообще, как нужно описывать действительность, но из этого вовсе не следует, что в «Капитанской дочке» нет и тени литературного идеализма. Она представляет соединение идеализма с реализмом, но такое соединение, в котором идеализм безусловно господствует над реализмом. В этом отношении «Капитанская дочка» напоминает собой величайшие создания всех времен и пародов, о которых можно сказать то жe самое, что сказал Гоголь об ее художественной правде, а он сказал, что «ее правда не только самая правда, но как бы выше ее», и что «так и быть должно, ибо поэт должен взять нас из нас и нас же возвратить нам в очищенном виде». Было бы величайшею ошибкой считать великого русского реалиста Гоголя только реалистом, ибо и в нем никогда не умирал и, даже скажем более того, всегда преобладал художник-идеалист. Считать же Пушкина, как автора «Капитанской дочки», прямолинейным реалистом и не замечать в ней господства идеализма значит совершенно не понимать характера лучшего прозаического произведения великого поэта.
И художественные приемы Пушкина, как автора «Капитанской дочки», и общий тон ее повествования, и его отношение к ее героям и героиням, а также и к описываемым в ней событиям - все это доказывает, что она насквозь проникнута идеализмом.
У реалиста на первом плане стоит точное воспроизведение действительности и, притом, голой действительности, со всеми ее мелочами и особенностями. Действительность - это пароль и лозунг каждого реалиста и его единственный кумир. Он описывает ее с таким же безстрастием, с каким описывает натуралист то или другое явление зоологического или ботанического царства. В глазах реалиста грязь и красота имеют одинаковое достоинство. Ему нужна только грубая правда, и для того, чтобы удовлетворить ей, он не пренебрегает никакими мелочами, касающимися психологии действующих лиц, их внешнего облика и всей окружающей их обстановки.
Ничего этого читатель не найдет в «Капитанской дочке». Изображая былую жизнь, Пушкин заботился не о том, чтобы воспроизвести ее со всею точностью, а о том, чтобы выпукло передать ее главные черты. Пушкин описывал не то, что было, а то, что могло бы быть. Он не преклонялся, перед действительностью: он заботился лишь о правдоподобии характеров, страстей и положений и о согласованиии их с духом времени и его нравами. Он не старался скрыть своего я и дал роману такое освещение, в котором это я сказалось весьма определенно, не нарушая формы мемуаров, приданной «Капитанской дочке». Он не терял из виду леса из-за деревьев и сосредоточил все свое внимание лишь на существенном. Все эти особенности «Капитанской дочки» сразу бросаются в глаза и вполне подтверждают нашу мысль, что «Капитанская дочка» принадлежит к созданиям литературного идеализма по преимуществу. Более подробный обзор всех только что перечисленных характерных черт «Капитанской дочки» еще более разъяснит нашу мысль.
Что если бы на тему, избранную в «Капитанской дочке» Пушкиным, стал писать роман какой-нибудь принципиальный реалист? Описывая пугачевщину, он отвел бы первое место ее ужасам; не щадя нервов читателя, он нарисовал бы целый ряд картин, которые приводили бы в содрогание самого невпечатлительного человека. Он разукрасил бы свое повествование потоками крови и приложил бы все усилия, чтобы сделать читателя как бы свидетелем тех зверств и насилий, которыми ознаменовались подвиги грозного самозванца и его сподвижников. Так именно и поступил автор «Пугачевцев» граф Салиас.
А Пушкин?
Пушкин поступил совершенно иначе. В «Капитанской дочке» нет и намека на безпощадное отношение к нервам читателя во имя грубо-правдивого изображения действительности. Пушкин не прикрашивал ее, не разбавлял ее сахарною водицей и ничего не утаил от нас; но он стремился к тому, чтобы раскрыть внутренний смысл описываемых событий и передать сущность, а не все мелочи той житейской драмы, которая воспроизводится в «Капитанской дочке». Он добивался того, чтобы мы могли окинуть общим взглядом, не теряясь в подробностях, всю ту картину мятежа, которую он нам показал. Он хотел и нас сделать причастниками своего поэтического созерцания, и потому устранил из «Капитанской дочки» все, что могло нарушить его н выдвинуть на первый план чисто внешние особенности эпохи. Гениально и вполне правдиво описывая пугачевщину, Пушкин не огорошивает вас стонами и криками ее жертв, дымом и копотью пожарищ, зрелищем разлагающихся трупов и т. д. Но он, повторяем, не прикрашивает действительности, а только возводит ее в перл создания, ни на минуту не забывая, что истинно-художественное произведение должно не отталкивать, а привлекать с непреодолимою силой.
Покажем на дву-трех примерах, каким образом Пушкин сумел объединить верность бытовой и исторической правде с идеализмом своего романа.
Описывая «жестокий век» пугачевщины, Пушкин не мог обойтись без таких мрачных картин, как картины пыток, казней и т. д., и Пушкин не прятал их от глаз читателя, но он никогда не упускал из виду, что эти картины важны не сами по себе, а лишь как иллюстрации того склада жизни и тех характеров, которые выводятся в «Капитанской дочке». Потому он останавливался на этих картинах лишь настолько, насколько это было нужно для его основной цели. Взять хотя бы, например, допрос башкирца, пойманного с возмутительными листами Пугачева. Весь этот допрос прекрасно обрисовывает старинный взгляд на пытку и выясняет, как и почему ее практиковали в ХVIII веке с чистою совестью даже такие добряки, как капитан Миронов. В сцене, о которой мы говорим, Пушкин дал в лице старого башкирца превосходное, изумительное по пластичности изображение изувеченной жертвы безпощадной Фемиды ХVIII века, а вместе с тем и приготовлений к кровавой расправе с одним из мятежных инородцев, отлично уживавшейся с буколическими нравами маленькой «фортеции». Но Пушкин не описывает подробностей и ужасов пытки: она отменяется комендантом, когда башкирец раскрывает рот с отрезанным языком, и когда капитан Миронов вследствие этого приходит к заключению, что от схваченного бунтовщика все равно ничего нельзя узнать. Тяжелое впечатление, производимое сценой допроса, сглаживается к тому же размышлениями Гринева о контрасте между кротким царствованием Александра I и суровыми нравами пугачевской эпохи, а также и появлением перепуганной Василисы Егоровны со страшною вестью о взятии Нижнеозерной крепости. Картина казни, как и картина, о которой мы только что упоминали, не бьет по нервам, хотя и оставляет неизгладимое впечатление. Она описана у Пушкина с такою живостью, которая не оставляет желать ничего лучшего. Но в этой сцене внимание читателя сосредоточивается не на физических страданиях несчастных жертв Пугачева, а на их нравственном величии. Их смерть поэтому прежде всего поражает своею духовною красотой, а виселица, на которой они погибают, внушает нам такое же чувство благоговения, как и Гриневу (мы разумеем ту чудную сцену из девятой главы, в которой Гринев, покидая Белогорскую крепость, кланяется виселице, на которой кончили жизнь капитан Миронов и Иван Игнатьич).
Какое раздолье для изображения зверских инстинктов и людей-зверей нашел бы в «Капитанской дочке» каждый реалист, который бы вздумал писать ее! Их нет в романе Пушкина. В нем преобладают положительные типы. Семья Мироновых, семья Гриневых, Савельич, Иван Игнатьич,- все они нам близки и дороги, ибо в них отражаются привлекательнейшие стороны человеческой природы вообще и русской натуры в частности, величавый и чуждый рисовки героизм, непоколебимое сознание долга, безкорыстная привязанность, истинно христианское смирение, нелицемерная доброта, искренняя религиозность, семейные добродетели и т. д. «Капитанская дочка» - это целая галерея лучших представителей русской земли и русского народа второй половины прошлого века. Она примиряет с жизнью и с людьми, если вы будете читать ее в минуты душевного разлада и уныния; она подействует на вас успокоительным образом, как действуют рассказы умных, благодушных и много испытавших стариков, сохраняющих до могилы и трезвость взгляда, и веру в идеал. Гений Пушкин разглядел даже в Пугачеве и Хлопуше привлекательные черты. Один Швабрин представляет безусловно отталкивающий характер; но Пушкин и у него нашел проблески благородства (мы намекаем на молчание Швабрина о Марье Ивановне в Следственной Комиссии). Из всего этого, однако, вовсе не следует, что автор «Капитанской дочки» смотрел на жизнь и людей сквозь розовые стекла. Он не подкрашивал правды, но он судил о ней не по внешности, а как глубокий мыслитель и великий поэт, видящий дальше и больше простых смертных. «Капитанская дочка» как бы говорит нам: «Отрешитесь от мимолетных впечатлений, от узкого эгоизма, от страстей и страстишек, снимите с глаз своих ту повязку, которую они на вас надели, всмотритесь внимательно и спокойно в то, что творится вокруг вас, и вы увидите Бога в истории, познаете сокровенный смысл всех так называемых случайностей и научитесь уважать и любить многих из тех, кого прежде считали достойными лишь ненависти и презрения». Оптимистическая точка зрения так и сквозить между строк «Капитанской дочки». Она вытекает из величавого, поэтического, спокойного и чисто русского миросозерцания Пушкина и его светлой, мягкой и любящей души. Описывая одну из самых мрачных эпох новейшей русской истории, Пушкин не боялся говорить правды, но он озарил ее сиянием своего поэтического гения и чуткого благородного сердца, и мы, благодаря великому писателю, разглядели во мраке пугачевщины то, чего не открыли бы нам никакие исторические розыскания, и что могли открыть только такие знатоки человеческой природы и такие гении, как Пушкин.
Бодрое, примиряющее настроение, которое выносится из чтения «Капитанской дочки», является, между прочим, следствием всего хода описываемых в ней событий, в причудливом сплетении которых чувствуется рука Провидения. Естественно и просто, без всяких натяжек и подтасовок, в силу необходимости в «Капитанской дочке» торжество и успех достаются на долю честных и добрых людей, а низость и злодейство попадают сами в раскинутые ими тенета. Это не значит, конечно, что у Пушкина награждается добродетель и наказывается порок по шаблону старых нравоучительных романов. Марья Ивановна достигает желанной пристани после долгих страданий и тяжких утрат. Капитан Миронов и Иван Игнатьич погибают на виселице; Василису Егоровну убивают пугачевцы. Но как прекрасна мученическая смерть старого коменданта и бедного поручика! Она сократила их жизнь, но увенчала ее ореолом духовной красоты. Тоже самое можно сказать и о смерти Василисы Егоровны, до конца оставшейся преданною женой своему мужу и всенародно обличавшею Пугачева в самозванстве. Когда старики Мироновы испускали последний вздох, они, конечно, не знали, какая участь ждет их единственную дочь. Они не оставили ей ни богатства, ни связей; они оставили ей только честное имя и были вознаграждены ее счастьем за свои последние страдальческие минуты. «Все минет, одна правда останется», говорит русская пословица, и ее можно было бы поставить эпиграфом к роману Пушкина на ряду с эпиграфом, который был избран поэтом: «береги честь с молоду».
Если бы автор «Капитанской дочки» был реалист, он посвятил бы добрую половину ее описанию казацкого быта, башкирских и киргизских нравов и всех чисто внешних особенностей эпохи и края. Он не поскупился бы также на описание наружности и костюмов всех действующих лиц. Иначе поступил Пушкин. В «Капитанской дочке» описательный элемент почти совсем отсутствует. Он вошел в гениальный роман как раз настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы воспроизвести дух века, характеры действующих лиц и тот фон, на котором писал поэт свою историческую картину. В «Капитанской дочке» описаний очень немного, и все они отличаются чрезвычайною сжатостью, но она через это ничего не теряет, благодаря необыкновенной меткости пушкинского языка, точности его эпитетов, а также благодаря и тому, что диалоги и действия героев и героинь Пушкина до такой степени вводят вас во все изгибы их сердца, что вы, по малейшим намекам поэта, и даже без всяких указаний с его стороны, можете живо представить себе и наружность, и все внешние особенности того или другого лица. Подтвердим несколькими, взятыми на выдержку, примерами все сказанное.
В «Капитанской дочке» ни единым словом не описывается наружность молодого Гринева, но у кого из нас, при его имени, не является в воображении образ статного, рослого юноши с смелым, открытым и добрым лицом, носящим отпечаток барского, привольного воспитания и свежих нерастраченных сил? Пушкин ничего не говорит о том, каков был с виду Савельич, но у художника, который вздумал бы написать его, вряд ли явились бы на этот счет какие-нибудь сомнения, ибо Савельича нельзя себе представить иначе, как худым, несколько сутуловатым и подвижным стариком, с длинным, плохо выбритым, благодушным лицом, которому постоянное безпокойство о «барском дитяти» и частое брюзжание придавало какой-то комично-угрюмый оттенок. Много ли сообщает Пушкин о наружности Пугачева? А между тем его Пугачев как живой стоит перед нами. То же самое можно сказать и о чете Мироновых, и о старых Гриневых, и о Швабрине, и о Марье Ивановне и о Хлопуше, и об Екатерине II, и обо всех других героях и героинях романа вплоть до Палашки и хозяина умета. Те немногие строки, которые Пушкин посвятил наружности действующих лиц своего романа, могут служить образцами того, как нужно описывать, не теряясь в мелочах, не раздробляя внимание читателя на частности и всецело сосредоточивая его на самых существенных особенностях внешнего облика того или другого лица,- на таких особенностях, в которых проявляется его душа. Вспомните хотя бы портрет Екатерины II из последней главы. «Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую»... «Все в неизвестной даме привлекало сердце и внушало доверенность... Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, и Марья Ивановна... испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному»... Трудно представить себе, что-нибудь прекраснее пластичнее и в то же время проще этих строк. Пушкин почти не описывает лица знаменитой императрицы, он говорит только о впечатлении, которое оно производило на окружающих; но он сумел передать это впечатление с такою жизненностью, что читателю кажется, будто он сам испытал его и видел когда-то Екатерину Великую. Более или менее подробно Пушкин говорит только о наружности Пугачева, но и ей «и уделил, в общей сложности, всего каких-нибудь десять-пятнадцать строк. Но эти немногие строки стоют чудного, законченного портрета, навеки запечатлевающегося в памяти. Нельзя не изумляться тому искусству, с которым Пушкин делает читателя очевидцем своих героев и героинь, почти ничего, а иногда и буквально ничего не говоря об их наружности.
Немного в «Капитанской дочке» и картин природы. Если их собрать все вместе, то едва ли выйдет одна, разгонисто напечатанная страница. А между тем эти немногие картины природы как нельзя лучше обрисовывают тот край, в котором происходит действие «Капитанской дочки» и, вообще, придают роману то, что называется у французов couleur local. Одна картина бурана чего стόит! Какая точность и выразительность в каждом слове! Эта картина представляет один из гениальнейших и никем непревзойденных образцов силы, сжатости и пластичности языка, соединенной с необычайною простотой. Для того чтобы понять всю прелесть этой картины, нужно сравнить ее с другими, подобными же картинами, например, с картинами вьюги в «Хозяине и работнике» и в «Мятели» графа Л.Н. Толстого или в «Буране» С.Т. Аксакова, и только при этом сравнении мы убедимся, с какою легкостью Пушкин достигал пятью-шестью строчками своих описаний того, чего не могли достигнуть другие, и притом очень даровитые писатели, написав целый очерк или рассказ. Такою же сжатостью и пластичностью языка, какою поражает Пушкин в описании бурана, отличаются и другие, бегло, но мастерски набросанные картины природы, изредка попадающиеся в «Капитанской дочке». То же самое можно сказать и обо всех других описаниях: об описаниях костюмов действующих лиц, об общей картине Белогорской крепости и о тех местах романа, где идет речь о внутреннем убранстве комендантского домика и пугачевского «дворца» в Берде, о петергофском саде императрицы Екатерины II и т. д. Все эти описания занимают по две-три строки, но образы, вызываемые ими, навсегда запечатлеваются в памяти. Как и чем достигал Пушкин этого изумительного уменья вызывать в воображении читателя одну картину за другой, будучи столь скупым на слова и тщательно отбрасывая в сторону все мелочи? Это тайна его гения,- одна из тех тайн искусства, которые он унес с собой в могилу.
О психологии «Капитанской дочки» и ее психологических приемах мы уже говорили. Заканчивая обзор главных особенностей ее стиля, напомним, что она от начала до конца, за исключением немногих эпизодов, составляет художественный вымысел, изумительный по своему правдоподобию. В «Капитанской дочке» нет исторических памятников, которые в таком изобилии встречаются в исторических романах не только третьестепенных, но и безспорно очень даровитых писателей. «Капитанская дочка» нигде не превращается в историческое повествование, перемешанное с беллетристикой: она от начала до конца представляет чисто художественное произведение, в котором нельзя найти следов черновой работы и подготовительных трудов поэта.
_________
Стиль «Капитанской дочки» составляет главное право ее на безсмертие.
<...>
«Капитанская дочка» вечно будет служить укором для тех романистов, которые распространяют и поддерживают «вкус к мелочам», к «изящным безделушкам» и к «суетным украшениям», и забывают, что задачи истинного художника заключаются в умении сказать в немногих словах многое и сочетать смелость и широту замысла с экономией слова и подробностей и с простотой описаний и повествования. Гоголь метко сказал, что, сравнительно с «Капитанскою дочкой», все наши повести и романы кажутся приторною размазней. Приторною размазней кажутся, в сравнении с «Капитанскою дочкой», и произведения многих знаменитых западноевропейских романистов. Даже романы Вальтер-Скотта (не говорим уже о романах Диккенса, Теккерея, Жорж Занда) поражают своею растянутостью и ненужным многословием, если сопоставить их с «Капитанскою дочкой», и в этом заключается ее всемирно-историческое значение и Пушкина, как ее творца. Он написал единственный в своем роде роман, - единственный по чувству меры, по законченности, по стилю и по изумительному мастерству обрисовывать типы и характеры в миниатюре и вести повествование, не вводя в него ни одного лишнего слова, ни одной лишней черты.
_____________