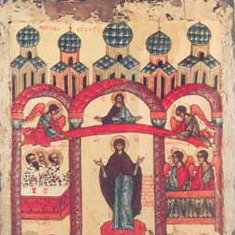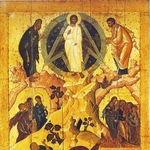Судьбы членов семьи св. Василия Великого (память 1/14 января, 30 января/12 февраля) - это живая история Церкви. Переход христианства от гонений первых веков к аскетическим традициям Византии символически отражается в них.
Судьбы членов семьи св. Василия Великого (память 1/14 января, 30 января/12 февраля) - это живая история Церкви. Переход христианства от гонений первых веков к аскетическим традициям Византии символически отражается в них.Дед и бабка св. Василия, прав. Макрина, в церковной традиции называемая Старшей (память 30 мая/12 июня), во время гонений скрывались с детьми в лесах Понтийской провинции. Сын их, Василий, после отмены преследований женился на девице Емилии (преподобная, память 1/14 января). Оба были счастливы вместе, имея общую веру и редкостное единодушие. Жизнеописатель говорит: "Чистая, глубокая вера, одинаково возвышенный ум и благородство чувств связали их... Они точно слились в одну душу в делах добра, которые стали главным делом их жизни".
У супругов, вместе с Василием Великим, родилось 9 детей: четыре сына и пять дочерей. Старшая, названная в честь бабки Макриной, имела удивительный нрав, соединявший в себе отцовскую твердость с материнскими трудолюбием и добротой. Для семьи она стала "ангелом дома". С благодарностью о годах, прошедших под влиянием старшей сестры, отзывались не только свт. Василий, но и его братья, свт. Григорий Нисский (память 10/23 января) и свт. Петр Севастийский (9/22 января).
Девушку многие сватали замуж. Однажды отец подобрал для нее хорошего жениха, и дело уже шло к свадьбе. Но неожиданно жених умер. Это событие сильно переменило Макрину. Когда ей опять предлагали замужество, девица отвечала: "Жених мой жив в надежде воскресения, и было бы нехорошо не сохранить ему верности".
Макрина сделалась строже и собранней. Во всей семье, в том числе в матери, ей удалось пробудить тягу к аскетическому труду над собой. Когда братья и сестры достигли совершеннолетия, Макрина убедила Емилию вместе идти в монастырь. Новую обитель они построили в Понте, на берегу реки Ириды, - в тех местах, где когда-то скрывались от гонений их предки. В общину, помимо обоих, вошли служанки и бедные церковные женщины, которые прежде питались их подаянием. Мать и дочь сделали их своими новыми сестрами и подругами. Обителью управляла Емилия, после ее кончины во главе встала Макрина.
Василий также пошел по монашескому пути. Несколько лет вместе с другом, будущим св. Григорием Богословом, он провел в пустыне близ Неокесарии. Оба с наслаждением вспоминали, как "роскошествовали в злостраданиях". В 364 г. Василий стал пресвитером, а после епископом на Кесарийской кафедре, отдавшись делам управления Церковью. Попечение о пастве и о церковном устройстве представлялись ему родом семейного попечения - благо, он с детства впитал образы христианского отношения к ближним. Всегда находясь в гуще забот, свт. Василий не забывал о родных, в частности, о монастыре старшей сестры. Близок к Василию и Макрине был и младший брат Петр, ставший епископом Севастии. Младшая сестра, праведная Феозевия, находилась при свт. Григории Нисском. Оставшись незамужней и приняв сан диакониссы, она посвятила себя помощи брату.
Все дети Емилии и Василия, не только принявшие иночество, но и оставшиеся в миру, достигли высот добродетели. В последующее время монашество приняли несколько внучек Емилии, начальствовавшие в Кесарийской обители. Григорий Богослов с восхищением отзывается об Емилии: "Она подарила миру столько и таких светильников, сыновей и дочерей, брачных и безбрачных; она счастлива и плодовита, как никто. Три славных священника, одна участница в тайнах священства, и прочие - лик небожителей. Изумляюсь тому, как богата семья Емилии! Благочестивая кровь - собственность Христа; таков корень! Вот награда твоему благочестию: слава сыновей твоих, с которыми у тебя одни желания".
В 379 г. Василий Великий умер. Григорий Нисский поехал к Макрине, чтобы свиданием облегчить общее горе. Но сестра сама уже лежала смертельно больной. Приветствовав брата, она рассказала о том, как молилась, чтобы в предсмертный час они были вместе. Затем они много говорили о родных: вспоминали покойную мать и отца, только что отошедшего брата Василия. "Она воспользовалась этим, - пишет свт. Григорий, - чтоб перейти к глубочайшему умилению духа и, вся просветленная, стала говорить с такой возвышенностью о таинственном смотрении Божием (выраженном в человеческом родстве - А. Р.), что душа моя, казалось, увлеклась за ее душой и, будто отрешаясь от тела и всех земных чувств, воспаряла в небо!"
Удивительно, каким близким и теплым является образ этой подвижницы. Строгая аскеза ее, совершаемая во имя Христа, ничуть не препятствует проявлению человеческих чувств. Напротив, до последних минут своей жизни Макрина будет продолжать вспоминать о годах, проведенных в родительском доме. Ибо это было для нее самым явным свидетельством благости Божией: "Она начала пересказывать нам с чувством трогательного умиления и благодарности все случаи и события своей жизни с самого детства и говорила с такой последовательностью, будто читала в книге. Подробно исчисляя все благодеяния, которыми Бог взыскал нашего отца, мать, все семейство, прекрасная душа ее славословила Господа за эти щедроты..."
Долгое время, по крайней мере, в последние три столетия, православный агиографический жанр оставался в пленении у консервативного, охранительного стереотипа. В изображении портретов и окружающих обстоятельств жизни христианских святых в соответствии с ним преобладали типические, как бы искусственно затушеванные палитра и линии. Не то представляет собой христианская письменность предыдущего времени, которая почти всегда вмещает в себя характеры, экспрессивный сюжет, мизансцену. Полны самых живых подробностей и эмоциональных нюансов автобиографические заметки Василия Великого и Григория Богослова, характеристики членов семей, глубоко человечные их эпитафии над телами почивших друзей и близких. К выдающимся образцам совершенной и подлинной драмы, если с таковой сравнивать лучшие античные произведения, может быть отнесено и житие преподобной Макрины.
Христианская агиография является продолжением и лучшим продолжением жанра древнегреческой трагедии и героического эпоса. Ибо античность любила героев, и только не знала, во имя чего ей приносить жертвы и что таит за собою пугающая грань смерти. Христианство разрешает обе казавшиеся непреодолимыми жанровые проблемы, освещает истинными смыслом и пафосом то и другое. История семейства Василия Великого становится наглядным свидетельством того, когда самое искреннее и теплое расположение к миру и ближним органически и без противоречий соединяется со вниманием к непреходящему, к вечности - к аскетическому подвигу и преданному служению всей Церкви. Как говорит об этом вселенский учитель и святитель Григорий Богослов: "Благочестивая кровь (род) является собственностью Христовой".