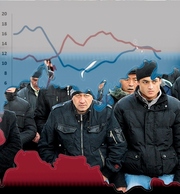В середине 1970-х гг. в журнале «Иностранная литература» была опубликована подборка рассказов итальянского писателя, может быть, Луиджи Малербы. В одном из них рассказывалось о редакторе издательства, обнаружившем в ящике стола рукопись, затерянную среди подобных претенденток на встречу с широким читателем. Титульный лист с именем автора и названием отсутствовал. Рукопись начиналась картиною улиц душного летнего города, с разрытыми мостовыми, громадными домами в строительных лесах, запахом краски и пылью.
Редактору показалось опрометчивым со стороны автора начинать роман с описания бессмысленных прогулок неловкого и, кажется, не вполне нормального парня по депрессивному городу. Странная рукопись откладывалась как явно не сулящая выгоды для издательства, но время от времени что-то побуждало редактора к ней возвращаться.
Через несколько страниц читатель догадывается, что редактору попалась распечатка «Преступления и наказания» Достоевского, непонятно как оказавшаяся среди рукописей молодых авторов.
Мишель Фуко в книге «Слова и вещи» подробно описывает живописную картину. Любопытный анализ пространственного решения интерьера, автор фокусирует внимание читателя на ловком использовании зеркала, отчего создаётся впечатление взгляда, направленного из глубины картины на зрителя. Множество подобных замечаний увлекают, но ещё долго читатель остаётся в неведении, о какой картине речь. Так же, как в рассказе с «рукописью начинающего автора», неопознанным «Преступлением и наказанием», читателю предлагается по каким-то деталям собрать «пазл», чтобы понять, что Фуко рассказывает о картине «Менины», Веласкеса.
С экранизацией литературных произведений происходит нечто похожее. Зритель с первых минут фильма сталкивается с неожиданной светотеневой средой, вовлекается в неё умышленным ритмом кадров, изощрённым звуком, идущим контрапунктом к изображению. К тому времени, когда для зрителя становится ясно, кто есть кто, когда калька литературного образа так или иначе накладывается на образ экранный, он уже внимает действию согласно аудио-визуальному камертону, заданному создателями фильма. Это происходит независимо, согласен он или нет с результатом экранизации литературного памятника.
Экранизация во многом похожа на перевод поэзии с одного языка на другой: безусловно, что-то остаётся от оригинала, но по большому счёту появляется нечто новое уже в силу иной природы языка. Сценарий фильма на основе литературного произведения схож с оперным либретто на том же материале. В операх Чайковского «Евгений Онегин» или «Пиковая дама» оставлена лишь определённая канва историй, изложенных А.С. Пушкиным. Восполняет то многое, что не использовано либреттистом − музыка, голоса певцов, освещение и декорации; всем этим как бы проявляется и нечто скрытое меж строк оригинала.
Кажется, об экранизации историй во всём их разнообразии человек мечтал всегда: «Ни в сказке сказать, ни пером описать», «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» − это, конечно, о том.
Ряд фигур, последовательно размещённых в египетских фресках, этих «движущихся фотографиях», условно говоря, открыл возможность «кинематографичного», невербального восприятия и визуального сообщения самого разного характера. Древние греки, поместив изображение в рамку, соединили героя, место и время, по сути, предложив идею экрана, изображения, подчёркнуто выделенного. Широкое применение прямой перспективы в картинах художников Ренессанса открыло новые возможности для передачи движения в изобразительности. Объект получил возможность «удаляться и приближаться», а картинная плоскость воспринималась чем-то прозрачным.
О потенциалах движения в кино можно говорить, имея в виду полюса: четырнадцать камер Лени Рифеншталь, ловящие немыслимые ракурсы прыгающих – летающих! − атлетов, и – часто неподвижную и единственную − «театральную» − камеру Ингмара Бергмана. Не прибавить ли сюда разве что оптику, линзы, шлифованием которых в своё время занимался философ Бенедикт Спиноза? Увеличение – вспомним «Blow up» Антониони – расширяет или, наоборот, концентрирует мысль, и главное, каких бы высот или глубин человеческой души мысль ни касалась, пре-увеличение даёт ей огранку − красоту.
О кинематографичности романов Достоевского сказано много и обстоятельно. «Кинематографический элемент творчества Достоевского является одним из факторов, способствовавших его экранизируемости», делает вывод Роман Круглов в диссертации «Художественный мир Ф. М. Достоевского на киноэкране: проблема интерпретации» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.
Киноискусство обращается к наследию писателя уже в начале ХХ века. Ещё раньше разными исследователями было отмечено родство прозы Достоевского с драматургией и трагедией. Кроме того, писатель через образы героев выводит на страницы романов идеи, занимающие человечество от века («Либо жизнь есть ложь, либо она вечна». А. Камю. «Кириллов»). Он исследует эти идеи не умозрительно, а в совокупности человеческих воплощений. Недаром Ницше, Розанов, Фрейд и многие другие личности, занимающиеся исследованием мыслимых и немыслимых движений человеческой души, проявляли и проявляют повышенный интерес к романам Достоевского.
Осуществлённые попытки средствами кинематографа «вызвать к жизни» героя Достоевского − человека-идею – свидетельствуют о колоссальных возможностях, заложенных в этом виде синтетического изобразительного искусства. На мой взгляд, наибольшего эффекта соответствия и открытия новых смысловых граней и эмоциональных нюансов в переложении языка литературы на язык кинематографа в случае с Достоевским можно достигнуть не в буквальном следовании событийному ряду, а заострив внимание на какой-то одной части в полифонии романа, избранного к экранизации. Выдвинув это предположение, приведу противоположное мнение Р. Круглова.
«Выключение отдельных сюжетных линий, сцен, диалогов, описаний, мыслей героев, приводит к потере смыслового полифонизма и обедняет символический план повествования, – это является следствием локальности поставленной творческой задачи и (или) недостаточного понимания кинематографистами художественного мира произведения. В большинстве экранизаций упрощение образов героев и послужившего отправной точкой для экранизации сюжета приводит к тому, что художественный мир Достоевского предстает плоским по сравнению с творческим наследием писателя». («Художественный мир Ф. М. Достоевского на киноэкране: проблема интерпретации». С. 160)
Совершенно обоснованный вывод. Нельзя не согласиться, что смысловую полифонию и символический план повествования в полном авторском объёме воплотить средствами кино попросту нереально. Кино и не может «высказать всё сразу», превращая одну плоскость – страницу романа – в иную – экран, по определению не пересекающиеся. Оно совершенствуется более в техническом плане (стерео, 3-D, имитации реального звукового пространства и т.п. эффекты), нежели стремится к слиянию с литературой.
Как ни странно, в искусстве вообще локальная задача не всегда является следствием недостаточного понимания художественного мира произведения, используемого как исходный материал для нового. Если опираться на примеры удачно поставленных и блестяще решённых локальных задач, − а о других и говорить нечего, − то возникают: «Кармен-сюита» Р. Щедрина, «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, «Шопениана» − балет Михаила Фокина, поставленный на фортепианные произведения Фредерика Шопена, оркестрованные А. К. Глазуновым и М. Келлером, затем С. И. Танеевым, А. К. Лядовым, Н. Н. Черепниным и Гершвином.
Да, в основе данных жанровых «переводов» не было литературы, и, тем не менее, сравнение мне не кажется некорректным. На сайте «Наше старое радио» можно послушать актёров, совершенно по-разному читающих одного и того же классика. Точное следование тексту нисколько не сковывает чтеца, позволяя ему даже невольно создавать «новое прочтение» того же Достоевского, акцентировать или микшировать какую-то авторскую идею.
Европейский опыт локального переложения литературы на язык изображения многовековой. Вспомним картины итальянского и северного Ренессанса, красочное переложение Священного Писания. Тот же источник в основе имели Византийская и древнерусская иконопись. Но какая колоссальная разница между этими двумя формами религиозной живописи! Мы не говорим, какой метод лучше, мы различаем два угла зрения на одно явление, каждый из которых самоценен. «Богословием в красках» назвал С. Трубецкой русскую икону. С некоторой натяжкой можно сказать, что она включала в себя «кинопись» − переложение сюжетных линий Писания в ряд клейм подчас выглядят «кадрами фильма». Мазаччо в картинной плоскости раннего Возрождения совмещал, как минимум три разновременных евангельских эпизода, идя по пути «коллажа». Чисто визуальный отзвук этого приёма до сих пор обнаруживается в фильмах, например, Тарантино и других режиссёров, соединяющих в одной ленте несколько новелл.
Были и кинематографические решения локальных задач в сфере экранизации литературы. К примеру, в поставленном Томом Стоппардом фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», нет расхождений с пьесой Шекспира «Гамлет», персонажи говорят стихами трагедии. Однако сюжет следует за данными героями, не за Гамлетом. Фильм заостряет вопрос объективной закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и общества, с одной стороны, и свободы воли, с другой. Его пытается разрешить готовый умереть на виселице Гильденстерн: «…должно быть, был момент, тогда, в самом начале, когда мы могли сказать − нет. Но мы как-то его упустили…» Да, это не экранизация «Гамлета» в чистом виде, но всё же интерпретация шекспировской трагедии, не выходящая из «мира “Гамлета”».
Кинематограф находится в развитии, как, собственно, всё искусство. Художник ставит себе порой невыполнимые задачи, терпит поражение, но именно в тот момент вдруг обнаруживается, что он совершил некий технологический, эмоциональный, выразительный прорыв в своём жанре.
Прекрасно, что к великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому не ослабевает внимание кинематографистов. Лично мне интересно было бы увидеть режиссёрскую попытку именно локального прочтения Достоевского. Допустим, может ли экран не иллюстративно воплотить князя Мышкина, «живущего на неуловимой границе улыбки и безучастности» (А. Камю «Кириллов»)?
Добиться этого крайне сложно, кино с лёгкостью отдаёт предпочтение жестам, не всегда утруждаясь поисками форм для передачи идей, а Достоевский писатель идей. Причём, не бесспорных. Хотелось бы знать, возможен ли простор на «плоском» экране для творческого возражения идеям, пусть и гениально поданным на страницах книг, но однако же отчасти умозрительным?
Почему бы не присмотреться внимательней хотя бы к спекулятивной идее о не искупаемой «слезинке ребёнка», до сих пор нам внушаемой? Она гипнотизирует сентиментальной ложью. Она так действует на людей чувствительных, в первую очередь, что они оставляют без внимания: провозглашает сомнительную идею подозрительный субъект, для которого человек – «дикое и злое животное», который говорит: «Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних». Такие идеи поистине зомбируют повышено отзывчивых, делая из них готовых «борцов за всё хорошее против всего плохого».
Возражения пресловутой «слезинке» и «великому инквизитору» не надо искать на стороне, они в самом Достоевском. Потребуются усилия для успешного поиска. Возможно, кинематографистам пригодится пример редактора из итальянского рассказа, невольно читавшего Достоевского в виде безымянной рукописи? Или Фуко, знакомящего нас со знакомым-незнакомцем.
Александр Васильевич Медведев, член Союза писателей России, член Санкт-Петербургского Союза художников России




















.jpg)