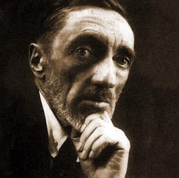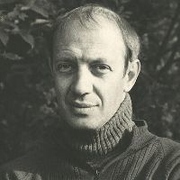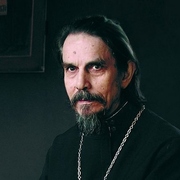Недавно отмечавшийся в России юбилей балканского маэстро может послужить отличным поводом рассмотреть его небольшую фильмографию, включающую в себя лишь одиннадцать полнометражных картин, все из которых заслуживают внимания зрителей и критиков. Однако первые две его ленты, снятые для телевидения, представляют собой достаточно безрадостное зрелище, демонстрируя, что к жизнелюбию как основе художественного мировоззрения Эмир Кустурица пришел не сразу. В частности, его первый телефильм «Невесты приходят» кажется подчеркиванием не очень удачной преемственности тогда еще совсем молодого постановщика так называемой югославской «черной волне» (кинолентам Жилника, Макавеева, Павловича, Петровича), то есть работам, рассматривающим жизнь с пессимистических и мизантропических позиций. Так получилось, что, критикуя «реальный социализм», режиссеры этого направления так или иначе приходили порой разными путями к антигуманизму.

Фильм «Невесты приходят» идет чуть больше часа, но за это небольшое время зритель успевает заскучать, устать и даже озлобиться, а ведь перед нами – всего лишь история жителей небольшой деревни (как мы видим, уже здесь Кустурица предпочитает делать местом действия своих лент сельскую местность, а не город), держащих скромное кафе. Однако здесь находится место и бытовому насилию (и физическому, и психическому), и жестокости сильных в отношении к слабым, и унижениям бесправных женщин, и многим иным безрадостным обстоятельствам жизни в глуши. Два родных брата, живущих с матерью, не могут найти общий язык, сама же мать, родившая сыновей от разных мужчин, депрессивно полагает, что ее жизнь кончена. Мрачное впечатление от картины немного скрашивает хорошая музыка, в том числе и популярная, а также эпизодическое участие на съемках животных (котенка, коров) – постоянных героев кинематографа Кустурицы.
Порой, используя чрезвычайно подвижную камеру, необычные ракурсы и в целом убедительную игру исполнителей, которым нечего играть (столь бедна событиями эта картина), постановщику все же удается даже за такое короткое время рассказать внятную историю, пусть и опутанную штампами «черной волны» (особенно жутким мне показалось коллективное надругательство над женщиной в финале, снятое, правда, без пошлости и смакования). В целом нельзя не отметить безусловную концептуальную вторичность и эстетическую несамостоятельность полнометражного дебюта Кустурицы, свойственные также и его второй ленте «Кафе “Титаник”», также снятой для телевидения. Жизнелюбие мастера, помноженное на влияние Тарковского и Феллини, еще не завладело им в полной мере, это будет лишь спустя несколько лет, о чем свидетельствует фестивальный успех «Помнишь ли, Долли Белл?» и «Папы в командировке» (заметив такую художественно плодотворную витальность, критики не смогли ее проигнорировать, наградив обе картины в Канне).

Второй телефильм Эмира Кустурицы снят с большим профессионализмом, чем «Невесты приходят»: быть может, причина в серьезной литературной основе (рассказ Иво Андрича) или в разветвленной системе лейтмотивов и символов, жестком антагонизме главных персонажей. «Кафе “Титаник”» всего за один час экранного времени предлагает нам воспринять трагическую историю встречи молодого хорватского усташа и бедного еврея, содержащего никому не нужную забегаловку. При этом перед нами также – погружение в прошлое обоих героев с раскрытием всех обстоятельств и мотивов, приведших к этой встрече. Линия молодого хорвата, ставшего нацистом и антисемитом из-за комплексов, рожденных в нем несчастливой жизнью, – достаточно емкое исследование причин, по которым становятся фашистами. Неудачники и маргиналы, не реализовавшиеся в жизни по разным причинам, часто мечтают лишь об одном – о реванше над своими обидчиками и рады, когда появляется возможность отомстить даже не тем, кто их унижал, а просто случайным людям, подвернувшимся под горячую руку.
Линия же бедного еврея, тихо и с юмором управляющего своим злосчастным кафе, – мост к витальным деталям последующих фильмов Кустурицы. Для тех зрителей, кто может из-за короткого метража не понять некоторые мотивы поступков персонажей, есть закадровый комментарий, разжевывающий все, чего зрители не видят. По некоторым сюжетным и стилевым признакам рассказ Андрича напоминает великую новеллу Куприна «Гамбринус» – один из лучших образцов русской малой прозы ХХ века (там тоже был еврей, правда, скрипач, кафе и антисемитизм как фон истории). Второй фильм Кустурицы еще достаточно мрачен в сравнении с его последующими фильмами, однако лишен мизантропии, депрессии и пессимизма ленты «Невесты приходят». Оказывается, что югославский постановщик задолго до «Андеграунда» затронул здесь тему Второй мировой и связанных с ней экзистенциальных искушений, сопровождающих человека в пограничных ситуациях. Здесь он показывает себя учеником Александра Петровича и его замечательной картины «Три», выламывающейся своим гуманизмом из киноконтекста «черной волны».
«Кафе “Титаник”» – почти короткометражка, всего час экранного времени, однако как много мы узнаем о героях этой ленты, даже эпизодических! Удивительно, что всего за год, прошедший с постановки «Невест…», Кустурица так вырос в режиссерском плане. Ведь эта мрачная и частично витальная история стала необходимым этапом на его пути поиска себя как художника, поиска своего стиля и манеры рассказывать истории. Порой не верится, что это работа для телевидения, столь она продуманно, взвешенно и точно раскрывает перед нами мотивы человеческих поступков. Можно даже рискнуть сказать, что в дальнейшем Кустурице не всегда удавалось избежать избыточности повествования, не хватало лаконичности в экспозиции сюжета и использовании символических деталей (порой витализм надо сдерживать, чтобы в итоге атмосфера не поглотила нарратив). В этом смысле «Кафе “Титаник”» лишен этих шероховатостей и недостатков.
«Помнишь ли, Долли Белл?» – первый фильм Кустурицы, снятый для кинотеатров, опять же не без помощи сараевского телевидения, и получивший «Золотого льва» за дебют в Венеции. Здесь режиссер наконец-то нашел себя, обретя вдохновение в «Амаркорде» Феллини: вновь, как и у итальянского мэтра, мы видим мир детства со всеми свойственными подростковому возрасту искушениями, надеждами и разочарованиями, карнавальную стихию в презентации идеологии и власти, и, конечно же, непередаваемое трагикомическое настроение. Поместив действие фильма в социалистическую Боснию, постановщик без озлобления подтрунивает над вмешательством властей в личную жизнь человека, показывая заидеологизированность сознания старшего поколения и завороженность парапсихологией у младшего. Нищая боснийская провинция (а, может, так выглядело Сараево в описанный период?) служит прекрасным фоном для детских воспоминаний.

Здесь отец проводит партийные заседания у себя дома, братья не могут что-то поделить между собой, потому открыто враждуют, а первая подростковая любовь долгое время остается платонической (здесь есть даже проститутка, сутенер и обнаженное женское тело, но это не провоцирует у зрителя греховных желаний). Как и Феллини в «Амаркорде», в своем дебюте Кустурица хочет показать жизнь во всем многообразии ее оттенков, признаться ей в любви, в чем-то даже принять позицию вне морали, когда именно фарисейство и лицемерие выглядит большим злом, чем телесные немощи подростков. Несколько раз звучащая в кадре заводная песня Челентано призвана не только обнаружить преемственность с итальянской кинотрадицией, но и дать задорное настроение всей картине. Однако «Помнишь ли, Долли Белл?» – не столько комедия, сколько драма в иронических тонах (конечно, не такая трагичная, как лента «Папа в командировке», затрагивающая тему репрессий).
Кустурице удается выразить то, что Сергей Довлатов назвал «даром органического беззлобия»: никого не осудив, иронически посмотреть на своих персонажей. Здесь есть и сюжетная линия, пришедшая из «Невест…», связанная с унижением женщины, и вторжение смерти в идиллический распорядок детской жизни, и нелепость идеологических формул и лозунгов. Впервые в своем творчестве югославский режиссер пытается создать пьянящий витальностью коктейль из противоречащих друг другу эмоций, что у него прекрасно в итоге получается. Когда же он снимает чистую комедию, пусть и искрометную, как «Черная кошка, белый кот», то значительно обедняет тем свое восприятие жизни.

Порой «Помнишь ли, Долли Белл?», где подростки курят, пьют, дерутся и буквально задыхаются от зова плоти, кажется проверкой зрителей на ханжество и ходячую мораль, но тем не менее все эти молодежные искушения сочетаются здесь с колоссальным жизнелюбием и драйвом, так что язык не повернется осудить витальную мощь как самой картины, так и мировоззрения режиссера. Здесь, как и в большинстве фильмов Кустурицы, нет ни слова о Боге и религии (что обозначится лишь в его последних двух лентах), но при этом именно здесь жизнелюбие берет верх над мраком и депрессивностью, то есть над духовной смертью.
Ранний кинематограф Кустурицы, почти языческий в своем понимании человеческих инстинктов, тем не менее начисто лишен прославления жестокости и насилия, хотя это было гипотетически возможно, учитывая огромное влияние, которое оказала на Кустурицу югославская «черная волна» (да и, к примеру, вспомним творческий путь Пазолини, который вслед за витальной «Трилогией жизни» пришел к оправданию садизма в своем последнем фильме). Однако «Помнишь ли, Долли Белл?» и в еще большей степени «Папа в командировке» и «Время цыган» представляют собой сплав трагедии и комедии именно с целью оправдать жизнь и заразить зрителя любовью к ней.
При всем наличии во втором кинофильме Кустурицы художественных примет его стиля и мировоззрения, «Папа в командировке» – достаточно драматичное кино, именно за такие фильмы режиссеру и нужно было присвоить награду как защитнику традиционных ценностей (что в итоге в этом году, как мы знаем, и произошло). Здесь меньше витальности, зато больше пронзительности, чем в «Помнишь ли, Долли Белл?», так что в некоторых сценах зритель буквально улыбается сквозь слезы. Приз в Канне за «Папу в командировке» Кустурица получил от Милоша Формана, в тот год председателя жюри, и действительно, в своем втором кинофильме постановщик демонстрирует связь не только со вселенной Феллини, но и с традицией чехословацкого кино (сам Кустурица учился режиссуре именно в Чехословакии, что важно), то есть с ранними фильмами самого Формана, а также Хитиловой, и особенно Менцеля.

Уже лента «Помнишь ли, Долли Белл?» чем-то напоминала менцелевские «Поезда под пристальным наблюдением», а «Папа в командировке» – его же «Праздник подснежников» и «Жаворонки на нитях» (однако последняя картина пролежала «на полке» двадцать лет, потому Кустурица вряд ли мог ее видеть). В то же время второй кинофильм балканского мастера еще не забронзовел в атмосфере всеобщего праздника, когда настроение поглотило собой сюжет (что случилось с «Заветом» и «По млечному пути»). Эстетика Кустурицы пока весьма разнообразна и вмещает в себя не только карнавальное веселье, но и грусть, тоску, печаль. Впервые в киновселенной маэстро появляется Мики Манойлович – частый гость в его зрелых фильмах, своего рода эмблема его витального мировоззрения. В «Папе в командировке» он играет отца-бабника, попавшего под каток титовских репрессий, отсюда и драматизм истории.
В то же время повествование ведется от лица шестилетнего ребенка, который присутствует при довольно спорных, смелых сценах, однако у Кустурицы они не несут на себе печати откровенного эротизма, чем грешат многие работы Феллини, они не направлены на разжигание похоти у героев и тем более у зрителей. Постановщик «Папы в командировке» просто хочет выразить двусмысленную противоречивость жизни, не умещающейся в рамки ходячей морали. Герой Манойловича при всех его недостатках любим детьми и женой, а семейные ссоры и даже драки быстро забываются его домашними и им самим. Еще пока не погружая зрителя в откровенно фантазийный нарратив, как это будет во «Времени цыган» и «Аризонской мечте», Кустурица разбавляет сугубый реализм лирическими тонами, именно они вызывают в зрителя улыбку сквозь слезы.
В «Папе в командировке» мастер противопоставляет вечные ценности семьи коммунистической идеологии, мешающей им существовать, а порой и откровенно разрушающей родственные связи (так, мне думается, для понимания замысла постановщика очень важна фигура шурина – безжалостного функционера, в котором, однако, все же пробуждается совесть). Есть мнение, что ни один актер не может переиграть ребенка или животное – столь те органичны и естественны в кадре. Для Кустурицы дети и животные – постоянные герои и участники съемок, часто у него это наиболее последовательные проводники витальности и жизнелюбия, иногда поставленные в патовые ситуации (вспомним котенка из «Невесты приходят»). Балканский режиссер очень хорошо чувствует кадр, понимая, что оживить его способна только музыка и поэзия.
«Папа в командировке» потрясает не в последнюю очередь благодаря чудесной вальсовой мелодии, написанной Зораном Симяновичем (как и большинство других музыкальных мотивов у Кустурицы в течение фильма он неоднократно повторяется, служа акустическим рефреном для выражения авторского замысла). Говорят, что полюбить жизнь просто, если все в ней хорошо: постановщик «Папы в командировке» проводит героев и зрителей через испытания во имя именно принятия жизни, возрастания любви к ней, именно поэтому второй кинофильм и посвящен детству, как самому чистому и незамутненному взрослым пессимизмом периоду восприятия мира и жизни. Дети здесь радуются новому футбольному мячу, как откровению, а маленький герой в припадках лунатизма забирается в опасные места, чтобы быть спасенным из них взрослыми, которые тоже здесь просты как дети. Так, получая за «Папу в командировке» приз от Формана, Кустурица принимает эстафету от одного из воплощений жизнелюбивого кинематографа за ту детскую и невинную веру в мир и людей, которая в цинично-постмодернистские 1980-е, казалось, была окончательно утрачена.

Именно с полной версии «Времени цыган» двадцать лет назад началось мое знакомство с кинематографом Эмира Кустурицы. Эта версия, смонтированная специально для югославского телевидения, идет вдвое дольше кинопрокатной (четыре с половиной часа против двух с половиной), и именно ее стоит смотреть, чтобы составить представление о масштабности замысла постановщика, снявшего не только этнографическую картину, но и впервые в своей фильмографии нечто в духе «магического реализма» Габриэля Гарсиа Маркеса. Первые две части «Времени цыган» могут показаться вводными, некой затяжной экспозицией, полной площадного юмора и витальных зарисовок из жизни боснийских цыган, глубоким погружением в недра менталитета этого народа. Зато в третьей части постановщик окунает нас в динамичное действие, раскрывающее не самые благовидные стороны жизни социальной верхушки цыганского народа, наживающейся на нищете низов.
Кто-то из зрителей заметил, что Кустурице всегда важно запечатлеть неблагополучное существование отщепенцев, маргиналов, которое, несмотря на все бедствия и невзгоды, исполнено жизнелюбия и радости бытия. Кустурица – один из самых жизнестойких режиссеров всех времен: даже самые драматические эпизоды в его кино никогда не дают повода к пессимизму и депрессивности. «Время цыган» – не исключение, хотя в третьей части и далее постановщик раскрывает перед нами весьма драматичные сюжетные коллизии. Также впервые именно в этом фильме в кинематографе Кустурицы берет начало тема криминала (или понимаемого весьма широко нечестного существования). Главный герой «Времени цыган», парень Перхан, никак не хочет идти на сделку с совестью, из-за чего терпит лишения и преследования от более ушлых и нечестных представителей своего народа.
При просмотре этой почти пятичасовой ленты у зрителя не раз возникает искушение квалифицировать виденное как поэтизацию, романтизацию полукриминального бытия цыганского народа, однако это в корне неверно. Игроки, выпивохи, даже сутенеры и проститутки, проходящие перед нашими глазами, вовсе не идеализируются режиссером: атмосфера нищего цыганского поселка и мытарства честных людей, еле сводящих концы с концами, в отличие от успешных цыганских бандитов, нужны Кустурице не для социальной, а для нравственной критики образа жизни целого народа (как выразительны причитания, выливающиеся в полноценные монологи цыган и цыганок, сетующих не свою судьбу). Лукавство и хитрость цыган станут материалом еще для одной известной картины Кустурицы «Черная кошка, белый кот» – кинопроизведения куда более бедного, как в стилевом, так и в идейном плане, чем «Время цыган».

Работая впервые с выдающимся югославским композитором Гораном Бреговичем, режиссер создает пронзительные по аудиовизуальной гармонической шедевральности эпизоды: во второй серии это народный праздник и сон Перхана – явные цитаты из «Андрея Рублева» Тарковского. В первых трех сериях «Времени цыган» Кустурице важен не только народный колорит и манящая зрителя витальная атмосфера, но и моральное послание: тот, кто хочет прожить честно, часто вынужден стать парией не только в социуме, но и среди представителей своей нации. В заключительных сериях фильм обнаруживает еще два кинематографических следа – «Крестный отец» Копполы и «Скупщики перьев» Петровича, и если второй очевиден еще с самого начала, ибо тоже посвящен жизни балканских цыган, то гангстерская сага о клане Корлеоне видна в процессе перерождения героя Кустурицы из честного парня в прожженного циника и дельца.

Перхан, сначала мучающийся от совершения нечестных дел, к которым подбивает его Ахмед, впоследствии меняется даже внешне: появляется озлобление и металл во взгляде, жестокость в поведении, которые в итоге и толкают его на месть и тяжкое преступление. Во «Времени цыган» обычно имморальный Кустурица показывает себя глубоко нравственным художником, размышляющим о том, как зло меняет человека (цыгане в его фильме торгуют даже детьми). Собственно честных героев в ленте почти нет (разве что бабушка Перхана), однако те, кто во «Времени цыган» жаждет быстрых денег на своем пути погружения во зло, теряют все самое дорогое, что у них есть – семьи и возлюбленных. В четвертой части картины невероятно выразительной в своей пронзительности становится сцена левитации во время родов, заставляющая вспомнить схожие эпизоды из «Зеркала» и «Жертвоприношения» Тарковского, а владеющий телекинезом Перхан сразу ассоциируется с дочерью сталкера из одноименного фильма.
«Время цыган» – не только о цыганах. Он о каждой нации, которая на пути своего развития забывает, что такое совесть и моральные нормы, и потому необратимо деградирует. Как бы Кустурица ни симпатизировал стихийной витальной силе и приспособляемости цыган, он выносит этому народу вердикт – невозможно существовать по законам этого мира, не переродившись, не выродившись. И если даже Перхан, такой добрый и покладистый юноша, к концу картины становится монстром из-за плохого влияния своих покровителей, а также сомнительных удовольствий и денег, то что говорить о тех героях, кто, как его дядя, всю жизнь торгуется с небом (его финальный монолог у распятия – яркое и убедительное завершение всей истории)? «Время цыган» – не только о нравственных дилеммах, живучести тех, кто преступает заповеди, и слабости тех, кто им следует (так добрая и невинная Азра становится жертвой сплетен и наветов). Единственное исключение – бабушка, цельная и сильная в своей добродетельности, это еще и невероятно поэтический и почти космологический в своих обобщениях фильм.
Больше десяти лет к тому времени уже посвятивший кино Эмир Кустурица показывает здесь себя подлинным философом-трагиком, невероятно зрелым в восприятии жизни. И то, что его Перхан повторяет судьбу Майкла Корлеоне, – главный аргумент против обвинений режиссера в романтизации криминального мира. «Время цыган» показывает, как сделанное зло разрушает душу своего субъекта. Можно сказать, что во «Времени цыган» Кустурица еще задолго до принятия Православия продемонстрировал свое мировоззрение, которое на тот момент в своем восприятии добра и зла уже можно смело было считать христианским.
Международный успех «Времени цыган» привел Кустурицу к предложению французских продюсеров поработать с голливудскими актерами: результатом стала «Аризонская мечта», один из самых слабых фильмов мастера. Погружение в американские грезы стало для режиссера вторжением на чуждую территорию, и, несмотря на выразительные сны и грезы героев, а также замечательную заглавную песню, ставшую легендарной, фильм обернулся довольно внушительным провалом не только в коммерческом, но и в художественном плане. По этой причине следующим шагом для Кустурицы стало возвращение на родную землю и съемки «Андеграунда» – гротескной притчи о балканской истории. Свой самый длинный фильм режиссер сделал очень неровным: начало выдержано в карнавальных, шаржированных тонах, в нем преобладает комическая гиперболизация, финал глубоко трагичен, даже мрачен.

Полувековая история Югославии, рассмотренная с 1941 по 1992 годы, выглядит у постановщика как фарс, в котором, на мой взгляд, чересчур много музыки, к тому же Кустурице здесь не удается подняться до космологических обобщений, как во «Времени цыган». Однако это все же очень важная для него картина и ключевая во всей его фильмографии. Именно в «Андеграунде» режиссер вырабатывает свои киноштампы, заложником которых он станет в «Жизни как чудо», «Завете» и «По млечному пути». Думаю, не будет преувеличением сказать, что Кустурице особо удаются сцены свадеб и различных празднеств, где пьянящая витальная атмосфера подчиняет себе и поглощает сюжет. Настроение здесь бойкое, долгие два с половиной часа мы видим перед собой историю двух друзей и своеобразный любовный треугольник (где главную героиню играет актриса, сильно напоминающая Сандру Мило из «8 ½» Феллини, что, думаю, неслучайно).
«Андеграунд» предлагает нам чрезвычайно емкую метафору существования страны в идеологическом дурмане, в котором не видно реальности: буквальное подполье, где живут герои, останавливает время (наверное, фраза «для тех, кто в танке» родилась у кого-то при просмотре одного из эпизодов картины). В Каннском конкурсе 1995 года конкурентом «Андеграунда» в основной программе был «Взгляд Улисса» Тео Ангелопулоса, ленты также частично посвященной войне в Югославии, но она предлагала чисто серьезный взгляд на проблему, в отличие от фильма Кустурицы, где мы видим столь сложную гамму эмоций и настроений, что не знаешь, плакать или смеяться. Так лента балканского мастера становится историей жизнелюбивых людей, как-то незаметно для себя превратившихся в убийц.
Включение в сюжет колористической хроники с кадрами нацистской оккупации, социалистических празднеств, пышных похорон Тито и многого другого нужно было Кустурице для масштабности высказывания, которое так и не стало при этом космологическим, но лишь историософским. Начинаясь со слов «Жила-была одна страна», лента чем дальше, тем больше напоминает сказку (для этого постановщику нужна была большая массовка, сложные экшен-сцены и не в последнюю очередь карикатурная актерская игра с пережимами и перехлестами эмоций). На мой частный взгляд, эта комическая шаржированность фильму вредит и мешает воспринять трагические события не как детали всеобщего праздника, а как драму истории целого народа. Никогда не предполагал, что буду уделять столько внимания недостаткам стиля Кустурицы, но конкретно для оценки «Андеграунда» это очень важно.
Когда-то при первом просмотре фильм мне очень понравился, и я считал его безупречным шедевром. Теперь, то есть после повторного просмотра, впечатления достаточно противоречивы. Стоило ли здесь Кустурице так перебарщивать с криками, визгами, грохотом, стрельбой и постоянно звучащим оркестром (музыка Бреговича тут куда проще и однотипнее, чем во «Времени цыган»: есть лишь два повторяющихся мотива), чтобы в итоге высказаться о развале страны? Нацистская песня «Лили Марлен», звучащая помимо всего прочего на документальных кадрах похорон Тито, тоже приводит в недоумение: не равняет ли здесь мастер социализм с нацизмом?
В любом случае, несмотря на свои недостатки, стилевые погрешности и перехлестывающую эмоциональность, «Андеграунд» – достаточно веское и своевременное киновысказывание режиссера о своей Родине. Что же касается каннского приза, то он, видимо, был вручен Кустурице больше за настроение, чем за содержание (сам мастер в одном из недавних интервью вспоминал, что его буквально возненавидела за этот фильм французская либеральная общественность во главе с Бернаром-Анри Леви). «Андеграунд» покорил сердца не только синефилов разных стран мира, но и многих режиссеров, бросившихся ему подражать (навскидку вспоминаются хотя бы «Бедные родственники» Павла Лунгина). В любом случае, как поклонник «Амаркорда» Кустурица должен был снять нечто свое, его напоминающее: здесь влияние Феллини наиболее ощутимо, как, впрочем, и в «Черной кошке, белом коте» – безыскусной комедии, где все же есть место и черному юмору – одной из структурообразующих стилевых доминант «Андеграунда».

После пересмотра «Андеграунда» я решил вернуться к «Аризонской мечте»: все же фильмов у Кустурицы не так много, чтобы ими разбрасываться и пропускать, если затеял обзорную статью. В целом, конечно, эта лента, замедленная в плане сюжета и меланхоличная по настроению, а финал заставляет лучше понять, как депрессия мастера в начале 1990-х мешала его работе. По многим эстетическим параметрам «Аризонская мечта» – кино безнадежно голливудское, хоть и с приметами серьезного искусства, главные из которых – элементы волшебной сказки (например, машина скорой помощи, неожиданно отрывающаяся от земли и улетающая в небо, или сны героя). При всем этом фильм очень синефильский: герои смотрят «Бешеного быка» и первого «Крестного отца», дважды открыто цитируется «К северу через северо-запад», но это, в конечном счете, скорее признательность Кустурицы в любви к прежнему Голливуду, чем художественные заимствования из него.
Живописуя в «Аризонской мечте» любовный многоугольник, постановщик показывает нам странных, одержимых фантазиями персонажей: в американской жизни, где почти каждый стремится к преуспеянию, они считаются неудачниками и чудаками. Кроме музыки Бреговича здесь звучат также мексиканские песни, и вообще акустическая составляющая как всегда у Кустурицы имеет большое значение (мотивы повторяются, одна из героинь даже играет на аккордеоне, как Перхан во «Времени цыган»). Также в третьем фильме режиссера подряд (считая «Время цыган» и «Андеграунд») все заканчивается очень драматично, смерть вторгается в праздник жизни, окрашивая ее в депрессивные тона. Начав в 1990-е работу над «Аризонской мечтой», Кустурица после начала войны на территории бывшей Югославии хотел даже бросить фильм и на некоторое время прекратил над ним работу. Это становится заметно ближе к середине повествования, когда картина неожиданно меняет тональность от веселья к печали.

В сравнении с иными работами балканского мастера эта достаточно спокойна, по крайней мере бурной экспрессии, отличающей тот же «Андеграунд», здесь нет, как нет напора и драйва, разве что в сценах смертей (их две и на всем протяжении звучит один и тот же запоминающийся музыкальный мотив, возможно, лучший в данной ленте наряду с заглавной песней). Несмотря на участие смазливого Деппа (почти весь фильм играющего с приоткрытым ртом), сильно побитой жизнью Данауэй (которую в картину взяли, видимо, как живую легенду «Бонни и Клайда») и посредственно работающих Галло и Тейлор, фильм не сильно проигрывает в плане кастинга обычно очень аккуратному подбору актеров в других лентах Кустурицы. Посвящая фильм маргиналам и аутсайдерам, режиссер хочет сказать, что и США – страна мечты, просто для кого-то эта мечта разбогатеть, а для кого-то улететь, превратиться в черепаху или рыбу. На своем пути герои так и не найдут счастья. С другой стороны, а кто у Кустурицы его находит? Разве что темпераментные цыгане в «Черной кошке, белом коте».
Восьмая полнометражная картина балканского режиссера имеет репутацию лучшей в его фильмографии, правда, по мнению зрителей, мало знакомых со всем его творчеством. «Черная кошка, белый кот» содержит все те же клише постановщика, которые потом перекочуют в «Завет» и «По млечному пути». Это бесхитростная комедия, не содержащая никакого серьезного месседжа, лишь развлекательный балаган для удовольствия неискушенной публики. То, что быт и традиции цыган вновь становятся материалом повествования, никак не отражается на нем: здесь просто нет ни трагедии, ни «магического реализма», что отличали «Время цыган». Юмор здесь довольно примитивный, физиологичный, хоть и черный (ироническое подтрунивание над смертью так или иначе всегда было свойственно Кустурице, просто здесь его непропорционально много, хоть в итоге никто и не умирает и не кончает с собой, как это было почти во всех лентах мастера).

Фильм «Черная кошка, белый кот» никак нельзя назвать самым светлым у Кустурицы, ведь здесь нет лиризма, проникновенной пронзительности его прошлых картин, лишь смеховая стихия, на которую указывает прямая цитата из Рабле в финале. Да, это весело, вновь мастер погружает нас в атмосферу нескончаемого праздника, причем для его героев совершенно неважно, что это –свадьба или похороны; да, это иногда смешно, хоть юмор и наивный. И, конечно, нигде раньше у персонажей Кустурицы не было столь сумасшедшего темперамента. Списывая его на цыганский менталитет, мы сильно упрощаем замысел автора, хоть здесь он и не так сложен. Думается, что для постановщика этим фильмом важно было обозначить механизмы выхода из затяжной депрессии, прежде всего, для себя лично, и как сеанс аутотерапии лента удалась. Также впервые со «Времени цыган» саундтрек к фильму писал не Горан Брегович, а жаль.
Другое дело, способна ли картина стать лекарством от тоски и для зрителей? Думаю, что все же нет, и систематически пересматривать ее как способ терапии – не самый подходящий вариант, лучше пересмотреть что-нибудь из Феллини, Уайлдера, Менцеля или Вуди Аллена. Во многом «Черная кошка, белый кот» – квинтэссенция жизнелюбия Кустурицы, но нельзя сказать, что этот фильм – чудо, ибо в нем нет кинематографической магии, а пластическая выразительность изображаемого хоть и есть, но твердо стоит на земле. Сугубый реализм в кино, по крайней мере, применительно к Кустурице, сильно обедняет конечный экранный результат – нужна поэзия, лиризм, элементы фантастического (вроде левитации во время родов во «Времени цыган»), на одном нарративном драйве далеко не уедешь. Зритель видел и не такое, если он хорошо знаком с историей кино. Одним словом, «Черная кошка, белый кот» – хоть и чрезвычайно витальная, темпераментная, оптимистичная, драйвовая работа, но все же проходная в фильмографии Кустурицы, ведь преданные поклонники мастера любят его не только за жизнелюбие, но и за сложность режиссерского высказывания, часто выражаемого в коктейльном смешении противоположных настроений, которого здесь, к сожалению, нет.

Факт, что Кустурица может выйти за пределы своих автоклише, продемонстрировала в некоторой мере лента «Жизнь как чудо»: если условная первая ее половина безнадежно в них увязала, то вторая – своеобразная история любви во время войны, когда человек вынужден выбирать, кого из близких спасать (почти вариант «Выбора Софи» Алана Пакулы), блестяще их преодолела. Отчасти «Жизнь как чудо» – компромиссное для маэстро кино: мол, хотите увидеть, за что мне дают призы, – увидите, но будет и нечто другое. Создав еще на уровне сценария противоречивую моральную дилемму, балканский режиссер осторожно двигался по кромке черного юмора, не сползая в вульгарность (хотя в фильме и были пошлые шутки). Пригласив на главную роль Славко Штимаца, до этого игравшего у него в «Помнишь ли, Долли Белл?» и «Андеграунде», принципиально различные роли, постановщик и здесь предложил ему нечто необычное.
Сельская местность, где до и во время гражданской войны 1990-х годов люди медленно, но верно сходят с ума от жизненной неразберихи, получилась у Кустурицы очень поэтичной: здесь ослица упорно встает на рельсы, мешая движению поездов, а ястреб терзает гусей, непонятное по какому поводу начатое празднество прерывают выстрелы, веселясь, люди стреляют в воздух, а обретенная любовь становится преградой для личного счастья. Подлинно, лишь Кустурице под силу в подобном контролируемом хаосе рассказать внятную историю (и разве что Феллини). Многие образы выглядят порой нарочито утрированными (как, например, фигура полусумасшедшей жены главного героя); от карнавальной атмосферы, то и дело вторгающейся своим витальным колоритом в повествование, уже не смешно (думаю, не смешно было, и когда это снимали).
Однако складывается впечатление, что Кустурице и самому не по себе от неизбежных самоповторов, потому он так и рвется экранизировать Водолазкина, чтобы выработать нечто новое (к сожалению, фильм «По млечному пути», анализ которого впереди, нещадно эксплуатирует ту новизну, что есть в «Жизни как чуде»). Музыка здесь порой выразительна, порой незатейлива, бесхитростный музыкальный мотив становится по мере разворачивания нарратива лейтмотивом. Думаю, для автора этих строк было ошибкой залпом пересматривать фильмографию Кустурицы: любая серия лент, снятых одним и тем же режиссером, если в них есть идейная целостность, как правило, похожи друг на друга в той или иной степени. Удивительно, как, снимая на французские средства, балканскому постановщику удалось показать гражданскую войну на территории бывшей Югославии с явной и нескрываемой симпатией в отношении сербов (в «Андеграунде» при всей его гротескности война показана как абсурд, и автор не занимает ничью сторону).
В «Жизни как чуде» (в оригинале «Жизнь – это чудо») за счет умелого смешения настроений у мастера получилось вновь погрузить зрителя в атмосферу жизнелюбия и позитива, хотя, казалось бы, сам материал, выбранный как фон для сюжета, довольно безрадостен (как хорош, кстати, в роли сербского офицера сын Кустурицы – яркий настоящий мужчина). В этом и состоит мастерство данного режиссера, что, почти ни разу за свою творческую жизнь не убегая в эскапизм (разве что в «Черной кошке, белом коте» или «Завете»), ему удается зарядить зрителей жаждой жизни, хотя рассказывает он зачастую весьма драматичные, даже трагичные истории. У зрителя, смотрящего Кустурицу залпом, складывается впечатление, что в 1980-е он был философом и мудрецом, в 1990-е – прежде всего мастером колорита и ярких витальных красок, в нулевые же и десятые он стал снимать то, что от него ждут поклонники. По крайней мере, подобное впечатление складывается при просмотре его последних по времени лент – «Завет» и «По млечному пути».
«Завет» обескураживает зрителя неудачным сочетанием карнавального веселья и вульгарных шуток «ниже пояса». Первый фильм Кустурицы, снятый после религиозного обращения, к сожалению, не демонстрирует какой-то высокой духовности, наоборот, христианские символы (храм, икона и другие) вплетены здесь в какой-то языческий балаган. Единственное достижение мастера здесь – колоритные фигуры американизированных бандитов, превращающих страну в бордель. Таким образом, положительные персонажи как бы борются здесь с вестернизацией и глобализацией Сербии. Народная смеховая культура здесь воюет с псевдоценностями Макдональдса и Диснейленда, хотя их порой и трудно друг от друга отличить. «Завет» – достаточно беззаботная комедия, не нагруженная никакими дополнительными смыслами кроме указанного. Героев нет, сплошные маски площадного театра, зато много животных, действиями которых Кустурица стремится натужно рассмешить публику.
Десятая полнометражная лента балканского мастера демонстрирует подлинное вырождение его творческого метода, не просто клишированность его эстетики, судорожную попытку во что бы то ни стало заразить публику оптимизмом или, как выражаются некоторые зрители, «витаминизировать» ее, но и борьбу с Голливудом его же средствами, что выглядит довольно нелепо. И если в «По млечному пути» есть какая-то грусть, лирика, поэзия, то в «Завете» ничего, кроме вульгарного комикования. Печально, что автор «Времени цыган», подлинной трагической притчи, так опустился как художник, хотя желание приспособить и переработать голливудские приемы применительно к своему мировоззрению заметно уже в «Аризонской мечте». В «Андеграунде» также видно, что режиссер отказывается от эмоциональных нюансов своих прошлых фильмов в пользу шаржа и карикатуры в грубой манере.
В «Черной кошке, белом коте» и «Жизни как чуде» он делает еще несколько шагов в этом направлении, «Завет» же – откровенная уступка массовой культуре и юмору в стиле «Камеди Клаба» и «Аншлага», а элементы социальной критики тонут в разливанном море пошлости. Конечно, любому серьезному постановщику хочется, чтобы его кино смотрела широкая аудитория, но стоит ли ради этого поступаться своими эстетическими принципами? Можно смело сказать, что поздний Кустурица, как и Феллини на закате своих дней (начиная с «Города женщин»), теряет чувство вкуса и меры. Это тем более печально, что в 1980-е автор «Папы в командировке» и «Времени цыган» поражал именно соединением несоединимого, тонким балансом между трагедией и комедией, хорошо взбитым коктейлем из противоречащих друг другу чувств и настроений. Теперь же он будто говорит: «Я смотрю на жизнь весело, мне все в ней нравится», – а это, к сожалению, позиция открытого имморализма, несовместимая с христианским мировоззрением.
Смотря «По млечному пути» – фильм, который зрители ждали от Кустурицы долгие девять лет, – трудно отделаться от впечатления не просто дежавю, но какой-то глубинной заштампованности, в которую превратился кинематограф «под Кустурицу», о чем напоминал недавний фильм «Мамарош», и в котором увязает сам автор «Аризонской мечты» и «Андеграунда». Сам изобретя эти штампы, Кустурица стал их заложником. Будучи не способен создать новое кинематографическое высказывание, режиссер обречен на самоповторы и клишированные образы. «По млечному пути» – не лишенная определенного очарования картина, в основном что касается чудной органики, с какой в кадре существуют животные, которых Кустурице нравится снимать. Он с мастерством документального кино захватывает невыдуманные ситуации, в которых действуют животные, и обогащает ими витальный колорит своей ленты. Но применительно к людям, к сожалению, действуют дремучие клише (свадьбы, песни, гулянки, стрельба, танцы) – все то, что в свое время выглядело свежим и новым и заслужило Кустурице звание «балканского Феллини».

Вновь снимая войну, автор не поднимается до высот антимилитаристской притчи, как в «Андеграунде», или просто витальной поэзии, как во «Времени цыган». Образы выглядят вторичными. Исполнители главных ролей – сам Кустурица (который откровенно плохо играет, несмотря на свой просветленный вид) и Моника Белуччи (выглядящая откровенно картонно и глянцево). Единственным исполнителем, безоглядно вписавшимся во вселенную режиссера, стала Слобода Мичалович, затмевающая по витальному угару и мощной энергетике всех, включая не только Белуччи, но и признанные в мире эмблемы мира Кустурицы, таких как Мики Манойлович.
«По млечному пути» – второй после «Завета» фильм Кустурицы, снятый после религиозной трансформации режиссера – его перехода в Православие, что очень симптоматично. Языческий по сути кинематограф Кустурицы, с его восхвалением радостей плоти, с превращением всего мира в живой, непрекращающийся карнавал, чужеродный по своей сути как исламу, так и христианству, вступил в последнее время в ощутимую конфронтацию с конфессиональными взглядами режиссера. Кустурица не умеет снимать по-другому, поэтому теперь, насыщая свой киномир христианскими символами (например, пастух и овцы в «По млечному пути» или икона в «Завете»), он добавляет ему чужеродные элементы, никак его не обогащая и не обновляя, хотя постановщика можно понять, ведь он ищет новое, пытается расширить свой киномир.
Вся проблема последнего фильма Кустурицы состоит в том, что ему нечего сказать, он застывает в развитии как художник, вращаясь во вселенной своих собственных штампов, его взгляды требуют от него радикального отказа от своей эстетики, на который он, видимо, не готов. Снимая о любви во время войны, режиссер поднимается до поэтичнейших метафор чужеродности войны миру природы, когда все (и животные, и растения) оберегает людей от преследования со стороны смерти. В этом смысле вторая половина фильма удалась более, чем первая, и это ощутимый шаг вперед от самоцитатности. Но фильм рассыпается на составные части, не представляет собой единого концептуального высказывания, в отличие от «Андеграунда» и «Времени цыган».
«По млечному пути» обречен на то, чтобы понравиться фанатам режиссера, ведь в нем так много узнаваемого по его прошлым фильмам, но нет того необходимого шага вперед, который мы все так давно ждали, думая, что именно этим вызван длинный промежуток времени, прошедший с выхода «Завета». Однако ожидание вызвано застоем в развитии и творческим кризисом, что печально. Ведь обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» и множества иных призов так любим преданными ему зрителями именно за воспевание материально-чувственной стороны жизни. Кинематограф Эмира Кустурицы прост и незатейлив, очень энергетичен и завораживающ, но снимать одно и то же на протяжении многих лет – черта, которая может оттолкнуть от него даже поклонников. Зная о мировоззренческих изменениях режиссера, хотелось бы верить, что он когда-нибудь снимет кино, радикально отличное от всего ранее сделанного. Надеюсь, им и станет экранизация «Лавра» Евгения Водолазкина.