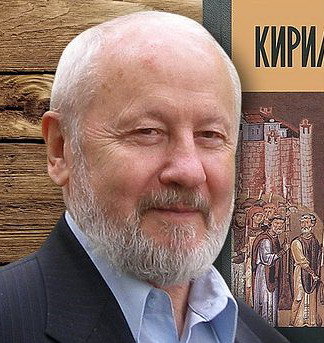Светлая гибкая лента дороги, что из нашей сельской долины легко и вольно взлетает на зелёную гору... Я теперь уже знаю: она не обрывается сразу за краем земли. Она так же светло хочет пролиться куда-то дальше. Раным-рано за гору ушла пешком мама.
Я уже и позабыл почти тот хмурый сырой день, когда отвратительной мохнатой гусеницей уползало за край земли чужое войско. В тот день и гора была какой-то бурой, тоскливой, без единой травинки. И дорога - чёрной, связкой, в слякотных колёсных следах.
Нет же, дорога, которой я любуюсь сегодня, чиста и светла, будто никогда ничто мерзкое к ней не прикасалось. Эта дорога, сколько я себя помню, была всегда, и всегда мягко проплывало над нею солнце. И она всегда мне нравилась своим одиночеством. Но этим утром мне не просто нравиться видеть её гибкий взлёт наверх, я неотрывно любуюсь её светлой, как льняная холстина, лентой. Мама ушла по ней раным-рано, когда я ещё спал. И теперь она вернётся с горы, но уже не одна.
Так бабушка сказала, когда я вышел из хаты и подбежал к уличной печке, у которой она варила что-то вкусное, пахучее в двух больших чугунах. Впрочем, я тут же и забыл расспросить, что такое она готовит, потому что она сказала про маму и про её путь до Чубовки, где она встретит моего отца.
- Сядь и дывысь на дорогу.
Краткого повеления мне было достаточно, чтобы усесться за столик и, кажется, целый час неотрывно смотреть на дорогу, ожидая, когда на самой верхней кромке светлой ленты появятся они. И тогда я тотчас окликну бабушку и побегу в мастерскую предупредить деда Захара.
Но дорога оставалась безлюдной.
Я начал недоумевать. Что это за Чубовка такая, до которой должна дойти пешком мама? Почему она ушла одна, не взяв с собой и меня? Разве я не заберусь вместе с нею на гору? И разве и дальше не буду идти, не отставая, сколько бы ни понадобилось. А сидеть и ждать так долго на одном месте - разве легче?
И я не выдержал. Отступил с бабушкиных глаз за куст жёлтой акации и побежал в мастерскую. Надо у деда спросить, где эта самая Чубовка, долго ли идти до неё и назад.
Но в мастерской неуютно и пусто. Даже инструменты издают скучный запах, будто сразу начинают ржаветь без своего хозяина. Наверное, дед Захар с утра работает в колхозе.
Высунув голову из открытой двери на двор, я тотчас же цепляюсь глазами за дорогу. Она всё такая же светлая. И такая чистая, что хочется огладить её взглядом. Но она по-прежнему пуста. Тогда я вскарабкиваюсь по нашей лестнице-драбыне на дощатый настил между чердаками хаты и коровника - моё привычное смотровое место, откуда дорога на гору видна как на ладони.
До чего же здорово мне бывало сидеть здесь, свесив ноги с дощатого настила, высматривая, не бежит ли в нашу сторону Тамарка. У меня сердце всегда начинает стучать звонче, когда на тропинке из-за зелёных всходов конопли взмелькивает её золотистая чёлка. Но сейчас и появление Тамарки меня бы не порадовало. Я жду иной, куда большей радости. Хорошо ей, Тамарке. Её отец, дядя Ефим Кущенко, уже вернулся в свою хату с фронта. Его отпустили домой из-за раны, и он недавно своим глухим басом, будто извиняясь, говорил нам с мамой, что если бы не эта его круглая, величиной с яйцо, вмятина на макушке головы, то он бы тоже, как и мой отец, ещё оставался на фронте.
Когда же он кончится, непонятный фронт, если войны, говорят, больше нет? Все вокруг так говорят: всё, её больше нет. Прошлой осенью, когда она ещё продолжалась, но уже где-то так далеко от нас, что ни единого грома снарядного уже не было слышно в Фёдоровке, бабушка водила меня на майдан, на площадь посреди села, и все мы, и я тоже, сушили там табак для фронта.
Майдан встретил нас самым крепким, какой бывает к середине лета, солнцепёком. Всё как будто плавилось и слоилось вокруг - крыша длинного колхозного правления, горячие лица женщин - молодых, пожилых, совсем девчонок. Столько вокруг было смеха, крика, гомона, пёстрых светлых сорочек, что невольно хотелось прижмурить глаза. Лишь через минуту, другую начал я соображать, что же тут, на широченной площади затеяно.
Посредине майдана торчит крепко вкопанная в землю жердина, и от неё во все стороны, ну, прямо как лучи от солнца, протянуты на высоте моей головы, а где и повыше, длинные-предлинные верёвки, но не толще той, из которой дедушка Захар мастерил когда-то дратву. И на каждую верёвку сушильщицам нужно длинными острыми шилами нанизывать один за одним большие табачные листы. Эти листы подносят в плетёных корзинах, только вынимай да протыкай шилом, да сдвигай к середине - к тому самому столбу, что торчит над всем этим хороводом.
Я быстро теряю из виду бабушку. Где теперь взмелькивает над пахучими табачными развесками её светлый в синюю крапинку платок? То различил было, а то снова не могу найти и нашу тётю Лизу с её золотыми серьгами в ушах. А Тамарка? И она должна быть где-то на площади.
- А цэ що за хлопчик такий ледащий? У всих дило, а вин стоить и гавы ловыть? И нэ соромно тоби? - смеётся надо мной молодая женщина с корзиной листьев при бедре. - Чий же ты будэш?
- Бабы Даши и дида Захара, - хмурюсь я. Что это она взялась меня срамить?
- А-а, так ты - сынок Тамары-учитэльки?.. Чуете, дивчата, його батько на фронти, за нас за всих нимця бье, а вин? Хиба ж ты нэ хочеш свому батькови послаты на фронт табачку?
- Да чого ты до нёго прыстала? - громко защищает меня другая молодая тётка, с крупно-белыми в улыбке зубами. - Станэ той Миша курыты якись тютюн. Вин, кажуть, вже офицэр и «Биломор» курыть.
- Дивчата, будэ вам шуткуваты! Дайте хлопчику шило, нехай и вин працюе.
И мне уже откуда-то протягивают в правую руку шило, а левою без всякой подсказки достаю из ближайшей корзины большой чуть влажный лист табака. Что, разве и я не сумею? Тютюн - он и есть тютюн. Можно даже две лопушины разом проткнуть, и ещё, и ещё, по одному листу, по два. А дальше? Дальше уже кто-то из девчат помогает сдвигать целый пук моих листов ближе к жерди.
- Ой, Миша, валегоцуловский той Миша! Якого ж хлопця наша Тамара до сэбэ прыгорнула, э-эх! - громко вздыхает ещё одна молодица.
- А ты, раззява, чого ж нэ прыгорнула?.. - Чи рук в тэбе и титёк мало? - толкает её локтем в бок соседка.
- Да титёк в мэнэ повна пазуха... Але руки вид того табака дужэ чорни.
И все снова смеются.
А я так увлекаюсь нанизыванием табачных листов, что не замечаю, как подходит бабушка Даша. Она, вижу, сердита на девчат из-за таких шуток. Но при этом явно довольна моей первой работой в колхозе.
- Ось куды вин заховався, - вдруг окликает она меня снизу. Я вздрагиваю от неожиданности. Она стоит под лестницей и держит в руке что-то белое.
- А ну, злазь да одинь чисту рубашку и новеньки штанци.
Неужели она первая увидела, что идут? И потому мне нужно срочно переодеться? Я лихорадочно озираюсь на гору. Нет же! Гора до того безлюдна, что ни единого следочка не различить. Но всё-таки повеление бабушки меня как-то встряхивает. Я быстро спускаюсь по жердинкам вниз.
Пока она помогает мне переодеться в свежую прохладную одёжку, самое подходящее время, чтобы хоть что-то ещё расспросить про эту непонятную мне Чубовку. Долго ли нужно маме идти до неё?.. И почему не пойти было в Мардаровку? Ведь мы с ней недавно уже ходили туда пешком и шли долго-долго, чуть не полдня, чтобы маме немного прибраться в пустой хате, где жила покойная бабушка Таня.
Помню, в Мардаровке, в тот же самый день мама повела меня в хатку к какой-то почти слепой старухе. В комнате её было так темно, что среди бела дня мы должны были сидеть за столом при свече, и эта странная бабка что-то бормотала маме, а мама, как мне показалось, то и дело порывалась заплакать от страха. В трясущихся костлявых руках старухи мелькали картинки с чёрными крестиками и какими-то чёрными редьками, с красными кубиками и сердечками, с головами красивых бородатых стариков, молодых бравых усачей и необыкновенно красивых глазастых женщин. Иные из картинок она как-то из-под ладони выщёлкивала на стол - поверх тех, что уже лежали тут, - и что-то при этом шипела беззубым ртом. Под конец она собрала все картинки вместе и сказала маме: «Нэ бийсь... Возвернеться твоя пропажа... Моя карта правду кажэ...» Мама глубоко вздохнула и, когда мы, наконец, встали, чтобы уходить, положила бабке что-то в руку. Когда же вышли на двор, тотчас сказала мне взволнованным шопотом: «Тильки никому-никому не кажи, дэ ты був и що бачив...Чуешь? Никому». И я с тех пор, как вернулись в Фёдоровку, никому не сказал и не говорю ни слова - ни бабушке Даше, ни Тамарке...
- Мардаровка, - сообщаю я бабушке, - тоже станция. Там тоже поезда останавливаются. Так почему мама в Чубовку пошла?
Но бабушка Даша продолжает придирчиво оглядывать меня со всех сторон, будто проверяя, впору ли пришлись мне обновки - рубашка и штанцы. И при этом строго молчит. Лишь напоследок отвечает что-то невнятное. Сама она, оказывается, никогда в эту Чубовку не ходила. Она знает лишь, что в Чубовке остановится поезд, которым прибудет мой отец, а через Мардаровку он проедет без остановки. А когда прибудет в Чубовку тот поезд, - утром, днём или вечером, кто ж его знает.
Я вздыхаю. Значит, надо нам ещё ждать.
Но сидеть всё время на солнце возле кутуни или на моей смотровой площадке и смотреть неотрывно на спуск с горы мне уже невмочь. У меня начинает звенеть в ушах, я слоняюсь без толку по двору, захожу в хату, разглядываю мамин учительский столик. На нём теперь не видно стопки тетрадок, потому что летом, а у нас первый месяц лета, дети не учатся. Одна чернильница скучает.
Мама уже не раз показывала мне фотографии и конверты с письмами, пришедшие с фронта. Одна фотография, на которой прямо на нас смотрит мой отец, в кителе с погонами, а на погонах четыре звёздочки, а на груди две медали, - и маме, и мне сразу особенно понравилась. И она не раз уже читала мне слова, написанные на белой оборотной стороне:
На память моим
Тамаре и Юрику.
Мих. Лощиц
Январь 1944 г.
Снимок декабря 1943 г.
- Декабрь... Январь... - шептала мама имена месяцев и вздыхала. - Тоди у нас ще стоялы румуны и нимци. А батько твий пише: жди...
И читала ещё две строки, написанные на той же стороне, на самом верху:
Жди меня, и я вернусь -
Только очень жди...
Я так и решил про эти слова, что отец очень и очень просит нас ждать его. Хотя он, когда пишет своё письмо, ещё не знает о нас ничего, но обещает вернуться, лишь бы и мы крепко ждали.
Мама не оставила ту фотографию и письмо на столике, а куда-то спрятала, как и другие, которые пришли после того письма, самого изо всех первого.
Я опять вздыхаю. Надо ждать. Надо идти на наше подворье и глядеть без устали, пока глаза не начнут болеть, на светлую дорогу посреди зелёной горы.
Бабушка предлагает мне поесть там же, за столом возле кутуни, - ещё горячих румяных оладушек с кислым молоком, только из погреба. Но я отказываюсь. Ничего мне теперь не хочется в рот брать, - ни этих душистых оладушек, ни белого, присыпанного сахарным песком молочного киселя, разлитого по большим плоским тарелкам, которые тоже отлёживаются в погребе, ни пригоршни только что поспевшей золотисто-розовой черешни.
Даже дорога и гора выглядят совсем не так, как утром. Они тоже устали от ожидания. Вдоль горы, как раз напротив нашей хаты, проступили морщины от коровьих и овечьих троп, по которым череда, как и всегда, возвращается вечером в село. Коров ещё не видно, но морщины уже напряглись, и тень от какого-то бугра ложится поперёк ленты безлюдного просёлка.
Тогда я пробую для себя только что придуманную игру. Над отвернуться от горы, сесть к ней спиной и смотреть на что угодно: на тёмную листву вишен, в тени которых наливаются красным соком ягоды; на слоистый прозрачный жар из печной трубы, на бурую копну прошлогодних стволов подсолнечника, которыми бабушка топит печь; на цветы жёлтой акации... Даже пчёлы и шмели устали копошиться в них... Но если я просижу так долго-долго, а потом резко оглянусь, то в тот же миг и увижу. И прокричу: иду-у-ут!
Так громко закричу, что даже Тамарка расслышит на своём дворе и тут же прибежит порадоваться вместе с нами.
И я враз оглядываюсь...
Ни-ко-го!
Сердце опускается во мне куда-то в пустоту.
Но нет, надо ещё раз отвернуться.
И ещё - пока не посетит догадка: те, кого ждёшь-не дождёшься, ни за что не придут, если ты такой нетерпеливый. Вот если бы ты отвернулся и насовсем забылся и занялся чем-то совсем-совсем другим, тогда... Но что-то не получается у меня совсем перестать ждать, и я забрасываю неудавшуюся игру.
Вот, наконец, и дедушка воротился из села. Может, какие-то новости разузнал - про ту же Чубовку, про тот поезд? Ведь он когда-то в молодости, ещё до женитьбы, как сам об этом рассказывал, год или два служил на железной дороге, ходил по вагонам, проверял, у всех ли есть билеты. Но сейчас даже в его покашливании и пыхтении в усы мне слышатся какое-то огорчение, какая-то усталость.
- Попый водычки, - предлагает мне бабушка Даша. Она пришла от колодца с двумя полными вёдрами и рассказывает дедушке: - Цилый дэнь сыдыть на сонци... Запалывся.
Но оттого, что они жалеют меня, совсем не становится легче. Наоборот, мне так хочется разреветься. Мне чудится, что на гору, на всё село вместе с вечерними тенями опускается какая-то беда. Ну, зачем мама моя раным-рано ушла непонятно куда? Может, тот поезд не остановился? А если остановился, то никто из него не вышел, ни один человек не спустился по ступенькам... Они не придут... И она где-то там сидит за откосом железной дороги, и прикатывают в чёрном дыму и копоти чужие, как в Мардаровке я видел, поезда, на миг останавливаются или с грохотом проносятся мимо, и у неё нет больше сил ждать и нет сил идти к нам сюда одной.
Не хочу я никакой воды. Слёзы душат меня. Мне хочется запрятаться куда-то со своим невыносимым горем. Я плетусь в хату, наощупь добредаю в полутьме до кровати в маленькой комнате. У меня нет даже сил, чтобы снять с себя новые рубашку и штанцы. Разве мне самому они нужны?.. Мама, зачем ты ушла сегодня раным-рано? Зачем мы понапрасну ждали так долго?.. Бабушка, дедушка, зачем всё было?..
- Чуешь?.. Вставай...- Это бабушка Даша тормошит меня за плечо. - Воны йдуть... Чуешь?.. твои батько и маты йдуть...
Я вскакиваю, несусь на слабый свет сумерек - в раскрытую настежь дверь.
Кто-то совсем близко. Чьи-то тихие шаги по земле. Медленно, будто во сне, выплывают двое из тёплой мглы, поднимаются по тропе мимо куста сирени. Мама в светящемся платье, и её поддерживает под локоть он - в военном, без фуражки. Лечу, ног не слыша, с разгону прыгаю ему на грудь. Прижимаюсь к щеке, скуле, уху, горячему рту. Почему-то я вмиг догадался: это он, только таким и может быть мой отец!
Его лучащиеся лаской глаза, тонко выбритые щёки, распахнутая для объятия грудь, твёрдые пуговицы кителя, светящиеся тёмным золотом погоны, чудесный запах, исходящий от их тончайших волокон, - всё это он, мой единственный на весь свет, мой родной, с крепко бьющимся сердцем, в прекрасной плоти воина.
Но почти тут же его оттесняют от меня, потому что отовсюду на свет лампы, вынесенной из хаты, уже сходится, сбегается из тьмы вся-вся наша родня, чуть не целое село... Смеются, плачут, накрепко стискивают в объятиях, поздравляют маму... И дядя Ефим тут с тётей Лизой, и Тамарка моя лучезарная, и дедушкин брат Виктор, его жена Поля, братья и сёстры Дзюбенки, соседи, соседки, куча мала детворы...
Лишь на какой-то миг отец прорывается ко мне, чтобы ещё погладить по голове, подержать за плечи, на руки поднять и тут же, будто спохватившись, вытащить из походного чемоданчика и вручить подарки: большущую плоскую коробку конфет и губную гармошку в восхитительно ярком футлярчике.
Тотчас меня облепляет затаившая дыхание малышня. Кто-то зачарованно шепчет:
- Ты дывысь, конфеты...
- Ого, шоколат...
- А яка гармошка!..
- Трофейна?..
Мы разглядываем и общупываем коробку, принюхиваемся к её небывалому запаху. Но долго разве можно удержаться? И вот, пока взрослые рассаживаются за столы, гремят посудой, звенят стаканами, у нас своё затевается пиршество. Под общее восхищённое «ох-х!» распахнута коробка, и из внутренностей её посверкивающего в ночи ребрастого ложа на нас изливаются волны головокружительно сладостных ароматов. Обмерев от неожиданности, мы робко замолкаем. Никто не решается первым притронуться к тёмным округлым подушечкам шоколадных див. Так проходит несколько томящих мгновений. Но раз уж все принимаются шёпотом подбадривать меня, протягиваю руку первым. Каждому понятно: это моё право. Но незримая сила чья-то сила ведёт моими пальцами ведёт моими пальцами, и первую конфетину я поднимаю к полуоткрытому рту Тамарки.
- Ни-ни, - улыбается она благодарно, отмахиваясь от меня чёлкой.
- Йишь! - настаиваю я твёрдо, как и положено, должно быть, сыну офицера. - И вси - йишьтэ!
Фёдоровская детвора не кидается к коробке, распихивая тех, кто неловок или слишком застенчив. Наша малышня самым бережным, самым сдержанным способом приступает к облизыванию, пробованию на зубок и неспешному вкушению яства, принесенного приятнейшим ветерком то ли из какой-то загадочной Риги, то ли из какого-то Таллина, который и сам, кажется, не прочь бы растаять у нас на губах. И, увивительное дело, шоколадок в коробке почти не убыло.
Тут, напоминая разомлевшему обществу о втором отцовом подарке, я достаю из-за пазухи чудесный футлярчик. Гармошечка в руке на вес тяжёленькая, но при этом какая-то забавно-воздушная.
- А кто вмие?
Умелец находится мгновенно. Кажется, это один из хлопчиков, в сопровождении которых я весной бегал смотреть за край села порожнюю фашистскую самоходку. Он прикладывает губы к узкой, слегка загнутой вовнутрь стороне инструмента и делает слабый вдох. Гармошечка прытко скользит в его руке вправо-влево, и рассыпает лёгенькие рулады, похожие на первые пробы спевок у петушков.
Вдруг из раскрытых окон хаты выкатывается дружный взрыв смеха. Мы догадываемся, что он явно вызван стараниями нашего гармониста, и тотчас отвечаем большому застолью самым звонким детским визгом.
- На, грай сам!
И вот уже я дую изо всех сил, и звуки то вниз тянут, то вспрыгивают на тонюсенький верх, озадачивая, должно быть целый мириад наших невидимых сверчков, зачарованно и неустанно поющих свои скромные гимны звёздам.
Ночь отлетает так стремительно, будто и не было её, а длится над всеми нами один бесконечный день, и мы с Тамаркой в его молодых лучах блаженствуем в маленькой моей комнате у порожней, но всё равно чарующе ароматной конфетной коробки и всё ещё по очереди пробуем губами гармошечку. На ней успели подудеть все, кто хотел, и потому из её отсыревшего от слюны нутра вместо бойких звучаний с трудом вырываются теперь какие-то простуженные хрипы, побулькивания, а то гусиный шип или самый жалобный цыплячий всписк.
- От, добрэ гралы, - благодушно пыхает в усы дедушка Захар.
Нас зовут за стол, и он такой обильный, будто здесь ничего ещё с минуты возвращения отца не вкушали. Все готовы поднять стаканы, рюмки. Лишь отец, весёлый, в белой рубахе, вдруг скашивает глаза в мою сторону и неожиданно строгим голосом спрашивает:
- А это что такое?
Острым глазом он видит, что передо мной на столе краснеет маленькая стопочка, наполовину наполненная кисленьким терпким вином дедушкиного изготовления .
Бабушка, уловив смысл его удивления, улыбается:
- Та воно ж малэньке... Нэхай и воно трошечки выпье... Батько ж вэрнувся з вийны.
- Нет! - произносит отец решительно. - Ещё рано.
И все примолкают на миг. Никто не возражает. Не потому, что он их раздосадовал. А потому, что всем становится ясно: раз отец вернулся, теперь его власть, и потому пусть теперь для сынка его воля родительская будет путеводной.
Я не дуюсь, не ропщу. Подумаешь, вино! Я ещё и не различаю его вкуса. По мне оно нисколько не вкусней, чем глоток свекольного темнокрасного кваса, который бабушка подносила нам с дедом из погреба, когда он отламывал от сухих высоких стволов початки спелой кукурузы, а я складывал их в корзину. И сладкий виноградный сок прямо из бочки, в которую он осенью отдавливал гроздья «Тараса», куда, по мне, вкусней, чем это кисленькое, что так и останется мною не тронутым.
Лишь много лет позже я буду в шутку рассказывать друзьям, что первый раз в жизни бросил пить вино шести с половиной лет отроду. И на недоуменные вопросы отвечать: «Потому что такова была воля пришедшего с войны отца».
Но вот ещё одно событие того бесконечного дня, самое для меня и по сию пору столь необыкновенное, что иногда кажется: не привиделось ли?..
Через три или четыре часа после утреннего застолья...
Все мы вдруг, будто по воздуху перенесясь, оказываемся в нашей дубовой роще. Но не на её ближнем к селу краю, где я как-то под вечер помогал бабушке Даше собирать жёлуди в торбу. Нет, мы где-то в самой середине великого леса, на раздольной поляне, у белых холстов с едой и вином. Только никто не приляжет, никто не садится на траву у этих белоснежных холстин. Все стоят большим, но не тесным кругом. И все в белом, чистом, лёгком - мужчины, женщины, мы - дети. Мы как будто собрались на место, где всегда собираться любили и раньше. И потому разведён костёр из сухого дубового хвороста, он не чадит, а лишь чуть потрескивает, и дым его благоуханен, и пепел светел, хоть окунай в него руку. Или это благоухание исходит от высоких дубовых крон, пропускающих на поляну полупрозрачный свет? Мы будто все вернулись сюда, - после холода и голода, после страхов и грохота обезумевшего железа. Вернулись посмотреть друг на друга, произнести негромкие добрые слова, поднимая перед собой белые струящиеся, как дымы, рукава рубашек и сорочек...
От прилива радости я почти уже не различаю лиц: где отец с мамой, где дед Захар и бабушка Даша, где тёти мои Лиза и Галя, где ты, светлая Тамарка? Мне видится, что в этом же кругу рядом со всеми - и те, кто не дожил до этого дня, - и бабушка Таня, тоже во всём светлом, и дед Фёдор в светлой армейской рубахе, и прадеды мои Константин Лощиц и Максим Степанюк, Иван Грабовенко и Яков Лагуна, - тоже в белых рубахах. Просто мы все вернулись в день возвращения, - пусть не навсегда, пусть только на час - в этот святой лес...
2015
Юрий Лощиц