Милая моя бабушка! Недавно был твой сто второй день рождения, а я пропустила этот день и даже свечку в церкви не поставила. Прости меня. И время, и суматошная жизнь делают свое дело - я забываю о тебе, забываю тебя... Я корю себя за то, что в детстве и юности была недостаточно пытлива, чтобы расспрашивать тебя о прожитой жизни, недостаточно внимательна, чтобы запечатлеть, сохранить в памяти то немногое, что ты мне рассказывала...
Ты родилась до революции, и это страшно удивляло меня в детстве. «Надо же, - думала я, - баба Катя жила еще при царе. Наверное, она его видела...» Мне тогда казалось, что все, кто родился до революции, обязательно должны были видеть царя. Но ты царя не видела. Ты жила в Московской Славянке, ходила в приходскую школу, пела в церковном хоре и по праздникам надевала высокие кожаные ботиночки на маленьком каблучке.
Я не знала своего деда. Он погиб на войне задолго до моего рождения. А из твоих рассказов я помню только то, что был он кадровым военным, участвовал в Финской войне, в Великую Отечественную воевал на Ленинградском фронте и пропал без вести. Ты жила в ожидании его и надежде четыре года. Лишь в сорок шестом тебе сообщили, что муж погиб и похоронен в братской могиле...
Рассказывая мне о деде, ты называла его не иначе как «дедушка твой, Петр Иванович». И произносила это так, словно старалась, чтобы в моей беспечной голове два этих понятия - «дедушка» и «Петр Иванович» соединились намертво.
Тебя уже не было, когда я вдруг испугалась нищенства своих знаний: я не смогла ответь на вопрос дочери, как звали мою прабабушку - твою маму. К этому времени почти не оставалось людей, которые могли бы помочь мне восполнить упущенное. Но все же теперь я знаю, что звали ее Мария, баба Маня, и что у нее дома в «красном углу» висела под стеклом большая и очень старая икона Пресвятой Богородицы.
Я знаю, что церковь, в которую ты ходила почти до самого ее закрытия в начале тридцатых, именовалась Спасо-Преображенской. А потом ты вышла замуж. Жене офицера, члена партии нельзя было бывать в храме. И брак ваш с дедом остался невенчанным. Но до войны тайком от Петра Ивановича ты все же украдкой бегала в церковь...
В войну ходили слухи, что немцы в первую очередь уничтожают семьи кадровых военных, особенно - офицеров. А у тебя на руках двое детей - девятилетний сын и пятилетняя дочь. Фашистское кольцо вокруг Ленинграда становилось все теснее, и вы поехали под Сталинград, в Камышино, к родственникам, не ведая, что к вашему приезду это место станет одним из самых опасных. Родственники оттуда уже эвакуировались, оставаться в Камышине было нельзя, и вы смешались с толпой беженцев.
Беженцев переправляли через реку на баржах, и толпа на пристани каждый раз вздрагивала, когда вслед за свистом падающей бомбы на реке раздавался взрыв. На том месте, где в ночном тумане только что маячила переполненная людьми баржа, разлетались и быстро гасли обломки судна и человеческих жизней...
Уже у самого трапа, в дикой давке выяснилось, что на баржу пускают только с одним ребенком. Заголосили матери, у которых детей больше, но пропускной контроль был неумолим. Увы, были в той войне люди, которые отдавали такие приказы, и были люди, которые беспрекословно их выполняли.
Крепко держа за руку детей и не вполне понимая, что происходит, сдавливаемая со всех сторон натиском толпы, ты остановилась... Сотвори, Господи, вечную память той, сейчас уже умершей или погибшей, возможно, в войну женщине, которая взяла за руку твоего сына и просто сказала: «Не волнуйтесь, я скажу, что это мой ребенок»...
Дорогая бабушка, почему не ты рассказывала мне об этом? Или рассказывала, да я тогда не могла или не хотела вместить?..
Я знаю, что после войны вы жили очень бедно. И когда твоя дочь пошла в первый класс босиком, потому что нечего было надеть, ты плакала. На пенсию, которую ты стала получать, как жена погибшего офицера, купили корову, чтобы было хотя бы молоко. Ты выращивала на огороде картошку. И с сорок шестого года почти без отпусков и совсем без бюллетеней работала санитаркой в больнице. Здесь ты и умерла...
Я навещала тебя в больнице каждую неделю. Прости, но делала это тогда больше по обязанности: у меня росла маленькая дочь, и твоя одинокая палата была слишком большим контрастом по сравнению с тем миром, в котором я жила.
Я была свидетелем того, как от недели к неделе ты угасала. Поначалу мы беседовали о твоей правнучке - моей дочке, о заросших сорняками твоих огородах, которые, подлечившись, ты собиралась привести в порядок. Я кивала головой и всячески поддерживала твои планы, хотя знала, что они уже не осуществятся. Потом ты стала говорить мало - только спрашивала. Потом уже не спрашивала - полудремала-полуслушала мои рассказы. Время поменяло нас местами: когда-то мне, маленькой, ты рассказывала добрые истории. Теперь это делала я...
В последние недели ты все время спала тяжелым, искусственным сном. И я приезжала, чтобы просто посидеть рядом с тобой в больничной палате, залитой в те дни ослепительным июньским солнцем. Я вглядывалась в дорожки морщин на твоем лице, в узловатые, искореженные долгим трудом и ревматизмом руки. Как много они умели! Как чудно вышивали, вязали, шили! Как много они сделали. И теперь отдыхали...
Было слышно, как за дверью бегали по коридору «твои» ванечки и танечки - детдомовские ребятишки. Их привозили в эту больницу со всей области. Когда-то ты угощала их леденцами и, приходя с работы, часто рассказывала мне об этих детях. И еще, когда мы с тобой оставались вдвоем, ты тихим красивым голосом пела мне про ангелов...
Теперь я тоже знаю эту песню про ангелов - «Херувимскую». И пройдет, думаю, совсем немного времени, когда и я буду петь ее своим внукам...
Прости меня, дорогая бабушка, что я так мало смогу рассказать им о тебе, о твоей жизни. Прости, что необходимость поговорить с тобой по душам возникла во мне так поздно. Мне тяжело понимать это. И я очень постараюсь уберечь тех, кто пойдет в нашей семье по жизни вслед за тобой и мной, от такой же невосполнимой потери...
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10268412@SV_Articles















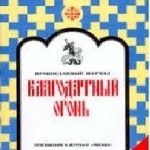


_1.jpg)
