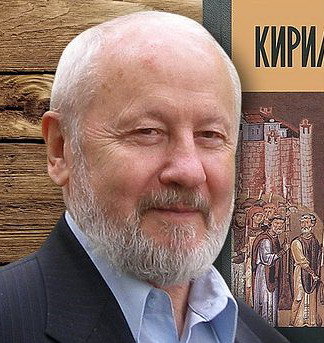В конце 50-х - начале 60-х годов, учась на филфаке МГУ, я, начиная со второго курса, был «семинаристом» в Лермонтоведческом семинаре Владимира Николаевича Турбина. В 1961 году у всеми нами обожаемого наставника вышла книга «Товарищ время и товарищ искусство». Вскоре она была подарена каждому из нас. Да ещё и с автографом! Мы читали и перечитывали книгу запоем. Про себя или вслух, при встречах и обсуждениях, восхищались кружащей голову смелостью, свежестью, небывалой раскованностью суждений Владимира Николаевича о литературе, классической и современной, о кино, живописи и других «товарищах искусствах», выходивших за пределы нашей сугубо филологической натасканности.
И вдруг в «Вопросах литературы» появляется статья «Человек за бортом» за подписью трёх учёных мужей из Института мировой литературы - Петра Палиевского, Вадима Кожинова и Сергея Бочарова. Эти, как быстро выясняется (в том числе и по стилю), люди того же поколения, что и наш Турбин, как-то весело, бодро, лихо и не без фельетонной ядовитости разносят в пух и прах турбинскую книгу, находят в ней целую уйму серьёзных изъянов, в том числе формализм, модернизм, левачество, а главное, пренебрежение к человеку, как безусловному объекту любого творчества. Оценки эти и приговоры показались нам настолько несправедливыми, обидными, даже оскорбительными, что мы между собой тут же зачислили имлийскую троицу в ранг старорежимных ретроградов, душителей всякой смелой мысли. А кто-то из «семинаристов» даже предположил вслух, что такой памфлет можно было написать лишь по заданию с Лубянки. Словом, эта статья, а также другие отзывы подобного рода о нашем преподавателе не могли не возмущать нас. Сам же Турбин как-то стоически молчал, не потакая нашим неловким попыткам высказаться в адрес его «ворогов». Но нам казалось, что и сам он достаточно глубоко переживает по поводу шума вокруг «Товарища...».
Годы шли, мы взрослели, критические распри времён нашей юности на расстоянии теряли свойства каких-то роковых противостояний, и, глядишь, через десятилетие люди «из разных лагерей» могли встречаться за обсуждением общих забот, к примеру, об отдельном человеке, который, подлинно, долго пробыл «за бортом».
Так получилось, что ещё в пору нашего студенчества и Турбин, и, с другой стороны, Кожинов почти одновременно заинтересовались трудами и личностью опального мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, жившего тогда в мордовском Саранске. Затрудняюсь сказать, кто из них сделал это первым и кто сделал больше для возвращения творчества Бахтина в круг живых и открыто обсуждаемых идей, но могу засвидетельствовать, что благодаря Турбину на филфаке МГУ и в его семинаре в 60-е, и в 70-е годы был настоящий культ Бахтина.
В 1972 году вышла моя первая книга - о Григории Сковороде, в серии «ЖЗЛ». Хотя о ней почти не было никакой прессы, тем не менее, её, оказывается, читали и примечали. К немалому моему удивлению, тот же Пётр Палиевский вдруг позвонил мне и выразил своё безусловное одобрение книги. Где-то около того же времени состоялось и моё знакомство с Вадимом Кожиновым. Где это произошло? Скорей всего, в ВООПИКе (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), где я в середине 70-х проработал около двух лет. Встречались на заседаниях московского отделения общества, которое размещалось в одном из помещений бывшего, а теперь снова открытого Высоко-Петровского монастыря. Или, может, в Литературном музее, находившемся тоже в одном из монастырских корпусов? Мне, конечно, было интересно его послушать, когда он выступал с лекциями о современной или классической русской поэзии. В те годы Кожинов, Палиевский, Лобанов, Ланщиков, Олег Михайлов становились самыми «востребованными» из наших критиков и историков литературы, национально ориентированных. Их все читали. Позже к этому ряду имен присоединился Юрий Селезнёв.
Кстати, если не личное знакомство, то сближение с Вадимом Кожиновым произошло именно благодаря Юрию Селезнёву, с которым мы во второй половине 70-х работали в редакции ЖЗЛ. И благодаря Михаилу Петровичу Лобанову. Однажды летом он пригласил Юрия Селезнёва, Вадима Кожинова, Валерия Сергеева (великолепного знатока русской иконы, на чьи лекции по древнерусскому искусству в Спасо-Андрониковом монастыре собиралась вся Москва) и меня к себе домой. Так мы все вместе оказались в тот памятный вечер в тесной лобановской квартирке, где простую, но вкусную снедь к столу подавала юная дочь Михаила Петровича Марина. Разговор почти сразу завязался очень открытый, душевный, за рюмочкой, и не за одной.
Вадим Валерианович вскоре начал декламировать стихи. При этом сразу стало ясно, что он любит удивить, восхитить своих собеседников знанием забытых сокровищ русской поэзии или стихов современных поэтов, которые ещё не стали предметом общего внимания. Как никто другой он был неутомимым и признанным открывателем забытых и новых имён. В этом заключалась его неоспоримая привилегия в тогдашней нашей культурной жизни. Помню, что Кожинов прочитал в тот вечер для зачина одно или два стихотворения Баратынского, которые, впрочем, мы знали. Но поразил он всех стихотворением Анатолия Передреева «Беспощадна суть познанья...».
Передреев?.. Имя почти не слышное на тогдашнем крикливом торжище эстрадного стихописательства. Да и сегодня - многие ли вспоминают поэта, рано умершего и, будто в предчувствии ухода, оставившего и это стихотворение, похожее на скорбный, горестный вскрик?
Беспощадна суть познанья,
Страшно логика ясна...
Нету Бога в мирозданье,
Есть Пространства кривизна.
В бездне канула астральной
Голубой Вселенной даль,
В этой пропасти спиральной
И себя, и землю жаль.
Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! -
Разбегание галактик...
Тяжкий холод черных дыр...
Ни душой, ни мыслью пленной
Не объять мне этих сил.
Где вы, где вы во Вселенной,
Хоры стройные светил?
Никакого нету дела
До земного существа
Вспышкам огненного тела,
Возмущеньям вещества.
Бесконечностью пустою
Мчат миры, себя круша.
Нету неба над тобою,
Беззащитная душа.
Так зачем порой ночною
Ты глядишь в него, глядишь
И не с черною дырою,
Со звездою говоришь.
А затем Кожинов, подбодренный нашим восхищением, читает по памяти и «Две дороги» Фёдора Глинки, тоже никогда до той поры нами не слышанные строки. Это стихотворение пророческое, с заглядом в ХХ и даже в XXI век. Поскольку и оно сейчас почти нигде и никем не вспоминаемо, также хочу привести его здесь полностью:
Куплеты, сложенные от скуки в дороге
Тоскуя - полосою длинной,
В туманной утренней росе,
Вверяет эху сон пустынный
Осиротелое шоссе...
А там вдали мелькает струнка,
Из-за лесов струится дым:
То горделивая чугунка
С своим пожаром подвижным.
Шоссе поёт про рок свой слезный:
«Что ж это сделал человек?!
Он весь поехал по железной,
А мне грозит железный век!..
Давно ль красавицей дорогой
Считалась общей я молвой? -
И вот теперь сижу убогой
И обездоленной вдовой.
Где-где по мне проходит пеший;
А там и свищет и рычит
Заклёпанный в засаде леший
И без коней - обоз бежит...»
Но рок дойдёт и до чугунки:
Смельчак взовьётся выше гор
И на две брошенные струнки
С презреньем бросит гордый взор.
И станет человек воздушный
(Плывя в воздушной полосе)
Смеяться и чугунке душной
И каменистому шоссе.
Так помиритесь же, дороги, -
Одна судьба обеих ждёт.
А люди? - люди станут боги,
Или их громом пришибёт.
Вообще читал стихи Вадим Валерианович, в отличие от многих тогдашних поэтов, без подвывания, но взволнованно, напряжённо, с сильным внутренним переживанием, которое он, похоже, едва сдерживал, чтобы оно не повредило смыслу читаемого. И особенно такое волнение чувствовалось, когда он пел песни на слова своих любимых поэтов. Пел Кожинов под гитару, пел истово, самозабвенно, хотя особых голосовых данных у него не было. Но, когда он распевался, его манера исполнения очень впечатляла. Мне почему-то кажется, что примерно так мог петь в своё время Аполлон Григорьев, и что Кожинову посредством каких-то загадочных музыкальных позывных такая манера передалась из девятнадцатого столетия.
Как-то позже он, услышав, как мы с Селезнёвым заводим свою любимую «Ой, на гори тай женци жнуть», сам спел одну или две малороссийские песни. Но произношение у него было, при всей старательности, какое-то очень приблизительное. Я ему заметил об этом с невольной улыбкой, и он после этого на украинском больше при мне не пел.
Дальнейшее моё общение с Кожиновым продолжалось во многом благодаря Юрию Селезнёву. Я тогда только-только закончил работу над второй своей книгой для ЖЗЛ - об Иване Гончарове. В то время выход каждой книги необходимо было «подкрепить» двумя внутренними рецензиями, и одну из этих рецензий по просьбе Селезнёва написал Вадим Валерьянович.
Он тогда часто захаживал в «Молодую гвардию» к Селезнёву. Особенно после того, как сам начал писать для ЖЗЛ книгу о Фёдоре Тютчеве. Зная, что их связывают очень близкие отношения старшего и младшего друзей, я старался не мешать их общению, касающемуся рукописи «Тютчева». Но мне заметно было, что Селезнёва несколько расстраивали неожиданно холодные кожиновские характеристики славянофилов и славянофильства в целом. Похоже, они по этому поводу даже вздорили, но Юрий Иванович иногда лишь самым деликатным способом жаловался мне.
Вместе с Селезнёвым я раза два или три бывал у Вадима Кожинова в гостях на его старой арбатской квартире, где нас всегда радушно встречала его жена Елена Ермилова. Были дружеские застолья, читались стихи и пелись песни на стихи любимых поэтов хозяина дома. Как-то я увидел среди гостей поэтессу Татьяну Глушкову и Карема Раша, начинающего публициста, у которого только-только выходили первые книжки. Вадим Валерианович был очень чуток ко всему новому и свежему, что появлялось в литературе. Отсюда и симпатия к Рашу с его клокочущим курдским темпераментом.
Впрочем, мне показалось, что в то время Кожинов уже не столько сам искал новых знакомств, сколько его искали. Он всегда любил радовать своих друзей и единомышленников этими новыми знакомствами. К примеру, в одну из встреч он познакомил нас с полковником милиции Александром Лобзовым - даровитым композитором-самородком, писавшим в ту пору проникновенную музыку ко многим стихотворениям Николая Рубцова, а позже и Николая Тряпкина. И почти в то же время благодаря Кожинову я впервые услышал прекрасное пение Николая Тюрина, певца и гитариста, исполнителя народных песен. Совсем недавно Тюрин решительно пополнил свой репертуар почти всем песенным циклом Лобзова. В день рождения Вадима Валериановича на даче в Переделкино песни на слова Рубцова стали, конечно, самым драгоценным подарком для хозяина. Среди восхищенных слушателей помню Михаила Лобанова, Станислава Куняева, Юрия Кузнецова, Юрия Селезнёва и гостившего тогда в Москве его друга из Краснодара писателя Александра Федорченко.
Несколько раз бывал я и на новой квартире Кожинова на Большой Молчановке. Одна встреча - уже в начале девяностых - получилась отчасти деловой. В то время попеременно с поэтом Станиславом Золотцевым я собирал ежемесячные часовые передачи на «Радио-1» под названием «Русский огонёк». Название передаче предложил Станислав - по одноименному стихотворению Николая Рубцова. И вот, составляя очередной выпуск, я и решил пригласить на передачу Кожинова, чтобы он рассказал о Рубцове и спел его песни, поскольку, как я знал, они были близко знакомы, и Кожинов запомнил рубцовские самобытные мелодии и манеру рубцовского исполнения.
С этим предложением мы с редактором радиопередачи Саниёй Давлекамовой приехали с улицы Качалова к Вадиму Валерьяновичу на Большую Молчановку и записали беседу и пение прямо у него дома. Так-то, в домашней, а не студийной обстановке, ему и петь, и вспоминать было естественней. Когда он запел «Куклу» («Я уеду из этой деревни...»), я в который раз поразился про себя его дару самыми сдержанными средствами передать суть семейной драмы, такой до боли знакомой многим из нас. Уже на улице, после записи, мы с Саниёй Давлекамовой признались друг другу, что когда слушали «Куклу», невольно ком подступал к горлу.
Недавно в своём домашнем аудиоархиве я нашёл кассету с той «Рубцовской» записью. Хочется привести здесь из неё слова Кожинова о том, как своеобычно пел Николай Рубцов:
«Как ни странно, - говорит здесь Вадим Валерьянович, - я не могу точно определить, что это было. Нельзя сказать, чтобы это было какое-то достижение вокального искусства. Это было как бы меньше пения. В то же время, это было нечто большее, чем пение. Это было, если угодно, какое-то действо. Я видел совершенно ясно, что когда он пел, не было человека, - допустим, человека, далёкого от него, чужого ему, - который не был бы его исполнением потрясён. И после этого уже Рубцов, сама встреча с ним, становились для такого человека событием... Это было какое-то обнажение глубины духа. И когда я его слушал, - думаю, такое не один я испытывал, - становилось за него даже страшно... Такая полная отдача себя, такое неслыханное напряжение, что казалось, вот-вот он даже может погибнуть - на каком-то напряжённейшем, очень сильном месте, не скажу, пения, но именно действа... А что касается самого по себе пения, того, зачем он это делал, то я лично думаю, что когда он пел, а пел он не только на свои, но и на стихи Лермонтова, в особенности «В полдневный жар, в долине Дагестанга...» и, как не странно, пел и совершенно, казалось бы, не певческое стихотворение Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...», наконец, совершенно поразительно пел блоковское «Девушка пела в церковном хоре...»... - то, как мне кажется, это пение драгоценнейших творений поэзии было для него способом наиболее глубокого и наиболее родственного приятия в душу любимейших стихов... И, кстати, не для него только, но и для тех, кто его тогда слушал... Когда он пел, он приобщал людей к какому-то самому глубокому, уже неподвластному сознанию внутреннему смыслу стихов. И было ещё при этом только ему доступное удивительное интонирование, которое больше даётся в пении, чем в чтении... Но он и читал стихи прекрасно. Я в 80-м году выпустил альбом, где даны записи его стихов. Это изумительное чтение! Но всё же пение было ещё более глубинной формой переживания сокровенного смысла его произведений...».
Вслушиваюсь в это взволнованное кожиновское истолкование и вдруг ловлю себя на догадке: а ведь так, словами Кожинова, можно сказать и о его собственном чтении и пении стихов его любимых поэтов. Глубинное переживание самого сокровенного. Не артистическое, в котором всегда расслышишь холодок или аффектацию расчётливого мастерства. Нет, беззащитное и бесхитростное сопереживание при открытии молитвенных высот родной поэзии, которая, по словам Василия Жуковского, «есть Бог в святых мечтах земли».
Такое сопереживание нагляднее всего, может быть, представлено в «Страницах современной лирики» - антологии, составленной Вадимом Кожиновым в 1980-м году для издательства «Детская дитература», в которую он включил стихотворения двенадцати самых-самых близких ему по духу поэтов-современников.
* * *
В конце 70-х годов я ушёл из «Молодой гвардии» и засел за свою книгу, посвященную Дмитрию Донскому. С этого времени я встречался с Кожиновым реже. Тому было несколько причин, и первая из них вот какая. В 1984-м не стало одного из самых для меня дорогих и незаменимых друзей - Юрия Ивановича Селезнёва, через щедрое душевное посредничество которого я, по преимуществу, и был связан с Вадимом Валериановичем. И как-то сразу обозначилась возрастная дистанция, которая прежде скрадывалась в наших отношениях с Кожиновым именно благодаря живому посредничеству Селезнёва, который так умел и любил сводить близких ему людей вместе.
Да и сам Вадим Валерианович предпочитал в те же времена образ жизни всё более затворнический. Однако из косвенных свидетельств знаю, что он не забывал меня. По крайней мере, Станислав Куняев по выходу в «Нашем современнике» «Униона» (1992) сообщил мне, что Кожинов прочитал и хорошо отозвался о романе, таком неожиданном для многих читателей (да, признаться, и для меня самого). Как я знал, Вадим Валерианович, на правах члена редколлегии и постоянного автора журнала, неукоснительно следил за тем, что печаталось в «Нашем современнике». Он как бы духовно курировал журнал до самой своей кончины. И Куняев таким попечением нисколько не тяготился, но, наоборот, высоко его ценил. А в 2000 году, когда в «Нашем современнике» вышла моя автобиографическая повесть «Послевоенное кино», Куняев, передал такие слова Кожинова: «Ну, Лощиц пишет всё лучше и лучше!». Ничто так не ободряет нашего брата, как такие вот, пусть опосредованные и немногословные, но совершенно бескорыстные оценки!
Как известно, в эту пору Вадим Валерианович напряжённо работал над своими историческими сочинениями. Наиболее близко мне было всё то, что он писал о ХХ веке. Великолепные по аналитической остроте, ёмкости обобщений, по своему политическому темпераменту работы! И немного я как-то заскучал, когда стал читать его исследование о Куликовской битве. Мне показалось, что Кожинов, порывистый и увлекающийся, в трактовке этой эпохи невольно поддался влиянию евразийских идей Льва Гумилёва, учёного сходного с ним темперамента. (Примерно такое же увлечение пережил тогда в своих исторических воззрениях Дмитрий Балашов). Но мы ни разу на эту тему с Кожиновым не говорили. Мне как-то не захотелось огорчать его этим своим наблюдением. На мой взгляд, вообще в евразийстве, в частности, в его историософской снисходительности по отношению к трагическому противостоянию Руси и Орды, по отношению ко всей азиатской составляющей нашей истории, есть какая-то обращённая в прошлое утопическая недоговорённость, отсутствие принципа иерархии сопоставляемых начал.
Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что для меня Вадим Валерьянович Кожинов как творческая личность, как мой старший современник дорог и памятен прежде всего своим рыцарским отношением к великому наследию русской литературы, и, в первую очередь, русской поэзии, классической и новой. Его тоненькая книжечка, посвященная жизни и творчеству Николая Рубцова, на мой взгляд - одно из образцовых, даже и по сей день недостижимых по глубине осмысления произведений национальной критической мысли XX века. Я её нередко перечитываю, целиком или частями. Восхищает то, каким удивительно смыслоёмким и, одновременно, общедоступным способом смог здесь автор, не прибегая к структуралистическим и прочим модным приёмам, сказать о таинственной материи рубцовского поэтического слова. Как тонко и бережно говорит он о благодатной природе света и музыки в прозрачной духоносной ткани стихоречи Николая Рубцова! Этот труд, может быть, наиболее цельное свидетельство того, что русская поэзия поистине была для Вадима Кожинова божеством.ц