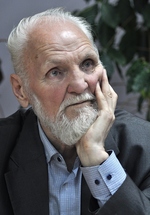Этот вопрос мы задали заведующему кафедрой языкознания филологического факультета МГУ, профессору МГУ и МДА Александру Александровичу Волкову.
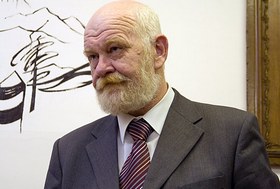 |
| Профессор А.А. Волков |
Античное общество было обществом очень хороших людей, которые очень хорошо друг к другу относились и были весьма терпимы. При этом гладиаторские бои почему-то были запрещены только в V веке по Рождестве Христовом, хотя христианство стало государственной религией в начале IV века. Значит, эти хорошие античные люди могли с вожделением смотреть, как один человек убивает другого, как дикие звери рвут людей на части, как льется кровь. Это возбуждало и радовало зрителей.
У античного человека было другое отношение к смерти. С. Аверинцев называет это статуарностью: человек совершает поступок и любуется собой. Достоинство человека, которое выражается в его поступках, было свойственно всей античности. Античный человек может бояться, его душа может уходить в пятки, его "лядвия наполнишася поруганий", но он смеется, как смеются боги, не показывает своей слабости, своего страха. Поза подменяет собой духовную реальность.
""Идеальное" государство, построенное Платоном, застыло в одной симметрической позе. Это - всецело мраморная статуя. В этом государстве решительно нет никакой истории и нет никаких социальных проблем. Тут сословия застыли в одном определенном отношении друг к другу. Они не развиваются, не живут, не ищут. Все государство как бы вращается в себе наподобие небесного свода.... Тут нет неповторимости, нет историчности. Тут нет биографии, нет идеалов, нет борьбы, нет исповеди. Круговращение и переселение душ тоже ведь не есть история. Это - история, построенная по типу астрономии; это вид астрономии. Тут нет трепещущей волны исторического развития, нет интереса к прошлому и будущему, нет безвозвратности и неповторимости, нет борьбы и победы. Тут - навеки статическое и только внутри себя равномерно вращающееся статуарное бытие, самодовлеющее, вечное и беспорывное. Это - своеобразная группа Лаокоона. Это - скульптурно-отделанная и мраморно-холодная Идея" (С. Аверинцев "Очерки античного символизма и мифологии")
"Выявленное в Библии восприятие человека не менее телесно, чем античное, но только тело для него не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а "уязвляемые потаенности недр"; это тело не созерцаемое извне, но восчувствованное изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаз, а из вибраций человеческого "нутра". Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором однако живет такая "кровная", "чревная", "сердечная" теплота интимности, которая чужда статуарно выставляющему себя напоказ телу эллинского атлета." Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы.- М.: Наука, 1977. - 320с).
Жалость, по Аристотелю, - порок. Сострадание -порок. Человек не может ни бояться, ни переживать ни от чего. Он, до некоторой степени, - герой, который вживается в играемый образ и живет согласно ему. В таком образе жил Муций Сцевола, который жег свою руку и одновременно произносил речь. Подобное поведение - это чудовищная гордыня, тщеславие - это самые страшные грехи.
Подобное поведение - чудовищная гордыня, тщеславие - это самые страшные грехи.
У античного человека другое отношение к смерти, чем у нас сегодня, но это отношение противоположно христианскому отношению к смерти. Для христианина смерть, переход из жизни - таинство.
По этике Платона: суть человека - это душа, а тело - это темница души, от которой необходимо освободиться. Путь к этому освобождению - самоубийство. Для христианина это немыслимо: тело - это храм души, оно воскресает в день воскресения мертвых. Тело и душа принадлежат друг другу. Разрыв их противоестественен. Христианская антропология исходит из неповторимости и духовно-телесной целостности личности. Поэтому аскетизм христианства отличается от языческого, суть его не в уничтожении плоти, а в подчинении плоти душе. Слова те же самые, а содержание другое.
- В чем же мы можем подражать античности и можем ли?
-Безусловно, можем, к этому нас призывали отцы Церкви, в том числе святой Василий Великий. Античность породила сознание достоинства человека, уважение к личности. Важно помнить, что все эти категории в христианстве в значительной степени изменились.
Подробно об этом можно прочесть например в книге блаж. Августина "О граде Божием", беседе св. Ваcилия Великого "Слово к юношам о пользе чтения книг языческих".
Вот что пишет св. Василий Великий: " Поэтому так будем принимать сочинения, в которых заключаются правила добродетели. Например, некто в народном собрании злословил Перикла, но он не обращал на то внимания, и целый день продолжалось, что один осыпал д ругого ругательствами, а другой ни мало о том не заботился. Потом вечером уже, и когда смерклось, этого человека, едва прекративш е го брань, Перикл проводил с светильником, чтоб не даром пропало у него упражнение в любомудрии. Еще кто-то, рассердившись, гро зил смертью Евклиду мегарскому и клялся в этом. Но Евклид сам дал клятву, что умилостивит его и заставит прекратить свое к нему нерасположение. Как хорошо, если приходят на память таковые примеры человеку, когда он одержим уже гневом! Ибо не должно верить трагедии, кот орая без рассуждения говорит: "Р аздражение вооружает руку на врагов ". Напротив того, всего лучше вовсе не приходить в раздражение. Если же это трудно, то по крайней мере, удерживая раздражительность рассудком, как уздою, надобно не дозволять в ыходить ей за пределы.
Но возвратим слово назад к примерам доблестных мужей. Некто, нещадно нападая на Coфронискова сына, Сократа, бил его в самое лице, а он не противился, но дозволил этому пьяному человеку насытить свой гнев, так что лице у Сократа от у даров уже опухло и покрылось ранами. Когда же тот перестал бить: Сократ, как сказывают, ничего другого не сделал, a только, как на статуе пишут имя художника, написал на лбу: сделал такой-то; и тем отмстил. Поелику это указывает на одно почти с нашими прав илами; то утверждаю, что весьма хорошо подражать таким мужам. Ибо этот поступок Сократа сходен с тою заповедью, по которой ударяющему по ланите должен ты подставить другую (Мф. 5, 39.), - В такой мере надобно мстить за себя! А поступок Перикла или Евклида сроден с заповедью: терпеть гонителей и кротко переносить гнев их, и с заповедью: желать добра врагам, а не проклинать их. Посему предварительно обученный сему не будет верить заповедям, как чему-то невозможному. Не умолчу и о поступке Александрово м. Александр, взяв в плен дочерей Дария, о которых засвидетельствовано, что красота их была удивительна, не удостоил и видеть их, считая постыдным - пoбедитeлю уступать над собою победу женщинам. Ибо это указывает на одно с заповедью, что воззревший на жен щину для услаждения, хотя и не совершит прелюбодеяния самым делом, но за то, что допустил в душу желание, не освобождается от вины (Мф. 5, 28.). О поступке же Клиния, одного из близких Пифагору, трудно поверить, чтобы сходство его с нашими правилами было д елом случая, а не тщательного подражания. Что' же сделал Клиний? Дав клятву, мог он избежать потери трех талантов; но лучше заплатил их, чем стал клясться, хотя клятва его была бы в деле справедливом. Он как будто, представляю я, слышал ту заповедь, котора я запрещает нам клятву (Мф. 5, 33.)."
Но и здесь христианство приносит новые смыслы в античные категории: достоинство человека в христианстве - не в том, чего он достоин, а чего он удостоен.
Античность нужно принимать, переосмысляя ее духовную культуру.
[1] Платон, Аристотель и другие древние философы нередко назывались христианами до Христа, так как, во-первых, в их трудах и изречениях встречаются утверждения о Едином Боге, что в античном мире считалось атеизмом и непочитанием богов, а, во-вторых, многие их изречения близки к христианскому учению. Сократ: "Доброго мужа никакое зло не постигнет. Душа наша бессмертна. По смерти будет добрым награда, а злым - наказание". Платон: "Должно надеяться, что Сам Бог ниспошлет небесного Учителя и Наставника людям".
С профессором А.А. Волковым беседовала А. Данилова
http://www.pravmir.ru/article_2496.html