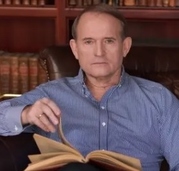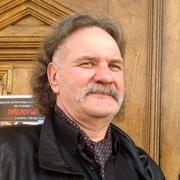Часть 3
Корея: короткая история миссии, но долгая история знакомства
История православной миссии в Корее охватывает самый небольшой отрезок времени. В 1884 году между Россией и Кореей были установлены дипломатические отношения, а духовная миссия была создана в 1900 году. Но начались взаимоотношения с этим регионом гораздо раньше…
Корея, долгое время бывшая страной закрытой, не допускающей у себя экономического или культурного иностранного присутствия, в XIX веке была вынуждена отказаться от прежнего курса. До этого времени знание европейцев о территории, которую занимало это государство, о его народе, природных условиях и истории, было эпизодическим. Например, в XVI веке в Европе Корея на картах изображалась островом. Считается, что именно российскими исследователями эта ошибка была исправлена: в XVII веке впервые стали появляться русские карты дальневосточных территорий (например, атлас Семёна Ремезова, изданный в 1698 г.), где было зафиксировано полуостровное положение страны.
Большой труд по ознакомлению с Кореей был проделан русскими, служащими в Китае. Одним из них был посол в Поднебесной, путешественник Николай Гавриилович Спафарий. Неся дипломатическую службу с 1674 по 1675 гг., он старался собрать как можно больше сведений о дальневосточных государствах, в том числе, и о Корее. В своей работе «Описание первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городы и провинции» Корее посвящена глава «Описание государства Корей, которое между уездом (Леотунг) и Амуром состоит и что при нем в нем обретается».
Корея, бывшая в тот период вассалом Китая, регулярно отправляла в Пекин дань, поэтому при цинском дворе были нередки личные контакты русских и корейских посланников. Швед Лоренц Ланг, служивший у Петра I, в своих дневниках описывал встречи с корейцами в Пекине. Он старался почерпнуть от них как можно больше информации о торговле, экономике, государственном устройстве Кореи.
Несмотря на изоляцию Кореи и противодействие Китая, еще в XVII веке, корейские купцы стали участвовать в эпизодических торговых контактах с русскими, привозя свои товары по рекам Амур и Сунгари. В том же XVII веке силами русских казаков и путешественников начались и первые исследования географии и природы Кореи. Вероятно, русские были первыми европейцами, с которыми Корея вступила в торговые отношения. И если «Россия в лице своих различных представителей стала первой европейской державой, вступившей в контакт с Кореей»,[1] то «российские духовные миссии в Китае сыграли определяющую роль в открытии Кореи».[2]
Научное значение трудов, которые создали участники пекинских духовных миссий не было бы таким решающим для изучения Китая, Кореи и других дальневосточных территорий, если бы не сложилась известная ситуация, когда только священнослужители и небольшое число студентов, которые изучали восточные языки, допускали в Цинскую империю.
Уже упоминаемый начальник восьмой Пекинской миссии Иакинф (Никита Яковлевич) Бичурин, признанный одним из основателей русской синологии, уважаем и современными корееведами за вклад в научное изучение этой страны. В своей книге «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» Бичурин опубликовал материалы по истории народов Корейского полуострова с первых веков до н. э. до IX в. н. э., извлеченные из китайских династийных историй. В частности, в переведенной с китайского языка работе шла речь о корейских государствах и королевстве Чаосянь (Чосон). Вероятно, именно Бичурин положил начало изучению в России истории корейского народа. Кроме переводов китайских источников, Иакинф Бичурин писал собственные сочинения, для чего взялся изучать не только китайский, но еще и маньчжурский, монгольский и корейский языки. По возвращению в Россию он написал ряд статей на различные темы, касающиеся, в том числе, и о соседних с Китаем государств.
О Корее писали и другие участники пекинской духовной миссии. В частности, друг Бичурина – пристав миссии Егор Федорович Тимковский, а также участник одиннадцатой миссии (1835 – 1840 гг.), Аввакум (Дмитрий Семенович) Честной.
Еще одним миссионером, сделавшим значительный вклад в корееведение стал известный исследователь Палладий (Петр Иванович) Кафаров, начальник Пекинской миссии с 1847 по 1859 гг. По предложению русского географического общества он участвовал в экспедиции в Уссурийский край. Именно там он соприкоснулся с географией и историей Кореи. В результате поездки были изданы две его работы: «Исторический очерк Уссурийского края в связи с историей Маньчжурии» и «Этнографическая экспедиция в Южно-Уссурийский край».
В 1860-е годы из-за ряда неурожайных лет началась миграция корейцев на российский Дальний Восток. Русское правительство было заинтересовано в освоении этих малозаселенных территорий, поэтому корейцам разрешалось селиться в России, они получали те же права, что и российские подданные и в трудной ситуации даже получали материальную помощь. Среди них значительное влияние приобрела Русская Православная Церковь – переселенцы охотно принимали религию страны, в которой им предстояло жить.
История Православной церкви в самой Корее охватывает совсем небольшой отрезок времени. Как уже было сказано, в 1884 г. между Россией и Кореей были установлены дипломатические отношения, духовная миссия же была создана в 1900. Ее начальником был назначен архимандрит Хрисанф Щетковский.
Епископ Хрисанф Щетковский
Как и во всех описанных выше сюжетах о работе православных представительств на Дальнем Востоке – Корейская миссия не избежала серьёзных трудностей из-за противоречий в международных отношениях. Пребывание духовной миссии в Корее распадется на два периода – до и после Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Вследствие оккупации Кореи Японией, российские священнослужители с началом войны были высланы из Сеула и временно остановились в Шанхае в отделении Пекинской духовной миссии.
В довоенный период (1900–1904 годы) были сделаны первые шаги по организации работы.
Русская дипломатическая миссия в Корее. Сеул. Начало ХХ в. В этом здании была совершена первая в Корее православная литургия.
Первый начальник миссии архимандрит Хрисанф (Щетковский) за четыре года проделал значительную работу помимо собственно проповеди: он начал переводить богослужебные книги, успел набрать учеников, окрестить нескольких человек и нескольких подготовить к крещению. Первая православная школа, основанная архимандритом Хрисанфом, приняла в свои стены 12 мальчиков, часть которых начальник миссии содержал полностью за свой счет. Взять на попечение всех учеников, как это было в Японии, не было возможности.
Помимо миссионерского служения архимандрит Хрисанф также продолжил традицию научно-публицистического осмысления своей работы и тех реалий, которые его окружали: в 1902-1905 годах он выпустил ряд работ на эту тему: «Православная Корейская (в Сеуле) духовная миссия», «Из писем корейского миссионера», «От Сеула до Владивостока» — путевые заметки миссионера».
Никольский собор – кафедральный собор Корейской митрополии Константинопольской православной церкви. Сеул (Южная Корея). Первый храм в честь святителя Николая Чудотворца (Чон-дон) был разрушен во время Корейской войны. Нынешний собор был построен в 1968 году благодаря греческим солдатам миссии ООН. В храме находятся две иконы, которые были привезены первыми русскими миссионерами: список Тихвинской иконы Божией Матери и преподобного Серафима Саровского.
Ещё одним важным событием первого периода стало возведение первого в Корее православного храма в честь святителя Николая Чудотворца (Чон-дон), который был освящён в 1903 году.
Особое отношение к Русской церкви в тот период было вызвано улучшением русско-корейских отношений. Ослабленная Корея была объектом притязаний многих стран, среди которых сильную позицию занимала Япония. Среди правящей элиты страны существовала определённая часть с прорусскими взглядами, были чиновники, которые приняли крещение. Поэтому на первых порах корейские власти, уже знакомые с католицизмом и протестантизмом, благоволили распространению православия.
Проект храма в Сеуле.
Проект храма в Сеуле. Иллюстрации из журнала «Зодчий» за 1904 год.
Однако война помешала развитию этих тенденций. Отец Хрисанф был вынужден покинуть страну и уже не вернулся: в 1906 году он умер от чахотки, прожив всего 37 лет.
Положение на Дальнем Востоке усложнялось: Корея была вынуждена в 1906 году принять японский протекторат. После Русско-японской войны (1904-1905 годах), которая сложилась для нашей страны кране неудачно, Россия признала Корейский полуостров сферой интересов Японии. Когда началась стабилизация русско-японских отношений, возобновилась и работа Корейской православной миссии.
Послевоенный период считается годами самой активной деятельности православной миссии в Корее. Руководителем ее стал деятельный архимандрит Павел (Ивановский), бывший ранее миссионером среди корейцев Российской империи. Очень помогало его образование: он был выпускником китайско-корейского отделения Восточного института во Владивостоке, знал корейский язык.
Епископ Павел (Ивановский).
Архимандрит Павел с энтузиазмом взялся за дело: за 6 лет его служения в Корее было построено несколько миссионерских станов, церквей и школ, а также 4 молитвенных дома (в городах Кёхе, Каругай, Сончон, Ильсан). К 1917 году в Корее существовало 7 школ на 220 мест для корейских детей с 20 учителями. В послевоенный период в составе миссии трудилось семь сотрудников: начальник, два иеродиакона, учитель, регент и два русских певчих.
За время своего пребывания в Корее о. Павел крестил 322 корейца, а также организовал работу по продолжению перевода на корейский язык богослужебных книг. Кроме того, Павел (Ивановский) опубликовал две книги о христианстве в Корее: «Современное положение христианских миссий в Корее» и «Корейцы – христиане».
В 1912 году архимандрита Павла вызвали в Россию, он был постановлен в сан епископа Никольско-Уссурийского, викария Владивостокской епархии. С начала своей работы духовная миссия в Корее находилась в подчинении митрополита Петербургского, а с 1908 году перешла в ведение епископа Владивостокского. Это подчинение сохранялось и в период существования Дальневосточной республики (1920–1922 годы).
Находясь в России, епископ Павел (Ивановский) продолжал де-факто принимать участие в руководстве миссией, и это продлилось до его смерти в 1919 году. Непосредственно в Корее в тот период начальники миссии довольно часто менялись: в 1912 году на место руководителя был назначен архимандрит Иринарх (Шемановский). К этому времени Корея была официально аннексирована Японией (1910 год). В 1914 году руководство принял игумен Владимир (Скрижалин). В 1917 году три с половиной месяцев миссия находилась под управлением иеромонаха Палладия (Селецкого), в том же 1917 году в Сеул прибыл архимандрит Феодосий (Перевалов).
Революционные события в России, естественно, отразились на православных представительствах за рубежом, и Корея не стала исключением. История миссии после революции 1917 года – это уже не столько описание служения и сведений о результатах работы, сколько история выживания, перемен в подчинении, и всё это – в обрамлении довольно непростого и местами трагического контекста истории Кореи в ХХ веке.
После разрыва прежних связей и прекращения финансирования из России, миссия переживала трудные времени и даже некоторое время получала денежную помощь от представителей англиканской церкви, что позволило в какой-то степени сохранить представительство. Позже участникам приходилось изыскивать средства самостоятельно: например, сдавать землю в аренду.
С 1921 по 1944 год Корейская миссия находилась в ведении Преосвященного Токийского, с 1944 года – в ведении Преосвященного Харбинского и Восточно-Азиатского. В 1930-е годы частью священнослужителей предпринималась попытка примкнуть к Русской Православной Церкви Заграницей, однако большинство православных в Корее предпочли остаться в ведении Токийской кафедры, руководимой Сергием (Тихомировым). А он, как уже было сказано, сохранил прежнее положение Японской миссии – с признанием главенства Московского Патриархата. То же самое относилось и к подчинённой ему миссии в Корее.
История миссии продолжалась до середины ХХ века. В тот период общее напряжение в мировой политике привело к разгоранию конфликта, ареной для которого стала Корея. Корейская война (1950-1953 годы) и последующее разделение страны на две части стало вынужденной точкой во многих процессах на полуострове, в том числе, в религиозной и культурной сфере. Однако в настоящее время в той или иной форме православные общины существуют в обоих корейских государствах, там пребывает духовенство, и служение продолжается.
Православный храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне. (Северная Корея). Построен в 2003—2006 годы.
Послесловие
Существование православных миссий в странах Дальнего Востока – явление духовно значимое с точки зрения православного христианства, интересное и содержащее множество трогательных, научно-важных, эмоционально-насыщенных и полезных для современности сюжетов. Несмотря на общие методы работы и схожесть в подходах миссионеров к своим задачам, результаты их работы в разных странах во многом отличались. Уникальность каждой миссии складывалась как из внутренних причин (в частности – зависела от того, какие люди ехали работать миссионерами в заграничные страны), но также огромное и часто трагическое значение играли внешние причины и обстоятельства. Среди них – войны, религиозная нетерпимость, давление и доминирование западных держав над традиционными и в какой-то степени беззащитными в тот момент странами Дальнего Востока, внутренние социальные и международные конфликты и многое другое. В каждом отдельном случае эти процессы создавали зрелищный, хоть и порой драматический контекст.
Естественно, наибольшее количество материала для рассмотрения миссионерства на зарубежном Дальнем Востоке нам даёт миссия в Китае, что закономерно, учитывая самую протяжённую историю её существования. Пекинская духовная миссия, отличалась главным образом тем, что стала крупным и первым в своем роде научным центром, пользовалась популярностью, как школа языков и замечательная ступень в карьере ученого – востоковеда того времени.
В свою очередь отделение Русской Православной Церкви в Токио ассоциируется с подвижнической деятельностью одного человека – святителя Николая Японского, работа которого подготовила целый штат священнослужителей и миссионеров из числа японцев. Русские священнослужители в Токио начинали свое дело не с нуля – они могли частично воспринять опыт миссионеров Китая, пользоваться переведенной на китайский язык литературой. Кроме того, служба святителя Николая в Японии с самого начала подразумевала миссионерство, и он не только был готов к этому, но по-настоящему хотел этого и верил в успех православной проповеди среди японцев.
Отдельным впечатляющим эпизодом является история работы православных миссионеров в условиях войны, их помощи русским военнопленным, которая совершалась с санкции японских властей и тот факт, что епископ Николай в эти опасные времена не покинул вражеское государство. Благотворительную работу во время войны полностью осуществляли православные японцы, так как почти все русское духовенство покинуло острова. Эти сведения придают особую значимость работе миссии, поскольку это было не просто помощью людям, попавшим в беду, но и большой шаг в налаживании отношений между японцами и русскими.
В особых условиях с самого начала оказались члены миссии Русской Православной Церкви в Сеуле, поскольку вторая половина XIX века была периодом развития русско-корейских связей. Исследователи приписывают России «открытие» Кореи после периода изоляции и, как следствие, установление дружественных отношений между странами. До отправления в Корею, русские дипломаты и священнослужители могли ознакомиться с разговорным корейским языком из-за большого количества иммигрантов, живших в России. Но изменение международной обстановки, война и фактический протекторат Японии над Кореей, а потом и революция в России свели на нет все эти благоприятные условия. Хотя, благодаря талантам двух известных начальников, миссия достигла некоторых успехов.
Роднило все дальневосточные миссии желание учить местных жителей глубокому пониманию христианства, а не поверхностному узнаванию его основ. Долгая подготовка каждого обращенного к принятию крещения, а не стремление «накрестить побольше»[3] повсеместно отличало православных миссионеров в их заграничном служении.
Об авторе: Мария Анатольевна Байбородина родилась в 1985 г. в Иркутске. В 2008 г. окончила исторический факультет Иркутского государственного университета. С 2016 г. – научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея. В 2022-2024 гг. обучалась в магистратуре исторического факультета ИГУ, став в этот период одним из победителей конкурса на получение именной студенческой стипендии Фонда В. Потанина. Автор ряда научных и научно-популярных статей, опубликованных в исследовательских и научно-просветительских изданиях, имеет одну публикацию в молодёжном литературном журнале «Азъ-арт». Также писала статьи для СМИ и просветительских групп и проектов в интернете.
Иркутск, 2024 год