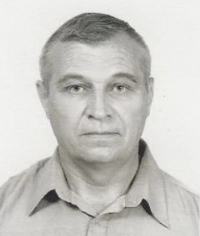Конечно, здесь рассказывается далеко не о всех поездках. Содержание этих заметок взято из первого тома моих воспоминаний, составленных в 2011-м году. После 2011 года было множество поездок – они описаны в последующих томах.
Жажда познаний стимулировала множество поездок. Как правило, они проходили в период отпусков. Время и место поездки было обусловлено большим церковным праздником в каком-либо регионе. Обычно я созванивался с правящим архиереем, попросту излагал свое желание приехать и неизменно получал на это согласие. Самые ранние поездки в качестве насельника Данилова монастыря были в Омск и Нижний Новгород (тогда еще Горький).
В Омске в это время (1985 год) был, покойный уже, епископ (впоследствии архиепископ) Максим. Незабываемы моления в его домовой церкви и долгие разговоры за трапезой. Будучи иеродиаконом, я произнес здесь несколько проповедей, трезвонил в колокола (это было во всех поездках). Помню, как служили в Никольской церкви Омска. При подъезде машины владыки, староста, стоявший «на стреме», подобно индейцу издал гортанный крик (это был сигнал для звонаря) и опрометью побежал к храму встречать владыку. После службы был такой казус. Мне было поручено сложить все архиерейское облачение в машину. Приехали в резиденцию и машину отпустили. На вопрос владыки: «А где облачение?» - немая сцена. К счастью, совестливый шофер вскоре вернулся, и облачение благополучно заняло свое место. Жил владыка в том самом домике, в котором в 1975 году зверски убили епископа Мефодия. Владыка показывал место, где произошло убийство. Запомнилось еще, как огромный сторожевой пес по кличке Тобол упал в погреб архиерейской резиденции. Довольно грузному архиерею пришлось лично спуститься в погреб, чтобы помочь выбраться наружу верному псу. На легковой машине, преодолев огромное расстояние, побывал с владыкой в Тобольске на праздновании памяти св. Иоанна Тобольского. Вместе с нами в машине были две старенькие монахини и блаженный Гена, которого владыка очень почитал. По пути в Тобольск останавливались в г. Ишиме, где я общался с будущим епископом Зарубежной Церкви Евтихием и в Тюмени, где поразил своими размерами Знаменский собор. Владыка говорил: «Мы маленькие, я – кроха» (его фамилия была Кроха). В Омско-Тюменской епархии было тогда всего восемь приходов. Обратил внимание на «прием» владыки – неожиданно предлагать священникам произнести проповедь («Священник должен быть всегда к этому готов», - говорил он). Помню, в канун праздника Троицы он предложил произнести проповедь двоим: искателю места из Ивановской епархии и молодому иеромонаху из Питера – о. Ионафану (ныне митрополит Тульчинский, на Украине). Первый «поплыл», а о. Ионафан проповедь произнес блестяще.
В Нижнем Новгороде запомнилась экспрессивная личность владыки Николая (Кутепова). Подведомственное духовенство он держал в ежовых рукавицах. Однажды на Литургии на малом входе протодиакон слишком быстро вышел с Евангелием, а владыка ему громко: «Отец (имярек), если Вы спешите домой поскорее уйти, то можете идти». Мне тоже досталось за то, что на сугубой ектенье помянул только «братию святаго храма сего» (так в служебнике), а у них добавляли еще –”и прихожан”. Побывал с владыкой в Арзамасе, где в величественном Воскресенском соборе совершалось погребение плащаницы Божией Матери.
Поездок в Воронеж через Задонск и Елец было много по причине 15-летнего опекания нашей общиной в Воронежской области двух десятков деревень. Еще в первой поездке в сане иеродиакона я подружился с о. Георгием, протодьяконом Покровского кафедрального собора.
В женских скитах под Задонском - великолепные святые источники. В них мы непременно старались окунуться. Всю дорожную усталость, как рукой снимало.
Курск. Незабываемый о. Лев Лебедев — колоритный священник, с которым я познакомился в Даниловом монастыре, проводя экскурсию. Завязалась переписка в связи с его статьями в «Богословских трудах» о Патриархе Никоне. В бытность на курской кафедре архиепископа Хризостома о. Лев был, пожалуй, единственным, кто позволял себе с чем-то не соглашаться в действиях архиерея.
Запомнилось, в частности, как на архиерейских литургиях, когда опускали ектенью об оглашенных, о. Лев вполголоса, так чтобы было слышно владыке, читал ее. Важность этой ектеньи он обосновывал тем, что она знаменует собой отделение на Страшном Суде овец от козлищ («оглашенные изыдите»). А поскольку тема Страшного Суда как-то притеняется, то вот и ектенью об оглашенных стараются опускать. С большим добродушием рассказывал батюшка о справедливых и несправедливых архиерейских прещениях в свой адрес. Ходил он по городу с протопопским посохом, зимой в длинной шубе и меховой шапке, напоминавшей боярскую. В городе его все знали. Достаточно было сказать таксисту на вокзале: «Мне к о. Льву», и доставка была гарантирована. Было у него неприятное искушение с «зеленым змием». Однажды после очередной жалобы, владыка Ювеналий ему написал: «Так, что же будем делать о. Лев?». Видя его страдания и страдания в этом плане других людей, я все больше ужасался пагубности этого зла. Батюшка очень возмущался по поводу слов, услышанных от одного архиерея:«Наше спасение, о. Лев, в католичестве». Был он оригинальным мыслителем. Помню, как поразил, рассказывая о своих планах написать что-то духовное, богословское на основании анализа расписания движения железнодорожных составов накануне октябрьского переворота. Мог демонстративно встать на большом собрании и, отряхивая пыль со своих ног у выхода из зала, громко заявить о причине своего поступка. Раньше о. Лев служил в Смоленской епархии. Смоленский епископ Феодосий (ныне митрополит Омский и Тарский) притеснял батюшку за его стремление совершать таинство крещения через полное погружение (по этой причине уже в Омской епархии от Феодосия ушли братья Курочкины – так в России возникли первые приходы Зарубежной Церкви). Впрочем, отношения у о. Льва с владыкой Феодосием сохранились теплыми и после ухода из епархии. Владыка часто писал о. Льву. В начале писем обращался к нему и его симпатичной матушке-гречанке: «Милые мои, лебеди». Еще запомнилось, что на новогодней елке у них было множество лебедей и львов.
Посетил с прихожанами Курскую-Коренную пустынь, где наместником был тогда архимандрит Иоанн. По-детски непосредственный, трудолюбивый, чрезвычайно общительный и открытый человек. Очень интересовался старым обрядом. К сожалению, Литургию здесь послужить неудалось, только вечернее богослужение. «Глаза и уши» совершенно уже физически немощного, но очень волевого владыки Ювеналия, оперативно ему сообщили о необычных паломниках обители. Наутро он вызывает к себе наместника вместе со мной. Запомнился пристальный, проницательный взгляд владыки. Впрочем, поговорили вполне мирно.
Вологда. Незабываемая поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Фотографии монастыря еще в детстве висели в моей комнате на стене с заголовком: «То чуду подобно...»
Запомнилась аудиенция у владыки Михаила (Мудьюгина) в его довольно скромной резиденции. Протягиваю ему на прощанье номер «Даниловского листка», который я тогда редактировал, с материалами о празднике Введения. Он с заметным неудовольствием: «И откуда Вы берете такие материалы» (о празднике известно из Предания - либеральные богословы несколько скептически относятся к некоторым его частям).
Архангельск. Много духовенства с Украины. Поразили масштабы здания епархиального управления, заложенного еще при епископе Пантелеимоне. Епископ Архангельский Тихон (+2010 г.), выпускник Петербургской духовной академии, очень выдержанный, служит «лаконично», «сбалансированно». Приглашенный на ужин, предъявляю документы, он, не глядя, с улыбкой: «Так, кто ж Вас не знает». Посетил Антониево-Сийский монастырь, где очень деятельный наместник архимандрит Трифон (Плотников). Во время Богослужения у меня невольно проскальзывали какие-то элементы старой богослужебной традиции, в частности, буква «д» в слове “сердце” четко выделялась. О. Трифон рассказывал, что когда он стал в этом подражать, владыка сделал ему замечание.
Оренбург. Покойный митрополит (тогда архиепископ) Леонтий служил очень порывисто - следствие контузии во время войны. Профессор МДА К. Е. Скурат рассказывал, что в молодости владыка был очень строгим инспектором семинарии, особенно во время экзаменационных сессий. Однажды находчивые студенты организовали ему ложную телеграмму-вызов, чтобы избавиться таким образом от его присутствия на экзаменах. Много здесь общался со схиархимандритом Серафимом (Томиным) - исповедником Православия. Несколько лет батюшка был благочинным Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Запомнилось, что в его доме не было свободного места от икон. Было также много частиц мощей. Большой мощевик с частицами мощей Киево-Печерских угодников о. Серафим подарил Данилову монастырю.
Из дневника настоятеля:
Рассказ схиархимандрита Серафима (Томина) о своей жизни
«Родился я в деревне, в Оренбургской области, в 1924 году. Отец был ярым безбожником, организатором колхозного движения. В 13 лет схиепископ Петр, бывший в ссылке, надел на меня подрясник со словами: «Не снимай до смерти». Отец избивал до полусмерти, так как ему кололи глаза - сын монашенок, попенок. Даже попросил «органы» забрать меня и попугать - наган приставляли, по щекам били. Я убегал на кладбище, знал, что отец туда ночью не пойдет, и засыпал на могиле. Отец утром находил, избивал плеткой.
Трудное у меня детство было. Церковь испытывала страшные гонения. Работники органов бросали жребий: за убийство монаха - 25 рублей, священника - 50 рублей, архиерея – 100 рублей. Простую старушку за протест при закрытии церкви забирали и – с концами. За наличие Библии расстреливали. В конце концов, отец меня выгнал. Я поселился в хибарке в соседнем дворе. Решил построить себе келейку. Господь наделил меня дарами - я и столяр, и жестянщик, и печник и т. д. Приходили активисты: «Выселяйся, нам для колхоза нужно». Всего построил семь келий. Они и сейчас в деревне стоят. Покупать можно было только на карточки, даже спички; я просил бабушку, и она покупала мне хлеба».
Екатеринодар. С владыкой Исидором тоже познакомился на экскурсии в Даниловом. В Екатеринодарском соборе произнес проповедь в защиту канонической росписи (в народе было смущение по поводу росписи собора). Владыка любезно направил меня в дом отдыха. Меня здесь ловко обворовали - влезли через балкон. Владыка не оставил в беде - компенсировал мои утраты сполна.
Вятка. Долгие беседы с владыкой Хрисанфом, в частности, на тему, кто больше зла принес стране - коммунисты или демократы. Владыка родом из Ровенской области, в молодости настрадался от коммунистов. Я же делал акцент на многочисленных фактах пагубности правления демократов. Службы здесь тоже «лаконично» совершаются. Запомнилось, что регламент проповеди не более 10 минут. Попросил семинариста дать знать, когда время выйдет, чтобы сказать заключительное: «Итак, братья и сестры…»
Екатеринбург. Почти месяц жил со старостой в резиденции епископа Никона, с которым был знаком еще по Воронежу по линии Союза Православных братств. Совершил Литургию по старому обряду в его домовой церкви. Занимался разбором архиерейской библиотеки. Ездили в Курган в гости к епископу Михаилу (+2088 г.).
Владыка все подчеркивал: «Моя вера – «бабушкинская» и просил меня высказаться по разным богословским предметам, в частности, на тему диалога с монофизитами.
Иркутск. Жил несколько дней в пос. Листвянка на берегу озера Байкал - на даче у о. Калиника, иркутского ревнителя благочестия.
Удивило, с какой жаждой слушали мои проповеди прихожане Знаменского монастыря. Запомнилось выступление колоритного казачьего атамана Меринова на казачьем круге, на котором мы присутствовали с о. Калиником, и шествие казаков через весь город к памятнику Александру III.
Новосибирск. Покойный владыка Сергий на всенощной вместо кафизм произносил небольшую проповедь. Держался на дистанции. Настоятель Александро-Невского собора - очень деятельный о. Александр Новопашин. Активно занимается противосектантской деятельностью. Запомнилось посещение старообрядческого епископа Силуана. Очень добродушный, общительный владыка. Уютная небольшая церковь во имя св. мч. Евгения - построила ее мать в честь своего погибшего сына-воина Евгения.
По пути я познакомился с настоятелем собора св. Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным, о котором раньше много слышал. Спрашиваю его: «Сколько у вас служат священников?», ответ — 11 священников и 4 или 5 диаконов. Главная тема разговора с о. Александром была об экспансии католицизма в Сибирь. Католики избрали как центр Сибири Новосибирск (бывший Новониколаевск) основным объектом своей экспансии, прозелитизма. Это выражается в постройке огромного католического собора, в активной работе с молодежью и студенчеством в Академгородке, в работе с детьми, устройстве приютов. Когда их упрекают в религиозной обработке детей, они отвечают, что это приют, чисто социальное учреждение, хотя там католические монахини обрабатывают в католическом духе.
Владыка Сергий — правящий епископ Новосибирский — вначале как-то напугал духовенство своими проэкуменическими высказываниями и заигрыванием с католиками, но потом постепенно охладел к ним, и у него изменилась позиция. Видимо, под впечатлением натиска католицизма он изменил к ним свое отношение. Раньше утверждал, что католики — это не еретики, а потом подчеркивал, что это большая опасность. Также коснулись личности о. Бориса Пивоварова, который особенно активно ратует за экуменизм в Новосибирске. Рассказал о. Александр о попытке местного прославления Царской Семьи. Тогда была такая тенденция прославлять Царскую Семью на местном уровне — это имело место в Санкт-Петербурге, на Алтае, в Екатеринбурге. Было это все как-то половинчато - документов нет, осуществлялось оно во многом явочном порядком. Владыка Сергий тоже пытался под давлением духовенства как-то добиться этого решения — благословения Патриарха на местную канонизацию, но ответ был отрицательный - до общецерковного прославления никаких местных канонизаций проводить не благословляется. К моему удивлению, очень нелицеприятные были отзывы об отце Олеге Стеняеве. Для меня это было необычно слышать, с отцем Олегом я в хорошем контакте.
Гимназия, которую организовал отец Борис Пивоваров в Новосибирске, финансируется Всемирным Советом церквей. Финансовая зависимость диктует определенную позицию. Он в тесном контакте с отцом Георгием Кочетковым. У отца Александра Новопашина при его храме существует антисектантский центр, который вызвал большую злобу местных сектантов, сатанистов. Был пожар, при котором погиб сторож. Потом отцу Александру прислали письмо: «Ну, как вам понравился наш пасхальный подарок?» Случаи поджогов храмов были неоднократны, нецензурная брань на стенах храмов — сатанисты не спят.
Коми. Владыка Питирим очень приветливо встретил, пообедали в его квартире вместе с его матерью – игуменией женского монастыря. Осмотрел строящийся кафедральный собор. В основном время провел в мужских монастырях. Как всегда, сугубый интерес проявил к национальной специфике региона. Оказывается, и здесь имеют место сепаратистские тенденции. Впоследствии в отношениях с владыкой случился «напряг». Произошло это в доме моего старого друга - священника. Дело было до объединения с зарубежниками. Оно уже «витало» в воздухе. В гостях у батюшки было несколько священников из Зарубежной Церкви, в том числе и знаменитый о. Виктор Потапов. Владыка задал благостный тон общению: «Строятся храмы, идет возрождение, экуменизм пошел на спад» и т. д. Настала очередь сказать мне. Начал с таких слов: «На мой взгляд, все не так однозначно. На самом деле, в епископате нашей Церкви имеется очень сплоченная, влиятельная группа экуменистов-либералов». У владыки, что называется, «челюсть отвисла». Утром он жалуется настоятелю: «И что это себе позволяет о. Кирилл, я ночь не спал». Не меньше был озадачен и о. Виктор, не ожидавший встретить в среде патриархийного духовенства такого «махрового» фундаменталиста и антиглобалиста.
Псков. Неделю жил в женской обители на окраине города и каждый день служил. Беседовал о церковном пении с архиепископом (впоследствии митрополитом) Евсевием, но общего языка не нашли. Как я понял, он «на дух» не переносит знаменное пение. Энергичная и гостеприимная игуменья Людмила повозила по области - в Михайловское, на родину св. равноап. княгини Ольги и т.д. Особенно запомнилось посещение старца Николая Гурьянова. Плывем по озеру на катере. Игумения – на корме, ее заливает волнами. Совершенно спокойная, привыкла. Старец ласково встречает игумению, а мне: «А батюшку – не пущу». Я опускаю голову, заранее настроил себя на «крайнее смирение». “Матушка игумения, покушайте сладенького”, - приговаривает старец, кладя игуменье в рот очередную порцию конфет. Та безропотно повинуется. Дошла очередь до меня. Я пожаловался на болезнь желудка и стал получать свою порцию сладкого. В мыслях: «Как же так, без воды, будет же плохо». Старец, словно прочитав мои мысли, говорит: «А вот, компотиком запей». Помню, что после этого на долгое время боли в желудке затихли. Вдруг старец, глядя пристально поверх меня, несколько раз ладонью сильно ударяет меня по голове. Я смиряюсь зело, видно бесов увидел, которые кружатся, нашептывают, влагают нехорошие мысли.
Смоленск. Был здесь несколько раз. Опишу одну из поездок, состоявшуюся в 2004 году. Получив благословение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, я с 14 прихожанами отправился в не очень далекий путь. Наша цель - совершить молебен по древнему чину у Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Одигитрия» или «Путеводительница».
И вот мы в Смоленске. Размещаемся недалеко от города в гостинице. Встречаем много знакомых. Заходим в столовую — навстречу две старенькие монахини. Они хорошо помнят меня по Данилову монастырю. После завтрака едем в город. Нам очень повезло с экскурсоводом Марианной. Своими знаниями, неравнодушием, любовью к тому, о чем говорит, она расположила нас к себе и заставила полюбить Смоленск.
Город очень древний. Согласно летописям, его посещали князья Аскольд и Дир. Апостол Андрей Первозванный тоже подходил к Смоленску. Завоеватели всех времен и народов проходили через город-ключ Смоленск.
Выходим из автобуса на бульваре героев 1812 года, вдоль аллеи – бюсты: фельдмаршала Кутузова-Смоленского, генералов Барклая де Толли, Багратиона, Раевского, Неверовского. На гербе Смоленска: щит и пушка, повернутая на запад, а на пушке – птица счастья - Гамаюн. Здесь же увековечена память героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе Егорова, водрузившего в Берлине Знамя Победы.
Отдав дань уважения и признательности героям, отправляемся в монастырь XII века — Авраамиев, расположенный у восточной стены Смоленской крепости. От него почти ничего не осталось — кругом разруха и запустение. Но в Спасо-Преображенском храме теплится духовная жизнь.
Авраамиев монастырь передали Церкви только год назад. Это единственный мужской монастырь здесь. Храм еще не освободили, так как там находится единственный сохранившийся архив — книгохранилище миллиона книг. Литургия совершается в небольшой пристройке. Наместник — архимандрит Аркадий.
Отец Аркадий раньше был наместником Иоанно-Предтеческого монастыря в Вязьме. В 1989 году владыка Кирилл приглашал меня возглавить этот монастырь, но не получилось и назначили о. Аркадия ( Я не очень лестно отозвался об экуменизме, и через некоторое время владыка сказал мне: «Ты знаешь, тебе там будет трудно»). Через пару лет я побывал в нем с детьми воскресной школой Данилова монастыря. Сейчас этот монастырь стал женским.
Главные святыни Авраамиева монастыря — частицы мощей местных святых. Под спудом мощи основателя монастыря прп. Авраамия — просветителя, иконописца, строителя монастырей. В монастыре также имеются: частицы мощей великомученика Меркурия, по повелению Божией Матери защитившего Смоленск от орд Батыя в 1238 году, прп. Макария Калязинского, праведной Анны Кашинской, глава святителя Симеона Смоленского и многих других. Еще там есть очень редкая икона: святитель Никола совершает литургию.
Перед всеми этими иконами мы пропели величания знаменным распевом, попарно прикладывались. Прощаясь, я сказал: «Мы чувствуем, что здесь очень важное место. Ни в каком другом смоленском храме не увидишь такого собрания икон, написанных в каноническом стиле, и, что особенно ценно, местных святых. Мы как бы приобщились местной святости, которую принесла Господу Смоленская земля. Поэтому мы здесь и задержались, так как не хотели комкать начало посещения города, а, прежде всего, неспешно и основательно помолились. Дай Бог, чтобы этот духовный заряд сохранился надолго». Пропев величание перед чтимой иконой «Преображение Господне», отправляемся дальше.
В 1991 году были восстановлены и стали действующими еще три храма XII века: во имя Архангела Михаила, апостола Иоанна Богослова и Первоверховных апостолов Петра и Павла. В XII веке в городе было пять монастырей и 30 храмов. Строили их Владимир Мономах и его сыновья.
Храм апостолов Петра и Павла старше Москвы на год. Он сооружен в древнем византийском стиле из красного кирпича. Его воссоздали так, что древний и новый кирпич соседствуют, вкрапляясь в старую кладку. Поэтому дух XII столетия чувствуется очень остро. Иконостас храма расписан в рублевском стиле.
Заходим внутрь. Прочитали молитву перед иконой благоверного князя Ростислава, который больше всех построил храмов в Смоленске. Также прочитали молитву свв. Апостолам Петру и Павлу. Было большое желание совершить здесь всенощную и Литургию по древнему чину.
Далее отправляемся к главной цели нашей поездки — кафедральному Успенскому собору, где предстоит совершить молебен.
Собор расположен на самой высокой точке города, на Смоленской горе. Он огромен и отовсюду виден. Построен в XVII веке. С точки зрения архитектуры – это пик того, что старообрядцы называют «никонианством». Дело в том, что десятилетиями в Смоленске митрополитами были выходцы из Украины и Белоруссии, что очень отразилось на храмостроительстве. По сути, это украинское барокко. Успенский собор вмещает восемь тысяч человек, он один из крупнейших в стране. В соборе две святыни: Плащаница XVI века и икона Божией Матери «Одигитрия». Есть еще один образ Смоленской иконы, а также сандалии великомученика Меркурия.
В основном, все в западном стиле, неуютно. Рядом Благовещенский собор, где проходит крещение. Кстати, только в храме Новомучеников (уменьшенная копия храма Христа Спасителя) в новом «спальном» районе Смоленска устраивается баптистерий. Также на Соборной горе находятся рабочая резиденция митрополита, епархиальное управление, приходской дом, межепархиальное духовное училище с храмом св. Иоанна Предтечи, колокольня.
Входим под своды Успенского собора, все внимание сразу устремляется на главную святыню — Смоленскую икону Пресвятой Богородицы. Этот список с чудотворной иконы был сделан в 1517 году Осипом Ростовцевым. Не раз русские люди прибегали к Пречистой, прося Ее помощи и заступничества. Перед этим образом нам предстоит совершить молебен.
Все волнуются: как воспримут верующие Смоленска то, что столетиями пытались уничтожить огнем и мечем? Все непривычно: наши сарафаны, косоворотки, платки под булавочку, лестовки, наши поклоны и метания с подручниками, древнее облачение и древнее крюковое пение.
Подошли настоятель храма отец Михаил и два священника. Я обратился с приветственным словом: «Ваше Высокопреподобие, дорогие отцы, братья и сестры! Я, игумен Кирилл, насельник Свято-Данилова монастыря, настоятель Троице-Никольской церкви на Берсеневской набережной города Москвы, прибыл по благословению Его Высокопреосвященства, владыки митрополита Кирилла для того, чтобы совершить молебен по старому обряду у великой святыни — Смоленской иконы Божией Матери.
Кстати, это уже не первый случай подобного рода. Совершали мы молебны по древнему чину у мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобного Иосифа Волоцкого. Будучи в Калининграде, я совершал молебен в Спасском соборе пред образом Спаса Нерукотворного. Таким образом, уже есть некая традиция совершения таких молебнов.
Мы сознательно не оповещали никого о том, что будет такой молебен, учитывая то, что кому-то это будет непривычно, необычно и может вызвать даже какое-то смущение. У нас же просто потребность в такой молитве».
В половине второго начался молебен. Спокойно, мощно, гармонично, без единого сбоя, на одном дыхании, удивительно благодатно. На молебне присутствовало около сорока человек.
Прекрасное пение Алексия Кантора - головщика хора, Наталии Панюшкиной, Людмилы Русиновой. Хорошая акустика подчеркивала слаженность и мощь молитвы. Чувствовалось благодатное присутствие Богоматери, веяние Духа Святаго. Как будто струя чистейшего, напоенного смолой вековых хвойных лесов воздуха, вошла в собор, напоминая, что есть другое, древнее, исконное, что еще живы корни, способные возродить могучую Родину. Они просто находятся очень глубоко и их надо разбудить.
Оглядываюсь на батюшек. Выражение их лиц меняется, настороженность сменяется интересом и вниманием. Они даже начинают пользоваться подручниками.
По окончании молебна настоятель собора протоиерей Михаил сказал: «Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Кирилл, дорогие братья и сестры! Позвольте сердечно приветствовать всех вас от лица владыки Кирилла и всей братии нашего собора. Отец Кирилл уже сказал, что он неоднократно бывал на Смоленщине. Мы рады, что духовная связь между нами укрепляется.
По благословению владыки Кирилла у нас проводится большая работа в разных направлениях. Первое приоритетное направление — это духовное просвещение нашего народа и особенно подрастающего поколения.
Смоленск — это ключ Российского государства. Здесь вырабатывается модель взаимодействия Церкви и государства в области просвещения подрастающего поколения. У нас совсем недавно на Народном Соборе принято решение вводить Православие в общеобразовательных школах как обязательный предмет.
Совсем недавно произошло знаменательное событие — на территории военной академии выстроен храм Божий. Господь нас не забывает».
Проходим по храму, поклоняемся иконам, чудотворному Казанскому образу, который несколько лет назад источал святое миро, и уникальной Плащанице. Она была изготовлена в 1561 году в мастерской Ефросинии Старицкой и была вкладом в Успенский Собор Московского Кремля. В 1812 году партизаны отбили награбленные московские ценности в обозе Наполеона. В качестве награды москвичи подарили эту Плащаницу Смоленску.
Не может не быть добрых последствий от того, что произошло. Может быть, это проявится не сразу, ведь большое видится на расстоянии. Если бы во всех кафедральных соборах, хотя бы иногда звучала исконная древняя молитва, в нашей жизни многое бы изменилось.
Ростов-на-Дону (1986 год). Несколько дней провел в резиденции митрополита Владимира (Сабодана). Владыка пользуется большой популярностью как проповедник. Первым делом, после назначения на кафедру, он провел масштабную реставрацию собора и обустройство архиерейских могил за алтарем собора.
Как всегда, посетил старообрядческий храм (постоянного священника нет), армянскую церковь на кладбище. Большое впечатление произвел огромный собор в столице донского казачества в г. Новочеркасске.
Кострома (начало 90-х годов). Энергичный епископ (ныне митрополит Казахстанский) Александр, спокойный и основательный. Ощущение масштабных перемен. Посетил старообрядческого епископа (впоследствии архиепископ) Иоанна (+2010 г.). Очень теплый, простой и гостеприимный старец. Живет с сыном в скромном домике на окраине города. Недавно пережил пожар – никак не может отойти от потрясения. Трудности с управлением Киевской епархией, в связи с чем сын его заметно нервничал. Служил или только посетил почти все храмы города, в том числе Ипатьевский монастырь, старообрядческий храм в селе Стрельниково.
Прокопьевск. В гостях у о. Александра Васькина – в прошлом он инженер на шахте, был даже партийным функционером. Ревностный патриот, остро переживающий за положение русского народа. Монархист, почитатель митрополита Иоанна (Снычева). Есть напряжение в его отношениях с начальством, с могущественными кланами духовенства с Западной Украины. Не удивительно, что в опале. Служил в области, в селе, в бывшем спортивном зале.
Несмотря на энергичность губернатора Тулеева, шахты закрываются. С интересом осмотрел шахту, где в молодости три года работал о. Амвросий (Юрасов).
Больше всего в Прокопьевске потрясла наркологическая больница, в молитвенной комнате которой я с о. Александром совершил молебен.
Шокирующий рассказ главного врача об эпидемии наркомании в регионе, ужасная статистика. Запомнились ее слова: «Молодые, ведь, ощущают себя безсмертными, о смерти, как следствии употребления наркотиков, не думают».
С целью «познания жизни» попросил о. Александра организовать мне спуск в шахту. Удивился, что разрешение было получено. И вот я в шахтерской экипировке спускаюсь в глубину шахты на несколько сотен метров. Для меня, хотя я родом с Донбасса, это впервые. Наблюдаю работу экскаватора в небольшом пространстве – его ковш и «щупальца» напомнили мне динозавров из фильма «Миллион лет до нашей эры». В какой-то момент машина останавливается, воцаряется абсолютная тишина, и тебя начинает окутывать жуть. Через узкий лаз спускаемся на несколько десятков метров еще ниже. Небольшой камешек срывается и с шумом летит в бездонную пропасть. Вот мы, наконец, на самом дне. С грохотом проезжают вагонетки - ты прижимаешься к стене, а они тебя едва не задевают. Проходим мимо группы шахтеров, загружающих вручную вагонетку. Работают автоматически, не поднимая головы. Царство теней! Тебе становится еще более жутко от их безмолвия. В голове мелькает мысль: «Может быть, это не живые люди, а скорбные тени погибших шахтеров…». Вспоминаю ужасные рассказы об авариях и гибели людей в шахтах.
Вот, наконец, приняв душ и переодевшись, я на поверхности. Какой контраст после пребывания «во глубине кузбасских руд»! Боже мой! И эти люди, трудясь в таких адских условиях, постоянно рискуя жизнью, получают жалкие гроши за свой труд. Удрученное состояние еще более усугубилось после того, как один из руководителей шахты наглядно, с помощью графиков, цифр и таблиц, показал всю безчеловечную систему выжимания пота из этих людей для достижения любой ценой выгоды для нынешних хозяев производства. Да… А ведь, когда-то шахтеры Кузбасса были одной из главных опор новой демократической власти.
Украина. Объехал я ее вдоль и поперек. Участвовал в восьми собраниях Союза Православных братств в 90-е годы в разных ее регионах. Неоднократно бывал во Львове, Харькове и Одессе, в Чернигове на праздновании 100-летия прославления св. Феодосия Черниговского, много раз в Киеве, в Севастополе на празднике св. равноап. князя Владимира и т. д.
Буковина. В гостях у митрополита Онуфрия. Благочестивый, почитаемый народом архиерей. Поездили с ним по сельским приходам. Необычно было на великом входе слышать поминание Московского патриарха завуалировано, в ряду с другими Предстоятелями Православных Поместных Церквей.
Запомнилось посещение Буковинского университета. (К сожалению, здесь впоследствии обосновались филаретовцы). Когда я был в нем, приехал униатский митрополит (впоследствии – кардинал) М. Любачивский. Вместе с сопровождающими его священниками он выступал перед профессорско-преподавательской корпорацией университета, говорил о национальном характере Греко-католической церкви и о ее вкладе в украинскую культуру.
В какой-то момент сидящий в президиуме массивный униатский священник с грохотом свалился со стула. Находчивый секретарь митрополита о. Иван Дацько спокойно, с тонким юмором прокоментироавал эту неловкую ситуацию, мол, бывает, что и облеченный священным саном не застрахован от того, чтобы не загреметь в преисподнюю. Зал дружно отреагировал.
Побывал в Хотине – районном центре области на праздновании юбилея знаменитой хотинской битвы, когда казаки под предводительством гетмана Петра Сагайдачного наголову разгромили татар. Боже мой! И кого тут только не было – яркое разноцветье: и униатские (о, нелепость!) казаки, и ветераны бандеровского движения, автокефалы, филаретовцы и т. п. Море национальных флагов.
Представители канонической Церкви первыми совершали заупокойную литию, затем униаты и раскольники. Мне владыка во главе группы молодых священников поручил быть в дни празднования в храме, находящемся в крепости. Храм недавно передан УПЦ МП. Безпрерывно служим молебны. В какой-то момент вваливается огромная толпа филаретовцев с флагами. С ними идет напряженный диалог, пригодилось знание украинского языка. «Мы бажаемо проспиваты наш дэржавный гимн – «Щэ нэ вмэрла Украина». Отвечаю: «У нас нэмае такого звычая (т.е. обычая), щоб спиваты у цэркви щось другэ, крим цэрковных писэнь». Насупились, но не стали нарушать. Разговорился с сопровождающим группу священником из Ивано-Франковска, пригласил его приехать в Москву. «Та ни, - отвечает, - тож инша краина» (по-русски – «другая страна»).
Последний раз на одесской земле я был в 1990 году при владыке Лазаре (ныне митрополит Симферопольский и Крымский). Приехал специально в сентябре, чтобы попасть на престол – на праздник Рождества Богородицы в женский монастырь в Александровке, знаменитый тем, что службы там совершаются на четырех языках: церковно-славянском, молдавском, болгарском и гагаузском.
Владыка везде мне благословляет произносить проповеди. Особенно запомнились гагаузские села. На праздничной трапезе в обители архиерей рискнул затронуть очень болезненный вопрос о переводе нескольких насельниц во вновь открытый монастырь. Что тут началось! Поднялся невообразимый крик, шум. Игуменья премудро молчала, но чувствовалась рука опытного режиссера, который предварительно разработал сценарий и распределил роли. Владыка пытался перекричать, угомонить, но, увы, все было безполезно, вожжи опрометчиво были отпущены, и неуправляемая тройка, сломя голову, рванула вперед. Для меня этот случай послужил уроком для более адекватного и продуктивного общения с аудиторией, особенно с женским контингентом.
У себя на Берсеневке я ввел жесткий регламент таких собраний – выступать не более двух раз, не перебивать, не поднимать рук, когда выступает другой и т. п., под дамокловым мечем строгих прещений для нарушителей.
Закарпатье. Красивая земля, симпатичные, гостеприимные русины. Посетил в 1985 году Мукачевский и Чумалевский женские монастыри известного старца Иова. Очень быстро читают и поют, кафизмы опускают. Пение в сельских храмах напоминало какой-то гул, мощный рев.
Всего не расскажешь. Были еще Казань и Уфа, Ташкент и Самарканд, Новый Афон, столицы прибалтийских республик и Минск, где я участвовал в конференции, посвященной 1000-летию Крещения Белой Руси.
В Эстонии – конечно, Пюхтицы, в Таллине – Александро-Невский собор, общение с лютеранами.
В Латвии – неоднократно в знаменитой Пустыньке, где подвизался известный старец Таврион.
В Риге – особый контакт с нынешним митрополитом Александром. До него я общался с его предшественником – очень колоритным митрополитом Леонидом.
В облике владыки Александра есть что-то детское, непосредственное, что притягивает к нему сердце. Сам он из среды старообрядцев - безпоповцев. В молодости посещал Покровский собор на Рогожском кладбище. В его домовой церкви во имя прп. Серафима Саровского совершил молебен по старому обряду.
Подарил деревянный баптистерий для кафедрального собора (по-моему, он толком не используется).
Владыка очень переживает из-за действий необновленцев, церковных сепаратистов.
Посетил два худосочных единоверческих прихода под Даугавпилсом, совершил в них молебны, активно поддержал открытие единоверческого прихода в самой Риге на Ивановском кладбище.
Много раз приходил в великолепный Гребенщиковский храм – самый крупный храм старообрядцев-безпоповцев, где неоднократно общался с наставником общины о. Иоанном Миролюбовым - ныне единоверческим священником в Москве.
По старому обряду служил также по благословению митрополита Кирилла в кафедральном Спасском соборе г. Калининграда, в котором в воскресный день произнес проповедь о значении для Православия сохранения в составе России этого региона.
Последние поездки по стране: Орел - в период выборов, чтобы поддержать своего зама по СПБ Фролова В. А., баллотировавшегося в Думу от Аграрной партии. Мое пребывание совпало с Днем Ангела недавно скончавшегося Орловского архиепископа Паисия. Подсказал Владимиру Афанасьевичу, что неплохо было бы воспользоваться тем, что соберется местное духовенство, и поздравить владыку в качестве кандидата в депутаты. Фролов так и сделал. Начал с того, что он с настоятелем церкви свт. Николы на Берсеневке специально прибыл поздравить владыку. Я стою, ни жив, ни мертв. Запомнился гул, который прошел по рядам молящихся, когда была упомянута Берсеневка. Оказывается, наше противодействие глобализации здесь широко известно.
Кроме Кижей, главное впечатление от недавнего посещения Карелии – края озер и лесов – это, конечно, знаменитый мраморный каньон у границы с Финляндией. Когда-то здесь добывали мрамор для многочисленных храмов и дворцов нашей северной столицы. Теперь здесь царит запустение. Было острое ощущение, что эти земли, вошедшие в состав нашей страны после зимней компании – войны с Финляндией (1939-1940 годов), мы не удержим, и Финляндия добьется реванша.
Иерусалим. Самое потрясающее здесь - это посещение Храма Гроба Господня, где ощутил вибрацию, какие-то волны, потрясающие все естество. Хотелось в благоговении склонить колени и долго не уходить. Участвовал здесь в совершении ночной Литургии. Также служил Литургию в Гефсимании. Поражает в Иерусалиме смешение национальностей и религий. Вот католические монахи и монахини, а вот армянские священники. Немного «пейсатых» евреев — один пожилой плюется в сторону при виде меня, православного священника.
Стою у гроба пророка Давыда, передо мной – симпатичная еврейка с распущенными волосами, сосредоточена. Вдруг она медленно поворачивается, видит священника с крестом и в ужасе отскакивает. Всего описывать не буду. Благодатность Святой Земли общеизвестна.
Несколько параллелей или вариаций — место погребения по католической версии и по православной, место Благовещения по католической версии («храм всех наций») и по православной и т.д. Посетил митрополита Тимофея, он правая рука Патриарха, заканчивал наши духовные школы (тогда еще в Ленинграде). Очень болезненная реакция на мое недоумение по вопросу причастия — в случае, если причастия не хватило на всех причастников, диакон у них может покрошить просфору в чашу. «Вы, русские, слишком рационалистично подходите!» - воскликнул митрополит.
Константинополь. Поразила деградация «челноков», с которыми летел в самолете: мат-перемат, грубости, не стесняясь священника. Собор Святой Софии. Потрясающая величина, потрясающая мозаика Спасителя с двуперстным благословением в алтарной части. Мои спутники на видеокамеру записали, как в центре собора кладу семипоклонный начал «Боже, милостив буди мне, грешному» и т.д. Как только закончил, подбежали сотрудники, замахали руками — здесь, мол, нельзя. Георгиевский кафедральный собор в Патриархии (квартал Фанар). Удивило обращение с мощами - служка снял покров с лика прп. Евфимии и потрогал ее зубы. Несколько неблагоговейно, мягко говоря...
Попросил полицейского за денежное вознаграждение подвезти еще в пару православных храмов. По дороге говорю ему что-то по-английски о возрождении Православия, Византии - он недоуменно смотрит на меня. Оказалось, что это турок — мусульманин, а не православный грек, как я думал.
Влахернский храм в окружении многоэтажек. Большая русская икона Покрова в притворе. Источник. Трудно было представить явление Богоматери в таком приземистом храме. Да, что я говорю — это ведь было видение «на воздусех».
Храм «Живоносный Источник». Здесь постоянная община монахинь. Захоронения патриархов. Греческий архимандрит, встретив нас, что-то бормочет, похоже, проговаривает молебен.
Не обошлось без приключений. Раиса Яковлевна, прихожанка нашего храма, с которой я был в этой поездке, обращается к турку средних лет: «Тэрве?» (по-турецки: «Где находится, Как пройти?»), а название дворца она, ведь, не сказала, а только «тэрве». Турок недоуменно смотрит на нее, выпучив глаза, ничего не может понять. Раиса Яковлевна: «Ну, турок он и есть турок». Когда я ей объяснил, в чем дело — сконфузилась, рассмеялась.
Кипр называют “островом святых”. Эта земля освящена проповедью свв. апостолов Варнавы и Павла, целым сонмом святых подвижников благочестия.
Пребывание на Кипре началось с посещения всенощного бдения в русской церкви в Лимассоле вместе с сопровождавшим меня Ю. Н. Агещевым. Трепетное чувство возникает, когда стоишь рядом с колонной, у которой проповедовал апостол Павел, и, когда ложишься в каменное ложе-гробницу праведного Лазаря в Ларнаке. В храмах здесь часто поет один певец на крылосе, внутри храма стоят ряды стасидий, на которых можно полу-постоять-полу-посидеть. Храмы заполнены народом, женщины без платков, к причастию подходят без исповеди. Роспись в византийском стиле. Звонят не более полуминуты до и после литургии.
Теплый контакт со старостильниками (общался даже с их епископом).
Посетили множество храмов и монастырей.
Грузия. Первый раз посетил ее, когда был в санатории в Железноводске в годы учебы в институте. Получилось, что чуть ли не половина времени лечения ушла на посещение Грузии. Я тогда был в русском Ольгином монастыре в горах на окраине Мцхеты, в Светицховели — соборе 12 апостолов, в монастыре Самтавро (Преображения), где находятся мощи крестителя Грузии — царя Мириана и его супруги. Отсюда на попутных машинах поехал в монастырь прп. Шио Мгвимского, где поразила икона Спасителя в соборе. О ней говорили, что с любой точки храма Спаситель смотрит на тебя, и это действительно так, я в этом убедился. На обратной дороге решил сократить путь, увидев на другом берегу реки Куры очертания железнодорожной станции. Решил реку перейти вброд. Разделся, документы вложил внутрь одежды, и высоко подняв вещи над головой, стал переходить реку.
А она оказалась, хоть и не глубокой, однако очень быстрой — едва не унесло потоком...
Были еще приезды. Последний раз - в 1990 году, когда я, чувствуя приближение развала Союза, решил проехать по грузинским монастырям. Начал свое паломничество с посещения Самтавро - с престольного праздника монастыря (Преображения). Служил с будущим митрополитом Сухумским и Абхазским Даниилом. Недавно еще были известные события в Тбилиси («саперные лопатки» — апрель 1989 года) - чувствовалось напряжение в атмосфере. Побывал со своими спутниками в монастырях Гелати, Бодби, Моцамети, Бетания и др. На Успение пришел на службу в Сионский Патриарший собор. Праздник Успения — престольный для этого собора. Патриарха не было, вместо него служил митрополит Кутаисский. Я представился, попросился служить. Владыка замялся — я, мол, здесь только гость. Потом, когда надо было выходить на литию, посылает за мной и благословляет выходить со всем духовенством. А после опять говорит, что не надо облачаться.
Закончилась служба, и владыка снова благословляет - на сей раз участвовать завтра в совершении Литургии. После всенощной я был очевидцем сноса краном памятника Ленину — не совсем удачно — ноги остались на постаменте.
Утром прихожу в алтарь собора, духовенство облачается, на меня ноль внимания. У нас ведь как бывает — кто-то тебя «курирует» из духовенства, а здесь нет. Потоптался - потоптался, да так и остался ни с чем — решил просто помолиться и еще причаститься. Прошла встреча архиерея, облачили его. Он спрашивает: «Почему не облачаетесь?» А как облачаться, если облачения нет? Отвечаю, мол, решил только помолиться и причаститься. Причащая, архиерей упрекнул меня за то, что я не облачался и, поднося чашу к моим устам — для испития Крови Христовой, — говорил: «Терпение, смирение, послушание». Непривычно было на службе — как архиереи на кафедре, так и иподиаконы не «сфинксами» стояли, а «темпераментно».
Общался с несколькими грузинскими священниками — у них более патриархальные нравы и более вольные понятия об уставности. Тема автокефалии — болезненная. Как-то намекнул в беседе с одним видным грузинским священником - поспешили, мол, в 1917 году, автокефалию односторонне восстановили, надо было бы дождаться Собора, «Надо было еще раньше это сделать» - услышал в ответ.
С Патриархом Илией были две мимолетные встречи. Он очень почитаем в Грузии, большой молитвенник. В Троицком русском храме служил погребение Плащаницы с известным богословом архимандритом Рафаилом (Карелиным).
Был еще три дня в женском монастыре на границе с Арменией, где совершил три литургии. Насельницы монастыря — престарелые выходцы из Малороссии. Как и в некоторых других грузинских монастырях, они доживают здесь свой век, чтобы уступить место грузинкам.
В Молдавии побывал в бытность там правящим архиереем митрополита Серапиона. Повод для посещения - работа в местном архиве с материалами о старце Паисии Величковском, о котором писал кандидатскую работу в духовных школах. Жил у писателя Ф. Чащина - автора «Белой Криницы», не совсем удачного произведения о старообрядцах. В его библиотеке было несколько ценных документов, связанных с иноками Павлом и Алимпием – знаменитыми искателями архиерея для восстановления трехчинной иерархии у старообрядцев. Посетил единственный тогда действующей женский монастырь в республике в селе Жабки (сейчас в Молдавии 32 монастыря и 8 скитов). Больше всего запомнилось общение с о. Петром Бубурузом, некогда секретарем Кишиневской епархии, а ныне одним из главных деятелей так называемой Бессарабской митрополии. На приходе у него немного читал по-молдавски. Общаясь с ним, я сначала не сориентировался, стал говорить об опасных тенденциях к автокефалии. А он вспыхнул: ”Вам, получается, можно быть автокефальными, почему же другим нельзя?!”
Санкт-Петербург. В первый раз попал я в этот город — тогда он был еще Ленинградом — в 1975 году. Воспользовавшись коротким перерывом в учебе, на первом курсе пединститута, на мартовские праздники, я решил для расширения кругозора и познаний поехать в Петербург. Три дня был в этом городе; одним из самых запоминающихся впечатлений в первую поездку было впечатление от мрачной погоды. Невольно задумываешься, зачем же в таких далеких краях, на болотах, где туман и промозглый климат, устраивать город? Я тогда останавливался только на вокзале, не имея знакомых, практически это были безсонные ночи, что тоже отразилось на моем впечатлении от посещения города. Приезжал на праздник св. Александра Невского, на юбилей 1000-летия крещения Руси.
Были еще поездки. В частности, дважды в Санкт-Петербургские духовные школы. Первый раз — это было во время учебы в Московской Духовной Академии, второй раз уже по окончании ее — для того, чтобы получить впечатление от преподавания в здешних духовных школах, от атмосферы в них. В духовном плане там все несколько иначе, по сравнению с Московскими духовными школами. В образовательном плане я тоже не почувствовал, что там уровень более высокий, хотя такое мнение бытует. Когда богословие отрывается от духовности, духовной стихии и испытывает сильное влияние рационализма, то это как-то не ложится на сердце.
Потом был съезд Союза Православных братств в 1992 году. Это был один из самых сложных моментов в моей жизни. В течение трех дней была очень напряженная атмосфера. Собрались очень разные люди, и стоило больших усилий поддерживать на съезде дисциплину и определенный порядок. Главное достоинство съезда было в том, что впервые в самом гнезде экуменизма, в здании Питерских духовных школ, была поднята со всей решительностью проблема экуменизма как отступления от вековых преданий, нарушения канонов Православной Церкви.
В Царском Селе 16-17 июля 1999 года проводилась конференция, посвященная канонизации Царской Семьи. Проблема довольно известная, Союз Православных братств одним из первых поднял ее, обсуждал все эти годы, поэтому чего-то особо нового там услышать я не ожидал. Но если приглашают и есть возможность обновления контактов, то лучше этой возможностью воспользоваться. Нужно быть постоянно в динамике, в движении. Конечно, не в ущерб основному делу, хотя какой-то ущерб неизбежно возникает, но он должен быть минимизирован.
Царское Село находится примерно в 30 километрах от Санкт-Петербурга. После революции это место переименовали в Детское Село. Теперь это – город Пушкин. Хотя привычнее для нас, из тех же стихов Пушкина, название - «Царское Село». Поселили меня и моих спутников – Георгия Георгиевича Копаева, тогдашнего председателя Союза Православных братств, и нашего старосту Владимира Никаноровича Кузнецова в привилегированной, элитной гостинице, которая сейчас находится в ведении Курсов подготовки руководителей. Надо отдать должное Владимиру Никаноровичу - с ним надежно быть, где бы то ни было - точно знаешь, что будет обезпечен быт, питание, транспорт. Все это проверено десятки раз на личном опыте.
Главным организатором и непосредственным руководителем конференции был Сергей Михайлович Григорьев, тогдашний руководитель агентства «Русская линия», которое занимается еженедельной подборкой церковных и общеполитических новостей. Он же был тогда одним из издателей газеты «Русь Православная».
Конференция проходила, конечно же, без формального благословения правящего архиерея -митрополита Владимира (Котлярова), хотя по логике такое благословение и его участие должно было бы быть. Но известна острая конфронтация ревнителей Православия, наследников покойного владыки Иоанна, с ныне правящим епископом. В телеграмме одного из приглашенных — Благовещенского епископа Гавриила — было сказано: «Желаю помощи Божией в работе конференции, но приехать не смогу по известной причине — из-за личности митрополита Петербургского Владимира». Откровенная телеграмма. На конференции все же присутствовали три священника из Санкт-Петербурга. Конечно, они резко отличались от основной массы петербургского духовенства своим традиционным внешним и внутренним обликом. Присутствовал и выступал еще один петербургский священник — о. Георгий Митрофанов, который является членом комиссии по канонизации.
Перед открытием конференции мы посетили Иоанновский монастырь на Карповке, основанный святым праведным Иоанном Кронштадтским. Приехали туда к концу литургии. Спустились в подземный храм, пропели величание, приложились к иконе и гробнице праведного Иоанна, поприсутствовали на части молебна, там совершаемого, получили масло. Впечатление ухоженности и добротности. Монастырь является ставропигиальным, то есть подчиняющимся непосредственно Патриарху.
Затем поехали в Александро-Невскую Лавру, которая сравнительно недавно стала действовать как монастырь. Приложились к мощам благоверного князя Александра Невского в Троицком соборе Лавры, открытом, кстати, только лишь в 1957 году. Чисто западный, католический стиль собора как снаружи, так и внутри. Это как-то подавляет, чувствуешь себя там дискомфортно, холодно, отчужденно, картины в стиле ренессанс — все это отталкивает.
Посетили могилу митрополита Иоанна. Есть такой кусочек лаврского кладбища, там погребены монахи еще дореволюционного времени, Петербургские митрополиты конца прошлого — начала нынешнего столетия, такие, как Исидор, известный экуменический деятель Никодим (Ротов), Антоний (Мельников), который стремился явные минусы никодимовского правления нейтрализовать, и, наконец, владыка Иоанн. На его могиле – цветы, иконы, свечи, отпечатана импровизированная молитва ему, много раз она срывалась, но ревнители опять ставили ее на место. Совершили здесь заупокойную литию. К сожалению, священники в нарушение церковного Устава совершали литию без епитрахили и поручей и произносили священнические возгласы, такие, как «Благословен Бог наш...», «Яко Твое есть царство...», что в общем-то по Уставу недопустимо. Вместо этих возгласов надо говорить: «Молитвами святых отец наших...», вместо «Яко Твое есть царство...» - молитву Исусову. Кусочек кладбищенской стены отмечен в том месте, где видны щербинки в стене, они очерчены красной краской — там в 20-е годы были расстреляны 20 монахов Лавры.
Теперь собственно о конференции. Первым выступил отец Игорь Филин, петербургский клирик, батюшка такого духовного, аскетического склада. Затем выступила Татьяна Миронова из Москвы. Особо важным в ее выступлении было следующее: так называемое отречение императора было недействительным, потому что: первое - отречение не предусмотрено основными законами Российской империи; второе - император Николай не имел права отрекаться от имени наследника — цесаревича Алексия; третье — не было Манифеста об отречении, а была просто телеграмма. Еще такая деталь: по российскому закону о престолонаследии документы такого ранга должны подписываться чернилами, а здесь было написано карандашом. Даже есть мнение, что император сознательно допустил такие нарушения для того, чтобы, будучи изолированным, в атмосфере трусости, обмана и предательства — действовать с расчетом на потомков, на то, что впоследствии все эти действия будут правильно оценены. От присяги воинство не было освобождено, хотя это должно было быть сделано. Император Вильгельм II, немецкий кайзер, когда бежал в 1918 году из Германии в Голландию, то издал специальный акт об освобождении войска от присяги. Здесь же ничего не было.
Военачальники, по сути, предали императора. И вот, например, судьба Корнилова — находясь с войсками под Екатеринодаром, перед атакой на город, он погибает от взрыва одиночной гранаты, смертельно раненый осколком в голову.
Синод тогда показал себя тоже не с лучшей стороны. Вместо того чтобы выступить на защиту императора, он промолчал и обратился с предписанием — молиться о благоверном Временном правительстве. В составе дворцового духовенства было 136 человек. Ни один из них не проявил себя мужественно как защитник императора. Мы знаем, что погибли врачи, офицеры, представители других сословий, но духовенства среди тех, кто пострадал непосредственно в защиту императора, мы не видим.
Отец Георгий Митрофанов сделал очень содержательный доклад. Я, однако, когда выступал во второй день на пресс-конференции, сказал, что отец Георгий сузил подвиг императора только к факту страстотерпчества, мученической кончины, под тем предлогом, что другие моменты спорные — отношения с Церковью, деятельность во внешнем плане - не будем, мол, их касаться, а только по факту мученической кончины нужно канонизировать. По моему мнению, это сужение, умаление подвига императора.
Отмечалось, что даже в Зарубежной Церкви не было единодушия по вопросу канонизации Царской Семьи.
Вспоминался набор стереотипов советской пропаганды в плане критики императора: Ходынка — это когда была коронация, и из-за давки погибло несколько сот человек; расстрел 9 января и Распутин.
Что такое Ходынка? На Ходынском поле были объявлены торжества, народные гулянья и, когда стали раздавать царские подарки, в частности, граненые кружки с царским вензелем, возникла стихийная давка. Разве царь в этом виноват? Виноваты те, кому поручено было этим заниматься - градоначальник, полицмейстер и т. п. А у нас привыкли все сваливать на первое лицо.
Царь 9 января вообще был вне города. Об этом знали те, кто организовал тогда демонстрацию. Хотя Гапона назвать провокатором я не могу, есть для этого основания. Недальновидно, опрометчиво, все, что угодно, но только не сознательное направление народа под пули. Только не это. Он сам, как известно, был в первых рядах демонстрации. Император в этот день, узнав о происшедшем, написал, что это ужасно, больно и т. п.
Как понимать отречение? Скажем, по аналогии с епископом - правящий епископ уходит с кафедры за штат — это одна ситуация, епископа лишают сана — другая ситуация, епископ снимает сан – третья. Наиболее подходящая аналогия здесь – епископ, уходящий за штат, остающийся епископом, но не управляющий. Так и Николай II. Отречение нельзя понимать как отречение от миропомазания, от дара Духа Святого, который вторично в жизни воспринимает во время коронации единственное человеческое существо — именно царь. Он остается после ухода таким же Помазанником Божиим, каким и был. В Византии, а наша церковная жизнь в основном строилась по ее образцу, неоднократно, как показал отец Валентин Асмус, были случаи ухода императоров с трона, возвращения обратно на царство, так что нельзя сказать, что он стал гражданином Романовым после отречения. Николай II был вынужден оставить трон из-за предательства своих приближенных. Интересен такой момент — Поместный Собор нашей Церкви 1917-1918 годов, тот самый, который избрал Патриархом митрополита Тихона, когда пришло известие об убийстве в Екатеринбурге Царской Семьи, предписал служить панихиду о царе Николае II. Именно как о царе, хотя это было уже после отречения. Нельзя упускать такой факт из виду.
Главный редактор газеты «Русь Православная» К. Ю. Душенов — одна из влиятельных фигур в Петербурге. У меня с ним был жесткий конфликт в 1992 году на съезде Союза Православных братств. Он мне показался тогда не совсем адекватным, судя по его поведению, и находящимся в оппозиции к владыке Иоанну, но потом он стал его пресс-секретарем, ближайшим помощником. Главная проблема для канонизации, по его словам, это комиссия Синода. Деятельность комиссии, по его мнению, не была изначально ориентирована на догматические и канонические моменты, а только на политическую конъюнктуру. Стремились, чтобы с одной стороны, народ в клочья не разорвал из-за того, что не идут на канонизацию, с другой – чтобы и противник - власть предержащие не отказали от дома. Такая вот позиция между двух огней – народ, с одной стороны, и масоны-сионисты, такие, как Собчак, с другой – противники прославления. Большинству духовенства, по словам Душенова, все равно. Что касается противников в епископате, то существует активная сплоченная либеральная группа наследников митрополита Никодима (Ротова). Душенов назвал их хульниками на память Царя-мученика, они активно противодействуют его канонизации. Константин Юрьевич вопрошал: «Почему же могли причислить к лику святых блаженную Матрону указом Патриарха, как местночтимую, и почему нельзя так же поступить с Царем-мучеником Николаем II, тоже как местночтимым?» (Я бы не стал сравнивать эти случаи, намного сложнее и серьезнее вопрос канонизации Николая II, проблема эта более острая.) Закончил Душенов тем, что еще на одной проблеме акцентировал внимание: согласно уставу об управлении РПЦ должен быть Церковный Суд как каноническая инстанция, разбирающая конфликтные ситуации. Но Церковный Суд не нужен начальству и поэтому его учреждение всячески блокируют (в настоящее время такой суд формально учрежден).
Виктор Саулкин из Москвы, ведущий «Радонежа», говорил о чудесах, которые происходят по молитвам Царственных мучеников от их мироточивых икон. Исцелился один полковник, который раньше преподавал историю КПСС. Он потерял зрение, и оно частично к нему вернулось. Когда просил об исцелении, то прикладывался к иконе Царя-мученика. Сам Виктор видел, как икона Царя-мученика мироточила 9 раз за один день, когда она находилась в одном монастыре в Ивановской области. Говорили о том, что Николая II надо называть искупителем. Есть юродивые, мученики, благоверные князья, преподобные и т. д., а он должен называться искупителем. Конечно, с маленькой буквы, потому что у нас Один Искупитель — Христос. О Царе Николае именно как об искупителе пророчествовал в свое время монах Александро-Невской Лавры Авель. В его пророчестве о том, какие у нас будут цари, есть слова об убийстве Павла I, об Александре I, Александре II, Александре III, а о Николае II — что это будет царь, которого убьют. На Афоне икона императора, которую привезли русские паломники, кровоточила к потрясению афонских монахов. В заключение было сказано, что для того, чтобы не истребиться народу, необходимо прославить Царя-мученика.
Выступал Николай Кузьмич Симаков, который трудился при владыке Иоанне, потом несколько лет издавал при митрополите Владимире «Епархиальные ведомости» - единственное тогда на весь Петербург церковное издание. По его словам, просветительство в Петербурге в глубоком загоне. В марте Н. К. Симакова освободили от должности редактора под предлогом финансовых трудностей. Скорее всего, из-за его идейной направленности. Сейчас он ведет передачи по православному петербургскому радио. По словам Симакова, а он был тогда членом Союза Православных братств, возглавлял братство Державной иконы Божией Матери, Петербург — это нерусский, западный город. Дело в том, что после войны, после блокады, сюда хлынул поток интеллигенции определенной национальности с Дальнего Востока, из Приморья, которая заполнила сферу просвещения, искусства, административные и партийные структуры, освободившиеся от блокадников. Ощущается очень сильно эта еврейская, западная атмосфера. Православные в меньшинстве, тем более мыслящие строго православно. Тем не менее, экуменический период закончился, об этом сейчас никто открыто и громко не говорит. Ключевые посты, однако, в руках последователей м.Никодима. Так же, как и везде, там есть зарубежники и даже община греческой старостильной церкви. В частности, известный богослов и философ Василий Лурье (ныне епископ РПАЦ Григорий), который вместе с диаконом Андреем Кураевым написал работу об опасности объединения с монофизитами, состоял в этой старостильной греческой общине.
Георгий Георгиевич Копаев обобщил многие вопросы и тоже выступил на конференции. Один пример из его выступления я записал. «Мы, люди, — образ Божий, венец творения. Когда случается пожар, то, находясь в огненном кольце, человек стремится прорвать это кольцо и спастись. В то же время животные, боясь огня, жмутся к центру, кольцо сужается, и они погибают. Обезьяна протягивает лапу в узкое отверстие, стремясь достать яблоко, а вытащить не может, так ее и ловят, на этом методе устроена ловушка для обезьян. Подходи, бери ее за шиворот и — в клетку. Из-за жадности она не может отпустить плод и попадает, таким образом, в капкан». Вот разница в поведении человека как образа Божия и животного.
Одним из основных и самых ярких было выступление отца Алексия Масюка - местного клирика, организатора крестных ходов в Петербурге. Владыка Владимир против этих крестных ходов, говорит, что нечего ходить по Невскому, лучше молитесь в храмах.
Тема доклада о. Алексия: «Годовщина захоронения в Петропавловском соборе – какие выводы?» Финансирование на это дело было не меньшим, чем на чеченскую кампанию. Ритуальное захоронение якобы царских останков было очень важно для власть предержащих. Ясно, какие это могло иметь далеко идущие идейные последствия. Какие? Хотели поставить точку на проблеме легитимности власти, вбить последний гвоздь в историю цареубийства, свалить все на кровожадных революционеров. А по существу хоронили те, кто являлся наследниками этих революционеров. Они стремились отмежеваться, дистанцироваться и в сознании людей снять с себя это пятно, спихнуть на других - вот какие были настоящие мотивы этого действа. Пять крестных ходов провели православные Петербурга в связи с этим делом.
Происходит глумление над святыней по новым технологиям. Это называется перехват святыни, что очень важно понять.
Еще о Симакове. Это удивительный человек. Такой живой в общении, с небольшой бородкой, невысокий, подвижный. Родился и прожил всю жизнь в Петербурге, ему уже за 40. Ревнитель идеи Москва — Третий Рим. Это редчайший случай в Петербурге, здесь ему чуждо многое — храмы западной архитектуры, роспись их. Вся душа и сердце его в Москве. «Россия, как секулярная страна, то есть светская, обмирщенная, не может существовать, - говорил он. Мы живем в обломках Русской державы, сейчас нет государственности, теперь мы — американская полуколония с вымирающим народом. Мусульманский фактор очень сильно действует, миллиардный Китай нависает. Прославление Царской Семьи имеет религиозное мистическое значение, это будет некий перелом, когда по-человечески невозможно ничего изменить, только есть надежда на то, что что-то произойдет в духовном плане». Далее он говорил, что Петербург — это провинция. Сейчас Москва - центр, петербургский период закончился. Прославляя царственных мучеников, мы прославляем принцип царской власти, единственно органичный и естественный для России принцип власти. Власть должна быть религиозно освящена. Философ И. Ильин говорил: «Когда будет воздвигнут алтарь для Бога и престол — для царя, тогда Россия возродится». Мы должны возвращаться не к петербургскому абсолютизму по западному образцу, а к идеалам Московской Руси как Третьего Рима, когда была подлинная симфония, гармония отношений между царской властью и властью духовной. Россия должна иметь Константинополь, она должна объединить восточные народы - в этом заключается ее провиденческая миссия. Вне Церкви нет России, вне царской власти нет Святой Руси. Все погибло в XX веке — сословия, купечество и прочее, но Церковь осталась. Прославление Царской Семьи будет поворотным моментом в русской и мировой истории.
В личном разговоре Симаков рассказал о нынешней ситуации в Петербурге. После смерти владыки Иоанна духовный подъем пошел на убыль, братства развалились, только ставропигиальные монастыри, такие, как на Карповке, еще как-то отличаются активностью. В Петербурге - светская культура. Правящий архиерей не проводит активной просветительской деятельности в отличие от владыки Иоанна, который обращался с посланиями на разные темы, а нынешний владыка – как в советское время — только на Пасху и Рождество. Когда были выборы — Яковлев или Собчак, то владыка Владимир говорил: «Не смейте голосовать за Яковлева, только за Собчака». Он назвал книгу «Мастер и Маргарита» выдающимся произведением, а М. Дунаев по «Радонежу» говорил, что эта книга оккультного характера. Вот, пожалуйста, мнение православного митрополита и мнение специалиста по этому вопросу.
Есть проблемы с передачей Церкви Смольного монастыря, Исаакиевского собора, Большого Сампсониевского собора. В Казанском соборе, где я был на всенощном бдении, половина храма тогда еще была задействована под Музей истории религии и атеизма. «Разница между тем, что было при владыке Иоанне, и, что есть сейчас — это разница между днем и ночью», - заключил Симаков. Собчак говорил, когда еще был у руля: «Я ставлю вопрос об объединении не просто христианских конфессий — это само собой разумеется, а всех религий в нашем городе, для того, чтобы не было конфронтации». Это чисто масонское заявление крупнокалиберного масштаба. Петербург — город трех революций. По словам Симакова, у этого города нет будущего. Много евреев после войны заполнили сферу юриспруденции, культуры и пустующие квартиры, в 70-80-е годы происходила экспансия кавказцев и татар. «Учили нас евреи, - вспоминает Симаков, - и в классе было до половины евреев». Такой характерный пример: когда был юбилей 600-летия Преподобного Сергия, то все прошло как-то незаметно, даже не знали, о чем говорить в духовной академии по случаю юбилея. А вот если бы был юбилей Владимира Соловьева, весь город отмечал бы. Вот такое положение. Есть жалобы на владыку, что в церквях большие материальные поборы, высокие цены на требы. Православных в Питере мало, много сектантов, особенно иеговистов. Вообще Петербург – это шведская земля и т. д. и т. п.
Была очень хорошая экскурсия по Царскому Селу, где учился Пушкин, ходили по дворцу, где жил Николай II до отречения, мимо Екатерининского дворца. Экскурсовод Григорьев Сергей Михайлович рассказывал, как появилось Царское Село. Петр I для своей супруги, которая была беременна 11 раз, а родилось только двое детей, устроил это загородное местечко, и постепенно образовалось это Царское Село. Раньше в этом месте жили чухонцы, то есть инородцы. Больше всего там строила Екатерина, Павлу было сложно, он тяготился своим пребыванием в Царском Селе. В Зимнем дворце царская семья почти не жила. Дворец Екатерины в ампирном вычурном стиле, множество идолов вокруг - римские императоры, в том числе гонители христианства, римские и греческие языческие боги, геркулесы, обнаженные фигуры, в том числе «Большой Сампсон» и прочее. Один батюшка из деревни, который тоже был на этой конференции, сказал: «Ну, это же бесы». Конечно, двор Екатерины был вольный, развратный, пост там уже был забыт. Сначала Петр испросил у патриарха Константинопольского разрешения послабить пост для войск, находящихся в походе, а потом постепенно высшее сословие почти забыло, что такое пост. Говели, как правило, только первую и последнюю недели великого поста. Дворец — копия Версаля, там все в таком же духе. Интересная деталь — по незнанию повесили на дворце царский флаг (черносотенный, монархический, трех цветов — золотого, черного и белого). А сейчас снимать уже неудобно. Есть в дворцовом ансамбле всякие башни, подобие мечетей, рыцарских замков. Поскольку Екатерина была, мягко выражаясь, человеком темпераментным, она устраивала всякие хитрости. Скажем, была приемная, где-то на отшибе, в местах уединенных, где нижняя часть устраивалась для прислуги, а верхняя была предназначена для общения, собраний, пиршеств. Прислуга не поднималась наверх, и была отсечена от того, что делалось наверху. Осматривали обелиски в честь побед русского оружия, например, обелиск в честь победы при Кагуле, где 17 тысяч русских под предводительством Румянцева разгромили 50 тысяч турок.
У меня возникла мысль о том, что во многом наши теперешние беды, связанные с Крымом, Кавказом, являются следствием того, что происходило при Екатерине. Была тенденция России как великой империи проявлять внешнюю пышность, даже с языческим оттенком, в ущерб внутреннему, духовному. Происходил отход от идеалов Святой Руси, которую заслонил идеал Великой России, империи. Наш развал — следствие того, что это государство строили, расширяли на недостаточно добротном духовном фундаменте.
Вокруг Николая II было мало верующих людей, он был в одиночестве, ему не на кого было опереться, некому открыть душу. Семья как бы замкнулась в своей жизни. Хотя он имел русской крови 1/350 часть, по духу это был русский человек. Вообще, история нам как бы «мстит». Заметно такое Божие попущение, что когда было увлечение французскими обычаями, языком и прочим, то возмездием явилась война с Наполеоном в 1812 году, потом был период увлечения всем немецким, после которого — две мировые войны, теперь увлечение Америкой.
Поразительный факт: в начале XX столетия в лицее здесь училась Ахматова. В ее переписке нет ничего о царской семье. Настолько атмосфера была антимонархической. В царской спальне поразило наличие десятков икон, причем многие — древнерусского письма, хотя это уже новые иконы, а те, которые были раньше, почти все утрачены. Это говорит о благочестии императора, делает его похожим на Алексея Михайловича в начале его царствования. Брак у Николая Александровича и Александры Федоровны был по любви, а не по финансовым расчетам, в этом была его уникальность. Царь тяготился западническим духом. У нас, начиная еще с Александра III, была тенденция возвращения к национальным истокам, и плодом этой тенденции было устроение в Царском Селе собора во имя Феодоровской иконы Божией Матери, в псковском стиле, с древними иконами и росписями. Подземный храм - во имя преподобного Серафима Саровского, где император проводил великий пост и даже нередко оставался в нем на ночь, на молитву. А императрица Александра Федоровна распорядилась устроить узкую пристройку к алтарю, где она могла молиться в уединении, с окошечком в алтарь, наподобие жилища скитника или столпника - такое было у меня впечатление. Был крестный ход вокруг собора в день убиения Царской Семьи, и была заупокойная лития у памятника Николаю II. Меня поразил памятник: приподнятый ворот, печальное лицо — очень воздействует и впечатляет всем своим скульптурным обликом, я такого не встречал еще. Вообще фотографии Царской Семьи очень проникновенны, западают в душу. Во время крестного хода было освящение царского вензеля — позолоченный двуглавый орел устанавливался над царским крыльцом Феодоровского собора с помощью подъемника.
В конце конференции постановили создать координационный комитет по учреждению общероссийского общественного движения за канонизацию Царской Семьи. Я пообещал старосте Феодоровского храма содействовать в сборе пожертвований в Москве. Закончилось мое пребывание в Петербурге поездкой в недавно открывшийся Казанский собор. Из-за того, что конференция затянулась, мы опаздывали. Приехал, вхожу в собор — поют «Хвалите имя Господне...»
Впечатления от собора. Прежде всего, галерея — чуждый элемент непонятного назначения. Копировали собор святого Петра в Риме? Только, может быть, на фотографии и с воздуха видна какая-то гармония, а так просто столбы стоят, нужно пробираться сквозь них. Ничего это не дает, все это мертвое. На куполе собора непропорциональный шестиконечный крест. Внутри — масса картин на религиозные темы в западном духе. На этом фоне выгодно отличаются редкие настоящие иконы, новописаные - «Неупиваемая Чаша» и другие. Все светоносное, золотое, легкое, аскетическое, одухотворенное. А в основном мертвые картины.
Казанская чудотворная икона пропала, как известно, еще до революции, в 1913 году. Ее похитили, потом она оказалась в Америке. Сейчас папа римский пытается ее выкупить и подарить России, чтобы его полюбили здесь (это произошло впоследствии - была передана копия иконы).
Когда люди прикладывались к Казанской иконе — она была в киоте в иконостасе — то в мраморном полу образовалась ложбинка от потока людей.
Богослужение. Партесное пение с хоров, акустика не очень качественная, слышимость канона была не очень хорошей. А главное — хождение, круговорот, кто-то в обнимку ходит, кто-то из женщин в брюках шатается, духовенство выходит из алтаря и с кем-то беседует лицом к молящимся во время службы. Некоторые заходят в нетрезвом виде, на ступенях собора сидит несколько десятков подвыпивших молодых людей. Ко мне пристал какой-то бомж в соборе, так как я стоял в рясе с крестом. Вот такая картина.
Собор трехпрестольный, правый придел освящен в честь преподобных Антония и Феодосия. Пока там временные деревянные конструкции, это только начало. Конечно, в таком виде собор не может привлечь к себе сердце православного москвича, это понятно. Сейчас это кафедральный собор Петербурга.
Закончилась служба, у меня было полтора часа до поезда. Я собрался взять молитвослов, где-нибудь на лавочке почитать правило, каноны к Причастию. Двинулся к выходу, помолился у могилы Кутузова, стою, рассматриваю французские знамена. Подходит батюшка, который возглавлял службу — игумен Феоктист. Я обратил внимание, когда он совершал каждение — у него четки на руке, а клобука нет - только черная камилавка. Это, наверное, для того, чтобы приходской монах не выделялся, не затмевал настоятеля своим отличием. Подходит он ко мне и говорит: «Вы знаете, я почувствовал, что мне нужно к Вам подойти. Во-первых, у меня зрительная память сильная, я помню, Вы приезжали в Ростов. (Действительно, я был в Ростове, но это было в 1986 году, я был тогда еще диаконом, 13 лет прошло, а он помнит.) И потом, я вижу, что Вы всю службу отстояли до конца». Служба была с 18 до 20 часов 15 минут, всенощное бдение (у нас на приходе - 5 часов с половиной). В Питере обратил на себя внимание такой обычай: вот духовенство совершило полиелей - «Хвалите имя Господне...», прочитали Евангелие, помазались святым елеем — и через боковые двери разошлись. Остаются оканчивать службу только служащий священник и пара дьяконов, остальные в костюмчиках — по своим делам. В прошлые приезды наблюдал такие картины и сейчас тоже.
Разговорились с отцом Феоктистом, он оказался простым, скромным, смиренным человеком, как мне Симаков его и представлял. Говорит с небольшим украинским акцентом. Выяснилось, что он с черноморского побережья Кавказа. Показал мне алтарь, подробно рассказал о храме. В частности, рассказал, что хотя это и живопись на религиозную тему, но тем не менее было обновление образа на одной из картин. В алтаре он повесил памятку о правильном церковном чтении — читать без выказывания своих чувств, молитвенно, безстрастно. Для Петербурга это необычно. «Я здесь уже 9 лет, — говорил он. - Устроил крестилку». Я спрашиваю, как обычно, есть ли баптистерий? «Нет пока, но думаем устроить. У нас, как только «Радонеж» выступит против обливательного крещения, сразу поток людей идет креститься погружением, не знаем, что и делать. Некоторые из духовенства говорят: «хорошо, доходов будет больше, еще раз покрестим». В подвале, куда меня пригласил батюшка, чтобы не сидеть на улице, в полу увидел три квадрата, по словам отца Феоктиста, это следы от баптистериев. Пообщался с ним, показал альбом о нашем храме. «Конечно, — говорит, — Москва — это совсем другое. У нас многие Москву не понимают». Принес мне пирожков с капустой, огурчиков свеженьких. После трапезы прочитал молитвенное правило и поехал на вокзал. Вот что было в Петербурге за эти два дня.
Закончу эти заметки текстом своего интервью о попытке посещения Южной Осетии и о пребывании в Северной Осетии незадолго до трагических событий в августе 2008 года.
«Мне дороги и грузинский и осетинский народы»
(О попытке посещения Южной Осетии и о пребывании в Северной Осетии)
Интервью
Безпрецедентные меры по блокированию известного московского священника были предприняты на границе с Южной Осетией.
- Отец Кирилл, определенный резонанс приобрела Ваша неудачная попытка побывать в Южной Осетии. Расскажите об этом.
Напротив, поездка была удачной и плодотворной. Меня пригласило Евразийское движение, с которым я давно сотрудничаю. Их было несколько десятков человек («не шило в мешке»). Они направлялись в молодежный лагерь в горах. Там у них была намечена большая программа по активному отдыху, лекции, семинары и т. п. Главным приобретением в дороге для меня было, безусловно, общение с Павлом Зарифуллиным, всего лишь, как он говорит, на четверть славянином, а вообще-то татарином. Классный специалист по межнациональным отношениям, неплохой организатор, оратор, интересный собеседник. Если бы от меня зависело, смело бы назначил бы его руководить Министерством национальностей, которое обязательно нужно восстановить. Запомнился душераздирающий рассказ проводницы-осетинки о бесланской трагедии. Не о всех зверствах боевиков мы знаем. В Беслане мы побывали – осмотрели многострадальную школу, на кладбище помолились об убиенных детях.
- А Вы в каком качестве туда направлялись?
В качестве частного лица. Я в отпуске. Отпуска я провожу не в санаториях или на море, а в паломнических поездках и встречах, причем, как правило, стараюсь возвращаться на воскресное богослужение к себе в храм.
- Так что же все-таки произошло на границе? Попали ли Вы в Южную Осетию?
Были предприняты безпрецедентные меры, чтобы блокировать мой проезд в Южную Осетию. Придирались к документам, хотя на наших глазах с такими же документами за считанные минуты проехало шесть человек. Меня же и еще трех человек из евразийской делегации мурыжили на КПП ровно семь часов. Дело было высоко в горах - у меня в это время был жесточайший гипертонический криз. Несмотря на это, время мы не теряли – усердно помолились о мире в этом регионе, имеющем постоянную тенденцию к обострению напряженности, А. Г. Дугин провел очень интересную беседу с молодежью. Я инициировал сопровождавших нас осетин на развернутый рассказ об истории и современном положении этого региона.
- Как Вы думаете, кто стоит за решением пограничников - не допустить Вас в Южную Осетию?
Только не сами они это решили. Уже, когда мы отъезжали, на нейтральной полосе некоторые из них подходили ко мне под благословение, извинялись и говорили, что это была установка сверху. Лидеры евразийцев произвели шквал звонков во все инстанции – все было безполезно. «Категорически отказать» – поступила команда на КПП. Президент Южной Осетии Э. Кокойты был глубоко опечален всем этим.
- Кстати, Вы знакомы с ним?
Когда я отъезжал от границы, мне сказали, что было личное приглашение президента мне, что он знает наш храм, бывал у нас еще до своего президентства.
- Причастны ли к такому исходу какие-либо грузинские инстанции?
Чего не знаю, того не знаю. Думаю, однако, что эта версия имеет право на существование. Если это так, то жаль. Я же не грузинофоб. Мне дороги и грузинский и осетинский народы. В Грузии я трижды был в паломнических поездках, почитаю Патриарха Илию. Значительная часть нашей общины – грузины. Некоторые из них даже живут на приходе и занимают важные должности. Я постоянно участвую в различных мероприятиях, проводимых грузинскими обществами в Москве. Если кто-то думает, что мой визит имел антигрузинский подтекст, то глубоко ошибается. Напротив, если бы я там побывал – это имело бы позитивное значение. «Незаконное пересечение границы» - заключение таможенников. Я по наивности думал, что пересечение границы – это, когда пограничник отвернулся, а ты рванул на колючую проволоку, проделал там лаз и что есть мочи побежал в горы. Оказывается, что это нечто другое, эфемерное – соответственно и административное взыскание – штраф в размере 100 руб.
- Что поведали осетины об истории конфликта и современном положении здесь?
До 17-го года в составе Тифлиской губернии был осетинский округ, а часть поселений Южной Осетии входила в состав Владикавказской губернии. После октябрьского переворота Грузия провозгласила независимость, а Южная Осетия осталась в составе Советской республики. Это привело к геноциду осетин в 1920 году. Когда Грузия была вновь включена в состав единого государства – СССР, то в качестве автономии Южная Осетия была включена в состав Грузинской ССР. К 90-м годам, по словам осетин, от автономии остались «рожки да ножки». В общесоюзном референдуме 1990 года Грузия участия не принимала, а Южная Осетия участвовала. После августа 1991 года Грузия односторонне вышла из состава СССР, и, когда она еще была не принята в ООН, Южная Осетия провела референдум и осталась в составе РФ. Президент Гамсахурдия автономию упразднил, и это взорвало ситуацию, началась война. Особенно усугубил ситуацию расстрел грузинским отрядом колонны мирных беженцев из Цхинвали – погибло около 40 человек, в основном женщины и дети. Был проведен 2-й референдум, подтвердивший итоги 1-го – быть в составе РФ. Сейчас здесь три миротворческих батальона по 500 человек: российский, грузинский и осетинский. Де-факто Россия признала независимость Южной Осетии. Грузия предлагает широкую автономию, но осетины категорически не соглашаются, не доверяют. Жители Южной Осетии желают, чтобы Россия признала их независимость, а потом войти в состав РФ.
- А что Вы знаете о церковной жизни в Южной Осетии?
Ситуация там весьма своеобразная. После вооруженного конфликта в 1992 году там нет грузинских священников. Местные верующие обращались в РПЦ МП – взять их под свою юрисдикцию. Был отказ. Создавшийся вакуум заполнили греческие старостильники Киприановского Синода. Они направили сюда епископа Георгия, местного уроженца. Несколько лет назад, еще будучи архимандритом, он, прослышав о нашем храме, был у нас. У него всего три храма. Заложен фундамент большого собора в Цхинвали. Кстати, Южная Осетия - единственная республика на Кавказе, где нет ни одной мечети.
- А как Вы провели оставшееся время поездки?
Посещал святыни Северной Осетии, общался со своими знакомыми, которые у меня имеются практически в каждом уголке России. Нашим шофером был Руслан, один из неформальных лидеров балкарского народа, благородный человек, мусульманин, редкий русофил, остро переживающий за судьбу империи. «Пока мы вместе – мы скала», «Россия - оплот здоровых сил всего мира» - говорил он. В многочасовом общении с ним я получил огромную информацию о событиях в Чечне, истории и современном положении балкарского народа. Он сторонник христианско-мусульманского единства ради сохранения общего Отечества, противник экстремизма. Меня он поразил такими словами: «За 20 лет моей активной деятельности, Вы - первый человек из Москвы, который так глубоко интересуется национальными проблемами на Кавказе». По его словам – одна из главных причин депортации кавказских народов в годы войны – опасение, что тюркоязычные из них могли бы поддержать Турцию в случае вступления ее в войну на стороне Германии. Саму депортацию осуществляли отнюдь не русские люди.
Поразил Свято-Успенский мужской монастырь в горах, в живописном месте. В его названии, как и в названии женского монастыря – слово «аланский». Несколько неожиданно. Трудно представить себе у нас, например, такое: Свято-Данилов русский монастырь или Троице-Сергиева русская Лавра и т. д. На башне монастыря - осетинский флаг. В единственной монастырской церкви во имя святых жен-мироносиц – копия чудотворной Иверско-Моздокской иконы (оригинал пропал в конце 30-х гг.), икона просветителя Алании – св. ап. Андрея Первозванного с частицей мощей. На Богоявление к монастырю съезжаются более 10 тысяч человек. Проводятся массовые крещения в реке. Во время осмотра женского монастыря запомнились слова инокини Елизаветы: «Отец Ипполит говорил, что для спасения Осетии необходимы монастыри. Что я могу сделать для своего народа? – Приму монашество, буду жертвой за Родину». В монастырском храме находятся большие частицы мощей преподобномученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары.
- Были ли еще какие-либо сложности в поездке?
Судя по всему, мы были под плотным контролем спецслужб. Возвращаемся из поездки в монастырь в гостиницу ночью, а нас поджидает четверо офицеров ФСБ. Старший мне говорит: «Святой отец, по Вашему лицу видно, что у Вас советский паспорт, Вы его не поменяли по идейным соображениям». Я: «20 миллионов граждан его не поменяли, множество документов подтверждают его действительность, а что у Вас есть ко мне вопросы?» Он: «Нет-нет, ничего». Все ясно – дали понять, что мы под колпаком.
- Что еще запомнилось в поездке?
Общение с одним священником. Не буду называть его имени. Много интересного он рассказал. Например, в районе границы Осетии с Ингушетией стоит огромный крест на месте гибели тверского князя Михаила. Видны на нем следы от пуль. К сожалению, Тверская епархия отказалась что-то сделать здесь для увековечивания памяти святого князя. В его храме хотя и есть баптистерий, но крестит он часто обливанием, потому что для осетинок необходимость раздеться при погружении – непреодолимый барьер. Оригинальный батюшка, бывший десантник. Пришел как-то к нему один человек и просит отпеть родственника. Батюшка спрашивает: «А он христианин?» – «Тебе что, поп, не все равно перед кем кадилом помахать?!» - «Ну, тогда иди в театр, пусть там артист нарядится и все тебе сделает». О Беслане и бесланской трагедии я услышал следующее. Населения в городе 35 тысяч человек, русских осталось всего 200 человек, множество подпольных заводов производят здесь некачественную водку. Директор школы трижды отказывалась освятить школу. Дети родителей, которые молились в храме, спаслись. Финансировала акцию британская спецслужба. После трагедии, по словам батюшки, здесь произошел некий перелом в ситуации в сторону стабильности.

















.jpg)
.jpg)