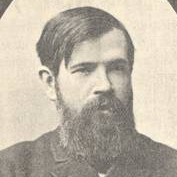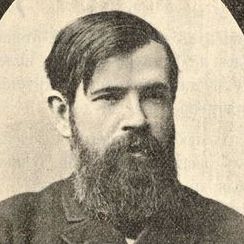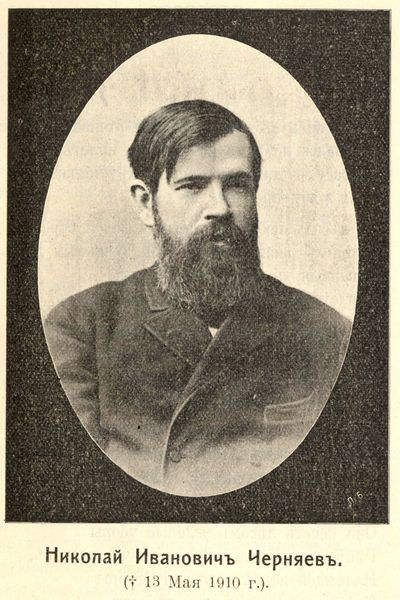 От
редакции: В этом
году исполнилось 340 лет со времени начала так называемой «Крестьянской войны
под предводительством Степана Разина (1670-1671 гг.)».
От
редакции: В этом
году исполнилось 340 лет со времени начала так называемой «Крестьянской войны
под предводительством Степана Разина (1670-1671 гг.)».
Ниже мы публикуем несколько фрагментов «Из записной книжки русского монархиста» Н.И. Черняева (См. на РНЛ сочинения Н.И. Черняева: «Кое-что о Кольцове» ;
Теоретики русского Самодержавия. Лермонтов ;
Идеалы русского Самодержавия )
Публикацию, специально для Русской Народной Линии (по изданию: Черняев Н. И. Из записной книжки русского монархиста // Мирный труд. 1904.- №8.- С.69-75), подготовил доктор исторических наук, профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александр Дмитриевич Каплин.
Название дано составителем.
+ + +
Об идеализации Стеньки Разина
и о памяти, оставленной им в народе
К каким диким и нелепым выводам может приводить сплошная идеализация всех исторических явлений старинной Руси, может служить стихотворение г-на Навроцкого «Утес на Волге», ставящее на пьедестал... Стеньку Разина! Это стихотворение шероховато, нескладно по форме и вообще лишено всяких художественных достоинств. Несмотря на то, оно сделалось чрезвычайно популярным и печатается во всех сборниках, добивающихся распространения среди большой публики, особенно среди учащейся молодежи.
И чего только нет в этом стихотворении!
Бугор здесь называется утесом, причем патетически замечается, что утес, осчастливленный пребыванием на нем почтенного атамана Степана Тимофеевича,
Ни нужды, ни заботы не знает.
Точно будто другие приволжские «утесы» не имеют покоя от нужды и забот.
Разбойничьи замыслы Стеньки Разина именуются великим делом.
Его пребывание на утесе воспевается таким тоном, как будто речь идет о Моисее и Синае.
Народные песни прилагают эпитет «буйная» к слову «голова», а у г-на Навроцкого Стенька Разин наделяется даже буйными костями.
Зверские, кровавые выходки Стеньки Разина величаются у г-на Навроцкого «удалым» житьем.
Поэт, очевидно, принял за чистую монету калмыцкую сказку, вложенную Пушкиным в «Капитанской дочке» в уста Пугачева.
Верхом безсмыслицы и лубочной декламации являются две последние строфы «Утеса»:
Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил,
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет.
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.
Итак, воспоминанья о бунте залитого кровью Стеньки Разина, воспоминанья о его гнусных насилиях и разнузданности имеют чудодейственную способность воспламенять умы и сердца лучших русских людей, поддерживать их в борьбе с корыстью и неправдой!..
Что сказать по поводу приглашения русских общественных деятелей предпринимать поездки на Волгу в видах поклонения утесу Стеньки Разина? Можно сказать только одно: бумага все терпит.
Горе поколению, которое воспитывается на идеализации таких людей, как Стенька Разин и Емелька Пугачев!..
Ведь и Разин, и Пугачев внесли в русскую историю самые печальные и мрачные страницы, ибо они уверовали в злодейство и поклонились ему.
И г-н Навроцкий, и другие панегиристы Стеньки Разина (г-н Скиталец, например, в рассказе «Сквозь строй») ссылаются обыкновенно на мнимое уважение, питаемое народом к его памяти. Последняя глава известного исследования покойного Костомарова «Бунт Стеньки Разина» показывает, что это за «уваженье». Народ помнит Стеньку как воплощение страшной и злой силы. В народных преданиях Стенька Разин представлялся не только душегубцем и сущим зверем, но и врагом Христовой Церкви, каким-то предтечей антихриста, проклятым «семью соборами».
Вот некоторые из преданий и рассуждений приволжского люда о Стеньке Разине, записанные Костомаровым, относившимся к Разину без всякого предубеждения и видевшим в нем порождение казачества, ратовавшего во имя отжившего свой век удельно-вечевого уклада, по своему существу враждебного началам Самодержавия и Единодержавия.
«Стенька дотронулся до кандалов разрывом-травою - кандалы спали; потом Стенька нашел уголек, нарисовал на стене лодку, весла и воду, все как есть, да, как известно, был колдун, сел в эту лодку и очутился на Волге. Только уж не пришлось ему больше гулять: ни Волга-матушка, ни мать сыра земля не приняли его. Нет ему смерти. Он и до сих пор жив. Одни говорят, что он бродит по городам и лесам и помогает иногда беглым и безпаспортным. Но больше говорят, что он сидит где-то в горе и мучится».
А вот легендарный рассказ каких-то русских матросов о том, что с ними произошло на берегу Каспийского моря, на пути в Россию из туркменского плена:
«Мы под гору сели, говорим между собою по-русски, как вдруг позади нас кто-то отозвался: «Здравствуйте, русские люди!» Мы оглянулись: ан из щели, из горы, вылазит старик - седой-седой, старый, древний, - ажно мохом порос. «А что, - спрашивает нас, - вы ходите по русской земле: не зажигают там сальных свечей вместо восковых?» Мы ему говорим: «Давно, дедушка, были на Руси: шесть лет в неволе пробыли; а как живали еще на Руси, так этого не видали и не слыхали!» - «Ну а бывали вы в Божьей церкви, в обедне, на первое воскресенье Великого поста?» - «Как же, дедушка, бывали!» - «А слыхали, как проклинают Стеньку Разина?» - «Слыхали». - «Так знайте же: я Стенька Разин. Меня земля не приняла за мои грехи; за них я проклят. Суждено мне страшно мучиться. Два змея сосали меня - один змей с полуночи до полудня, другой со полудня до полуночи; сто лет прошло - один змей отлетел, другой остался, прилетает ко мне в полночь и сосет меня за сердце; я мучусь, к полудню умираю и лежу совсем мертвый, а после полудня оживаю, и вот, как видите, жив и выхожу из горы; только далеко нельзя мне идти: змей не пускает. А как пройдет сто лет, на Руси грехи умножатся да люди Бога станут забывать и сальные свечи зажгут вместо восковых перед образами, тогда я пойду опять по свету и стану бушевать пуще прежнего. Расскажите об этом всем на Святой Руси!»
Весьма вразумительны и слова одного 110-летнего старика, жившего близ города Царицына и собственными глазами видевшего Пугачева:
«Тогда (говорил он) иные думали, что Пугачев-то и есть Стенька Разин; сто лет кончилось, он и вышел из своей горы». Впрочем, сам старик не верит этому; зато верит вполне, что Стенька жив и придет снова. «Стенька - это мука мирская! Это кара Божия! Он придет, непременно придет и станет по рукам разбирать... Он придет, непременно придет... Ему нельзя не прийти. Перед Судным днем придет. Ох, тяжкие настанут времена... Не дай, Господи, всякому доброму крещеному человеку дожить до той поры, как опять придет Стенька!»
Очевидно, что почет поволжского люда к памяти Стеньки Разина, воспетый г-ном Навроцким и раздутый г-ном Скитальцем, - весьма двусмысленный почет, которого не пожелает для себя никакой руководитель политическими движениями народа. Такой «почет» мало чем отличается от безславия и проклятия. А все-таки следовало бы снять печать таинственности со Стеньки Разина и ознакомить приволжский люд в целом ряде общедоступных, как по цене, так и по изложению изданий со Стенькой Разиным и его сподвижниками...
+ + +
О том, как эксплуатировал Стенька Разин в своих интересах преданность народа Царю и Династии
«Бунт Стеньки Разина» Костомарова подтверждает, что Стенька прекрасно понимал значение русского монархического чувства и старался пользоваться им в своих интересах, то есть морочить народ своей мнимой преданностью Царю:
«Стенька говорил, что казаки подклоняют его царскому величеству острова, которые завоевали саблей у персидского шаха».
Беседуя под Астраханью с немцами, состоявшими на царской службе, Стенька Разин пил за здоровье Царя Алексея Михайловича.
«Стенька дал знак, чтобы они сели, и при них же налил водки и выпил, сказав:
- Пью за здоровье его царского величества, великого Государя!
«О, какими лживыми устами, о, с каким коварным сердцем
произнес он эти слова!» - говорил свидетель.
Когда царицынские стрельцы сокрушались о том, что изменили Государю, Стенька сказал им:
- Вы бьетесь за изменников-бояр, а я со своими казаками сражаюсь за великого государя.
Взяв Астрахань, Стенька привел астраханцев, обращенных в казаки, к крестному целованию. Он велел им присягать стоять за великого государя и за своего атамана Степана Тимофеевича, войску служить и изменников выводить.
Как ни неистовствовал Стенька в Астрахани, но он с толпой казаков, как будто ради торжества, приходил к митрополиту в гости в день тезоименитства царевича Феодора. Вообще, Стенька хотя и говорил, что он сожжет у Государя наверху все дела (Стенька с ненавистью относился к писаной бумаге), но притязаний на Верховную Власть не заявлял. «Я не хочу быть царем, - говорил он казакам, - хочу жить с вами как брат».
«Легко было возмутить народ ненавистью к боярам и чиновным людям; легко было поднять и рабов против господ; но было трудно поколебать в массе русского народа уважение к царской особе. Стенька, поправший и Церковь, и верховную власть, знал, что уважение к ним в русском народе очень крепко, и решился прикрыться сам личиной этого уважения. Он изготовил два судна: одно было покрыто красным, другое черным бархатом. О первом он распространил слух, будто в нем находится сын Алексея Михайловича, царевич Алексей, умерший в том же году 17 января. Какой-то черкесский князек, взятый казаками в плен, принужден был поневоле играть роль царевича. Стенькины прелестники толковали народу, что царевич не умер, а убежал от суровости отца и злобы бояр, и что теперь Степан Тимофеевич идет возводить его на престол. Царевич, говорили они, приказывает всех бояр, думных людей, дворян и всех владельцев помещиков, и вотчинников, и воевод, и приказных людей искоренить, потому что они все изменники и народные мучители, а как он воцарится, то будет всем воля и равность. Повсюду эмиссары разносили эти вести, и в отдаленном от Волги Смоленске один из них уверял народ, что собственными глазами видел царевича и говорил с ним; с тем и на виселицу пошел. В другом судне, покрытом черным бархатом, находился, как говорили прелестники, низверженный царем патриарх Никон. Таким образом, Стенька этими двумя путями хотел поселить в народе неудовольствие к царю Алексею Михайловичу».
Бунтовщики усвоили себе тактику своего предводителя и внушали новым товарищам, что бунт поднят в защиту царевича Алексея Алексеевича.
- Вот как Нижний возьмем, - говорили они, хвастаясь и завлекая товарищей, - тогда вы, крестьяне, увидите царевича; а мы идем за царевича Алексея Алексеевича и за батюшку нашего, Стефана Тимофеевича! (Собрание сочинений Н.И. Костомарова, кн. I, стр. 442, 446, 454, 466, 468, 475).
+ + +
Тургенев о бунте Стеньки Разина
Русская художественная литература имеет гениальное воспроизведение Пугачева и пугачевского бунта в «Капитанской дочке» Пушкина. Он дополняется и разъясняется романом графа Салиаса «Пугачевцы», «Историей пугачевского бунта» великого русского поэта, трехтомной монографией академика Дубровина и множеством материалов, статей и заметок, относящихся к пугачевщине.
Бунту Стеньки Разина посчастливилось гораздо меньше. В ученой литературе, например, веские слова о нем сказаны только Костомаровым и Соловьевым, справедливо считавшим Разина и его «работничков» не сторонниками того или другого «уклада», а врагами государственности вообще, не защитниками униженных и оскорбленных, а гонителями всякого права и порядка, представителями грубой силы, произвола, хищнических и самых низменных инстинктов, не знавших вдобавок никакого удержу. В художественной литературе бунт Разина еще не имеет верного отражения. Драма графа П. И. Капниста, весьма счастливо задуманная, судя по напечатанным сценам и наброскам, осталась неоконченной. Психология Стеньки Разина до сих пор не разъяснена. Костомаров, по своему обыкновению, дал вместо живого лица эффектно освещенную, крупную фигуру, но не обнажил всех изгибов души Стеньки Разина.
Тем не менее, в нашей художественной литературе есть прекрасно написанная страница, дающая отчетливое представление об общем характере бунта Стеньки Разина. Эта страница находится в XV- XVI главах «Призраков» Тургенева.
Повествуя о своем воздушно-волшебном появлении над Волгою с таинственной феею Эллис, Тургенев наглядно показал, чем был бунт Стеньки Разина в действительности, без прикрас.
« - Крикни: «Сарынь на кичку!» - шепнула мне Эллис.
...Губы мои раскрылись против воли, и я закричал, тоже против воли, слабым напряженным голосом: «Сарынь на кичку!»
Сперва все осталось безмолвным... - Но вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех - и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться... Я оглянулся: никого нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо - и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск, как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колес, и лошадиное скакание, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное, и повелительные восклицанья, предсмертное хрипенье и удалой посвист, гарканье и топот пляски... «Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!» - слышалось явственно, - слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей, - а между тем кругом, насколько глаз доставал, ничего не показывалось, ничего не изменялось: река катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берег казался пустынней и одичалей - и только.
- Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! - зашумело вокруг. - Идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! - Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня... Фролка! Где ты, пес? - загремел страшный голос. - Зажигай со всех концов - да в топоры их, белоручек!
На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма - и в то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки... Дикий хохот грянул кругом...»
Вот то, чего хотят наши анархисты, составляющие крайнюю левую лагеря врагов Самодержавия.