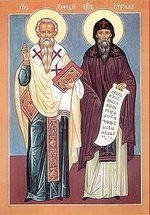В нынешнем году сибирский книгоиздатель и просветитель, известный общественный деятель, фотохудожник и собиратель культурных сокровищ русской старины, председатель президиума Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Григорьевич Елфимов празднует свой юбилейный, семьдесят пятый день рождения. Ради такого случая, будучи с недавнего времени одним из тех (очень многих) счастливцев, кого юбиляр называет друзьями Фонда, позволю себе несколько личных наблюдений и впечатлений, связанных с одной из творческих ипостасей А.Г. Елфимова – художественной фотографией.
Елфимова иногда называют по-житейски буднично фотографом-садоводом. Парламентская газета «Тюменские известия» даже статью с таким заголовком публикует – «Путевые дневники фотографа-садовода» (автор Ирина Тарабаева). А при этом в тексте речь о «роскошных», «солидных», «богато выполненных» фотоальбомах этого «начинающего садовода», и названия их говорят сами за себя – «Мальта» и «Бразилия».
Согласитесь, трудно представить начинающего уже издающим солидные фотоальбомы. А дело в том, что в Бразилию Елфимов поехал именно как дизайнер, основатель «елфимовского сада» – грандиозного тобольского ботанического парка «Ермаково поле». Приглашённый на Международный конгресс «Зелёная инфраструктура: высокоэффективные ландшафты», он не только изучал парковую культуру мира, но и фотографировал страну. И так он делал везде, где удалось ему побывать, в любой стране, в любой точке планеты.
Мне не довелось листать эти роскошные фотоальбомы, и, честно говоря, не думаю, что чужая экзотика взволновала бы меня больше, чем природа и люди России, увиденные глазами Елфимова (в его «русских», «тобольских» фотоальбомах). Но сама идея соединения этих стихий – садоводства и фотографии – мне очень близка.
***
В начале нынешнего года, когда получила от Аркадия Григорьевича новый календарь (знаменитый «ежегодный календарь Елфимова») и пролистала его, любуясь неизъяснимо очаровательными пейзажами Сибири, вдруг озадачилась вопросом: а много ли написано об этих замечательных фотографиях и их создателе? Поиски материалов в Интернете тоже озадачили. Может, плохо искала, но не удалось найти ни одной основательной статьи, всецело посвящённой Елфимову-фотохудожнику. Вбиваешь запрос – Фотохудожник Аркадий Елфимов, – и выскакивают ссылки на отчёты о фотовыставках во множестве городов России, рецензии на изданные Фондом книги, те же отзывы о тобольском календаре с упоминанием понравившихся пейзажных и тематических кадров. Но вот чтобы именно образ Елфимова как мастера художественной фотографии со всеми особенностями его авторского стиля был в центре внимания или чтобы был какой-то подробный разбор его лучших фотографий, такого материала найти не удалось. Потому, не имея пока возможности опереться на прочный фундамент профессионального комментария какого-нибудь известного специалиста, со всем простодушием дилетанта расскажу о своих собственных впечатлениях. И начну со знаменитого елфимовского календаря.
Интерес к ежегодному календарю А.Г. Елфимова появился не так давно, года четыре назад, когда попала мне в руки книга, изданная Фондом «Возрождение Тобольска». Это была переписка Аркадия Елфимова с выдающимся русским литературным критиком Валентином Курбатовым. Прислал мне её с Камчатки мой давний друг, писатель, совсем недавно ушедший от нас, Александр Александрович Смышляев. Нечаянно узнав во время нашего телефонного разговора, что я очень ценю мнение Валентина Яковлевича в литературе, догадался, какой радостью была бы для меня книга с его письмами, и в тот же день отослал её в Курск. Потом и сам Аркадий Григорьевич присылал мне больше десятка экземпляров этой замечательной книги (Курбатов В.Я. «С благодарностью – Ваш В. Курбатов». Тобольск, Изд. отд. общ. благ. фонда «Возрождение Тобольска», 2022. – 152 с.), которую я с удовольствием передала в Курский университет на филологический факультет (будучи выпускницей 1994 года).
И вот здесь, в этой любопытнейшей своим неожиданным содержанием книге, впервые обратила я внимание и на такое явление в издательской продукции Фонда, как ежегодный календарь. С таким неподдельным восторгом отзывался Валентин Яковлевич о календаре 2020 года, так искренне радовался, оценивая художественное оформление и общую концепцию этого необычного издания, что и мне загорелось непременно поглядеть на это чудо издательской деятельности А.Г. Елфимова. А ещё лучше – заполучить этот чудесный своей неповторимостью календарь в свои руки, чтоб и у меня на столе ежедневно красовались сказочно прекрасные пейзажи Сибири и лица хороших людей. Или, как писал Валентин Курбатов, «чтобы весь год с утра делить день с дорогими людьми и спасаться возле них от самого себя и от своего одиночества». Но пока об этом можно было лишь тихо мечтать. Не просить же у Аркадия Григорьевича лишний экземпляр – вдруг они все именные и кому зря в руки не даются.
С некоторой долей зависти читала потом отзывы знакомых писателей (М.К. Попова из Архангельска, В.В. Ефимовской из Петербурга и др.) о полученных ими новых календарях, пока, наконец, не стало это издание и для меня приятным новогодним сюрпризом. В январе 2024 года получила его в подарок от Фонда вместе с другими роскошными издательскими шедеврами.
Посылка Фонда была весьма основательной, более ста килограммов. Книги предназначались не мне, а нашей центральной библиотеке – Курской областной универсальной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева. А я всего лишь посредник, заинтересованный в том, чтобы тобольские книги были доступны курским читателям.
Долго разбирала посылку, отложив пока в сторону запечатанные коробки с календарями (а сердце взыграло, что не один, а целых три экземпляра!), потому что надо было срочно определяться с докладом на Знаменских чтениях, и книги Фонда были главным предметом моей предстоящей речи в «Асеевке». Уже поздно вечером, когда доклад был готов и все тобольские книги приготовлены к представлению читателям, дошла очередь и до календаря. Конечно, я очень хотела пролистать его раньше – ведь столько уже было прочитано самых высоких отзывов о нём. Но чуяла, что сил может не хватить, и потому это удовольствие лучше всё-таки позволить себе лишь тогда, когда никакие срочные планы не будут омрачать восприятие. Не угадала я лишь с одним обстоятельством. Распечатывая упаковку с календарём 2024 года уже поздним вечером, обрекала я себя на волнительную бессонную ночь… Листать эти очаровательные страницы хотелось бесконечно! Уже был четвёртый час ночи (или утра?), а отрываться от календаря не хотелось. Столько новых имён – и столько знакомых лиц! Помню эту свою неуёмную любопытствующую, взволнованно-придирчивую внимательность, эту радость ощущения свежести, какой-то детскости своих впечатлений – так хороши были страницы календаря с фотографиями Аркадия Елфимова!
Под утро заставила-таки себя отложить подарок, небезосновательно беспокоясь, что после сна острота впечатления может и притупиться. Смогу ли потом вспомнить все яркие эпизоды, на которые так эмоционально откликнулась душа? Так и вышло: сумбурные хлопоты следующего дня, усталость после доклада и прочие немощи… И через время даже цветные закладки, предусмотрительно прилепленные на понравившихся листках календаря, о которых хотела сказать особо, не смогли уберечь те первые сильные впечатления, что вспыхивали от соприкосновения с каждой страницей елфимовского подарка. Казалось, как можно забыть эти свои мысли, если они именно твои, а не чьи-то чужие? Вот открою в другой раз, и снова всё так же будет, тогда и напишу, подробно расскажу о своих впечатлениях.
Жаль, не случилось тогда это осуществить. Хорошо, хоть доклад для Знаменских чтений догадалась набросать на бумагу, и все те слова, что довелось мне сказать курянам о книгах тобольского благотворительного Фонда, о его просветительской деятельности, сохранились для истории и были напечатаны потом в одном из изданий Фонда.
И вот у меня снова в руках елфимовский календарь, теперь уже нового, 2025 года. Листаю, и вспоминаются слова В.Я. Курбатова, его пожелания издателю, чтобы фото героев дня, именинников, не заслоняли содержания дня – праздника, памятного события и т.п. И вижу, что это пожелание учтено Аркадием Елфимовым – что ни страница, то новый пейзаж, тематический художественный сюжет, памятный кадр, запечатленное мгновение жизни. А рядом, чуть ниже – скромные портреты героев, родившихся в этот день, но главное – волею судеб ставших соратниками и соработниками Фонда. Просветительский принцип выдержан в течение всего года: что ни день (новый листок календаря), то новое лицо русской культуры, новый пейзаж Сибири, улочки старинного Тобольска, величественные виды Иртыша в разное время года и суток. И ранняя туманная зорька в парке «Ермаково поле», и поздний городской вечер с золотистым сиянием уличных фонарей, и солнечный полдень на осеннем берегу какой-то небольшой тихой речушки, и ледяные торосы скованного тридцатиградусными морозами могучего Иртыша… Удивляешься чутью и мастерству фотохудожника: выйти в нужное время в нужное место, где в самых гармоничных пропорциях соединятся свет и тень, найти такую точку обзора, откуда откроется то, что никому другому ещё не приходило в голову столь пристально и любовно рассмотреть...
Пожалуй, лучше всех об этом таланте Аркадия Елфимова сказал один из друзей и соратников Фонда знаменитый Савва Ямщиков, искусствовед, художник-реставратор, прозванный коллегами «реставратором всея Руси». Ещё в 2005 году, когда фотографии Аркадия Елфимова выставлялись в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу, Савелий Ямщиков назвал Аркадия Григорьевича «одной из знаковых фигур в когорте ревнителей русской письменности и культуры», особо отметив его талант фотохудожника:
«Творческие натуры, к которым безусловно можно отнести Аркадия Елфимова, не могут быть просто номинальными руководителями. Им непременно хочется принять участие в творческом процессе. Работая в тесном контакте с известным художником книги Александром Быковым, издатель увлекся фотографией. Не как любитель решил побаловаться <фотками на память>, а досконально постиг технические премудрости сложного дела. Но одной техники мало, чтобы создать неповторимые кадры, отличающиеся индивидуальной манерой и подлинным мастерством».
Ага, вот, кажется, то, что и требовалось найти, – мнение опытного специалиста, хотя Савва Васильевич профессионал в другой области искусства. Но кому же, как не ему, реставратору русской иконы и ценителю старинной живописи, открывшему жанр провинциального портрета, увидеть зорким глазом эти привычные для него особенности елфимовского подхода к делу:
«Снятый и снимаемый Елфимовым родной Тобольск – это художественная летопись сибирского города, вобравшая в себя свидетельства древней истории и современное бытование Тобольска. Каждая исполненная мастером фотография – неповторимый портрет того или иного уголка старинного города. И подчас невозможно оторваться от этого портрета, настолько глубоко и сокровенно его содержание...»
Замечательные слова, с которыми нельзя не согласиться. И в календаре 2025 года, как, видимо, и в календарях прежних лет (могу судить лишь о двух последних) этот «портрет Тобольска» занимает самое главное, концептуально определяющее место. В этом и ведущая просветительская идея календаря. От страницы к странице, от листка к листку разворачивается свиток времени (или, как сказал об этом календаре архангельский прозаик Михаил Попов, обнажаются «годовые кольца памяти»), и нашему взору открывается неповторимая панорама жизни старинного центра Сибири – стольного града Тобольска, запечатленная острым взглядом фотохудожника, с любовью и нежностью делающего своё дело.
«Спасибо Вам за нежность к этому городу, который Вы поселили в русской генетике, так что и не бывавшие в нём, благодаря Вам, теперь уверены, что это город их детства».
Слова эти вслед за Валентином Курбатовым, написавшим их Аркадию Елфимову в 2013 году, могли бы, думается, повторить многие из нас.
…Можно ли без любви заставить себя вставать затемно и отправляться туда, где ещё не ступала нога человека на снежно-алмазную россыпь лесных тропинок и где ещё ни одна ветка не дрогнула от лёгкого рассветного ветерка? А он встаёт и идёт – по первому снегу, по осенней росе, по крутым буеракам тобольских окрестностей…
Оттого календарь от Елфимова может оставаться на нашем рабочем столе дольше того времени, что ограничено 365-ю днями текущего года, превращаясь в настольную книгу для поклонников художественного таланта его создателя и издателя. Его продолжаешь беречь и перелистывать и спустя год (да и, конечно же, годы!), и снова дивишься и наслаждаешься этим таинственным очарованием каждой страницы.
…Вот листок от 14 марта 2024 года. Двое именинников в уголке: Г.А. Резяпова из Сургута и Г.В. Иванов из Москвы. Всякий раз в этот день мысленно поздравляю Геннадия Викторовича как давнего знакомого (виделись в Москве на 15-ом съезде Союза писателей России в ЦДЛ в феврале 2018 года, а прошлой зимой написала большую статью о его поэзии, которая, по его благодарному мнению, «стала событием» на сайте «Российский писатель»). И потом ещё несколько дней, не боясь отстать от времени, не переворачиваешь листок. Почему? Так приятны лица на странице? Да, конечно, люди – главное в этом календаре друзей и соратников Фонда. И всё-таки невозможно избежать этого магнетизма елфимовских запечатленных мгновений жизни, подсмотренных любящим взглядом и снятых опытной рукой, умеющей вовремя нажать затвор фотоаппарата. Потому листок от 14 марта ещё до сих пор не перевёрнут – календарь прошлого года стоит у меня на подоконнике рядом с календарём 2025-го, где страницы перелистываю исправно в соответствии с необходимостью бежать в ногу со временем. (Не на столе, а на подоконнике – потому что там светлее и приятнее рассматривать снимки, попутно выглядывая и к себе в сад). А фотокартина, фотоистория, фотомгновение, фотовечность… Да как ни назови этот шедевр фотохудожника, которому сам автор дал название «Вечный зов», но в течение всей нынешней, почти бесснежной в наших курских краях, зимы я не в силах отвести взгляд от этого завораживающего сгустка жизни!
«Вечный зов» елфимовского сюжета с овчаркой посреди снежного великолепия «Ермакова поля» всё-таки отзывается в памяти другим словосочетанием, восходящим к названию книги очень любимого в отроческие годы писателя Джека Лондона, – «Зов предков».
И у Елфимова: всё то же «джеклондоновское» белое безмолвие его любимого парка в сказочном убранстве морозного инея (куржака) на хрустальных ветках берёз… посеребрённые тёмно-зелёные платья стройных елей, острыми макушками прокалывающих звеняще-синие небеса… послеполуденные долгие тени на синих сугробах… прихотливый изгиб освещённой солнцем тропинки… и напряжённая, будто изваянная из бронзы, фигура пса, навострившего уши в ожидании команды хозяина. А хозяин здесь, рядом, так же напряжённо замер с фотоаппаратом, выжидая миг наивысшей выразительности бытия. И где-то там, за поворотом дорожки, скрывающейся в зарослях этого нерукотворно-рукотворного берендеева царства, то бишь «Ермакова поля», кто-то тихо позвал зверюгу, и она в пружинящем ожидании замерла, прислушиваясь, готовая сорваться с места и помчаться навстречу человеческой ласке и домашнему теплу. И такая неизъяснимая гармония во всём, такой «расклад и расчёт», по слову курянина Бориса Агеева, однажды восхитившегося красотой зимнего океана, находясь на корабле посреди него, – что таким великолепием Божьего мира невозможно не восхититься всякому человеку, живущему в мире со своей душой.
…А вот другой листок елфимовского календаря, от 29 октября 2025-го, года, ещё не прожитого, но уже мною восторженно пролистанного лирическими страницами («норовя увидеть всё сразу», по слову Курбатова). Здесь только тематическое фото, без портретов именинников. Год ещё впереди, но уже повеяло грустью его завершения от этого осеннего сюжета, названного автором «Вот и первые слёзы!». Ну, у нас-то на Курщине в эти дни октября слёз обычно уж много вылилось. Разве что этот, прошедший 2024-й, был неслыханно щедр на сухие тёплые дни. Помнится, 29 октября ещё ловила кузнечиков для своего больного питомца, попавшего ко мне из дикой природы. Оставили его птицы-родители в моём саду. Сорочонок Федька, Федюня, страсть как любит кузнечиков, и выжил-то он, кажется, лишь благодаря этому щедрому октябрьскому «бесслёзному» теплодневью. Ещё летом, в июле, родители-сороки, почуяв его болезнь, бросили птенца под ёлкой, с которой рухнуло их гнездо во время летней сухой грозы (ветер побушевал, молнии посверкали, тем и кончилось). Улетели они со старшим, здоровым и крепким, не печалясь и о тех троих, что насмерть разбились о горячую землю. А брошенного полумёртвого Федьку подобрал и принёс нам пёс Барбадос, и я вылечила и вырастила птенца. Выкормила пауками, кузнечиками и сверчками.
Двадцать девятое октября мне особенно запомнилось потому, что это был последний тёплый день, когда ещё можно было позаботиться о Федькиной зимовке. Помню, было уже зябко, ветрено, облака тяжёлые сиверко гнал по тревожному небу, изредка ухающему отдалёнными взрывами: в суджанском приграничье шли бои. Над нами проносились вертолёты с тяжким гулом булькающих в воздухе винтов. Вокруг было всё пожухлое, мрачное, угрюмое. Но изредка взглядывало ещё в прогалины стремительных туч и бледное солнце, скользя беглым лучом по рыжим склонам холма, где бродила я в поисках Федькиного пропитания.
Улететь он не смог. Один раз попытался, вылетел через открытое окно, два дня бился за право жить в семье сородичей, но они его прогнали, заклевав в макушку, так что подобрала его опять в саду едва живым. Упал на землю и уже не мог взлететь. На сей раз нашёл его мой кот Барсук, который даже мышей не обижает (однако играючи может нечаянно придушить, потому Федьку пришлось-таки от него спасать).
Через несколько дней начались дожди, и дороги в поле были вдрызг разбиты военными «Уралами», водители которых, приветствуя нашу машину дружелюбным кивком, вежливо сворачивали в грязь обочины, позволяя нам кое-как просочиться мимо них. Дожди были не очень-то и обильные, и сухая земля благодарно и быстро впитывала небесную воду, однако техника эта столь тяжёлая, что продавливает такую глубокую колею, из которой даже нашему вездеходу не всегда удаётся выбраться. Я тоже благодарно кивала водителю и неприметно крестила кабину «Урала» с белым ромбообразным рисунком – древнеславянским символом родной земли. Такими символами вышивались раньше рушники в женском приданом, и моя мама ещё умела делать такие вышивки крестиком. Жаль, в городском быту эти рушники не сохранились. А от машин с такой «вышивкой» на кабине исходило чувство надёжности и уверенности в правоте нашего дела – ведь это знак родной земли, которую мы защищаем. И именно на курской земле, от курской народной вышивки, видимо, и взяли наши военные водители этот старинный знак-оберег. Если кто-то скажет, что это язычество, не соглашусь, потому что внутри ромба изображается крест, называемый андреевским (так был распят апостол Андрей). Да и сегодня всем понятно, что эти символы служат не духовным, а психологическим маркером нашей правоты. Духовная броня у нас одна – молитва и крестное знамение перед боем.
…Удивительно, что 29 октября ни у кого из друзей и соратников Аркадия Григорьевича Елфимова нет дня рождения. Потому на страничке только это грустное фото – «Вот и первые слёзы!». Сюжет его трогательно прост, безыскусен, строг и лиричен. Берёзовые бруньки «плачут» капельками дождевой росы…
Но почему же я так переполошилась, увидев эту картинку в календаре… А потом и написала большое письмо Аркадию Григорьевичу и – в довершение своего переполоха – собрала посылку и отправила в Тобольск, на адрес Фонда. А в посылке – альбомы с фотографиями моего сада, посаженного и выращенного своими руками. После встречи с отцом Фёдором Конюховым (летом 2021 года) мой 10-летний сад получил название Сад вечернего бриза. И в этом саду теперь многое напоминает мне о той первой встрече. С тех пор я уже трижды ездила к отцу Фёдору, этим летом довелось пообщаться с ним вновь. Но именно календарный листок с датой 29 октября 2025 года побудил меня кинуться к альбомам своего сада. Эти плачущие берёзовые бруньки (по сути – почки, заложенные деревом на следующий вегетационный сезон), эти прозрачные невесомые капли осенней влаги – то ли дождя, а то ли тумана – на концах гибких ветвей отозвались во мне возгласом удивления: «У меня ведь точно такое фото есть в альбоме!». И сделано оно осенью 2021-го, когда я ещё даже не знала, что Аркадий Елфимов – замечательный фотограф, издающий альбомы и календари со своими работами. Тогда мы только-только познакомились с Аркадием Григорьевичем. Это произошло, когда он, узнав, что в Курске написана книга о Фёдоре Конюхове, позвонил автору и предложил свою помощь в её издании.
…Это поразительное созвучие настроений на снимках двух таких разных по интересам и возрасту фотографов, находящихся в разных концах России, меня потрясло: как такое может быть?! Как может совпасть и точка взгляда на снимаемый объект, и форма веток, и даже род дерева – берёза! Разница, совсем небольшая, лишь в сроках съёмки. У меня берёзовые слёзы ноябрьские, а не октябрьские, как у Елфимова. Хотя и тут расхождение всего в какие-то недели полторы, а то и меньше. В альбоме 2022 года снимок мой называется «Идёт холодный ноябрьский дождь». Вроде избыточное пояснение, что ноябрьский дождь холодный (а каким же ему быть в это время), нужно для того чтобы подчеркнуть разительный контраст между температурой воздуха (уже приближающейся к нулевой отметке) и обликом сада, ещё вовсю зеленеющего в нижнем ярусе (благодаря стелющейся по земле яснотке). И только несколько рыжих засохших листьев на берёзе подсказывают время года: точно не весна, когда после зимних метелей уж ни одного листочка на ветвях не остаётся. Да и вечнозелёная яснотка весной уже не так свежо смотрится, свалявшись под тяжёлыми сугробами.
И вот – эти гибкие мокрые ветки берёзы и эти плотные продолговатые бруньки с каплями «слёз» – вот это поразительно совпадает у нас с Аркадием Григорьевичем. Невероятным кажется такое сближение, но это факт: даже расположение ветвей, даже форма почек («уголком» две срослись) в центре снимка, на переднем отчётливом плане – это как одним человеком подсмотрено. И если б у меня был календарь лирический, а не садовый, то не избежать бы и мне в названии снимка или печального «плача», или прощальных «слёз».
И разве могла я не восхититься таким созвучием, могла не возрадоваться такому нашему этетическому родству?
Если так родственно увидели мы с Аркадием Григорьевичем эти прозрачные капли на ветках берёзы, значит, есть в нас какой-то единой настройки барометр или, может, компас, указывающий на явления природного мира, к которым мы нечаянно обращаемся в разное время и в разных точках земли, но с одной, подсказанной внутренним тяготением стороны. А проще говоря, мы явно не чуждые друг другу люди. Душевно родственны, духовно едины? Было бы опрометчиво судить на основании только одного примера. Но таких снимков у нас не один и не два, а множество. Это и удивляет.
…Вот ещё страничка календаря – 17 ноября 2025 года. Печальный пейзаж с подписью фотохудожника: «Здесь временем седым сокрыты следы сражений и побед». Бескрайняя равнина в снегу с кочками сухой порыжевшей травы – и чёрный силуэт дерева на фоне мглистого облачного неба. Тревожная графика изогнутых ветвей, старый дуплистый ствол. Живое оно или мёртвое? – уже не угадаешь. Однако именно оно создаёт настроение снимка, оно организует пейзаж, уравновешивая две части свободного (но не «пустого») пространства – небо и землю, разделённые у края горизонта лишь полоской леса. Больше ничего нет. Дерево соединяет две стихии, две тверди – небесную и земную, причудливо «прорастая» густо ветвящейся кроной в разреженные облака. И кажется, что это корни. И всматриваешься – и не можешь понять: отчего столько очарования в этом бедноватом печальном пейзаже? Какая тайна сокрыта в этом чернеющем древесном силуэте? «Здесь временем седым сокрыты следы сражений и побед»… Вот это и поразительно, что следы истории будто и не земля хранит (по которой когда-то проносились орды Кучума), а вот это чёрное дерево, пустившее корни в вечное небо…
И я опять изумляюсь совпадению: лет десять назад сделала в долине Сейма, километрах в двадцати от Курска, очень похожий снимок. Именно в деталях дело: такие же кочки сухой травы по всей луговине, такие же ватные облака, расплющенные, распластанные по серому небосводу, – и дерево с оголёнными ветвями, одиноко склонившееся немного вправо, будто под тяжестью замерзшей кроны. Композиция снимка и его внутреннее настроение – всё опять до мельчайшего совпадает и перекликается. Что же это значит?..
Вообще-то не только в календаре меня удивило сходство некоторых ракурсов во взгляде мастера-фотохудожника с теми пейзажами, что есть и в моей коллекции фотографа-дилетанта. Впервые довелось ощутить эту радость узнавания в альбоме Аркадия Елфимова «Ангел Сибири» (многие фото из которого встречаются и в календарях, что абсолютно естественно). Потому скажу здесь несколько слов и про этот альбом.
Собственно, о самом альбоме, о факте его бытования в культурном поле России, написано достаточно много ценителями фотографии Аркадия Елфимова. Но я из пристрастия к Валентину Курбатову снова приведу его слова, которые – каюсь в грехе зависти – хотела бы написать и сама.
В рецензии на парный комплект фотоальбомов («Ангел Сибири» А.Г. Елфимова и «Ангел вострубил» П.П. Кривцова), изданный Издательским отделом Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» в 2008 году, В. Я. Курбатов пишет:
«Как жалко, что мы потеряли высокое восклицание: «О!», с которого любили начать строку романтики. Говорят, в частотном словаре Пушкина оно встречается чуть не четыреста раз. И это восклицание прекрасно, потому что оно – кратчайший способ отблагодарить Бога за чудо мира. ... «О!» через силу не воскликнешь. Оно вырывается само собою».
Это Валентин Яковлевич о том, как естественно было его восхищение, когда он раскрыл оба альбома. И далее он размышляет уже конкретно о фотографиях Аркадия Елфимова, листая альбом «Ангел Сибири». Приведу большую цитату, потому что Курбатов тут лучше всех объясняет тайну – что именно изумляет нас в работах фотохудожника Елфимова:
«Он снимает не «виды», не то, что расходится на открытки для заезжего человека. Он ждёт, когда откроется сердце того, что насквозь известно и привычно. Ведь каждый уголок уже будто до дыр «иссмотренного» мира однажды словно распахивается перед нами, и мы только вздыхаем с изумлением: Господи, как же мы не видели этого прежде? А это зрение было не готово, душа помалкивала, а тут всё «сошлось». И пейзаж, угадав готовность души, поворачивается лучшим в себе. И в фотографии хотя бы только покосившегося забора становятся видны и любовь, и свет дня, и счастливое сердце, словно забор этот только для того и прожил, чтобы вот так покоситься и тем исполнить главное своё не «заборное» служение, – сказать, как умеет, своё единственное «покосившееся» слово в замысле Божьем о мире. Кадр за кадром красота открывается и в самом простом, чего обычно никто «не видит», когда говорит, кажется, не само изображение, не деревья, избы, облака и предметы, а только мелодия, только сам воздух дня. Потому что «смотреть» тут нечего, а вот дышать есть чем и слышать есть что» («Третий центр, или Во свете Твоем»).
О нескольких таких снимках и хочу сказать. Заодно, конечно, радуясь, что и у меня есть что-то хоть отдалённо похожее на фотолирику Аркадия Елфимова. Да, именно – он тобольский фотолирик! Потому что фотографии его сродни лирической поэзии. Не случайно же своими работами он иллюстрирует книги стихов.
Вот, к примеру, снимок под названием «Тобольский материк III». Целая поэма! Невероятно причудливое – точно уж сухое – дерево, скорее остов его, и лодка в снегу (или во льду). Многозначительно, грустновато... И, как говорит Курбатов, «смотреть» тут нечего». Но вот слушать мелодию, дышать воздухом загадочного материка…
И опять я про своё: вот эта лодка, даже расположение её в пространстве снимка – снова совпадение моё с Елфимовым! Неважно, что у меня лето, и лодка моя деревянная, и лежит она поперёк ручья, служа мостиком через грязь после обильных дождей (а в жару ручей пересыхает). Мотив лодки у нас – один. Затонувшая наполовину, она даёт картину горестного, бедственного состояния нашей нынешней жизни. Но я ещё и про то, что вот надо же было увидеть её, эту лодку, нечаянно, и именно в таком ракурсе… Надо же, что бы она вот так лежала и в Тобольске, и в Курске…
Умилила меня и любовь Аркадия Григорьевича к травинкам и былинкам всяким (снимки «Между увалами», «Зимний гербарий», «Одиночество» и др.), то покрытым инеем, то просто (крупным планом) в поле одиноко стоящим и ветром колеблемым. Или нет, не в поле, а «На диком бреге Иртыша…», как гласит название фотосюжета на странице сто восемьдесят седьмой. Кстати, и эта словесная «нумерация» страниц художественного альбома – тоже часть его очарования.
Неожиданно знакомой показалась мне и роща берёзовая в золотистом воздушном ореоле – фотосюжет «Осенний ангел» (страница сто семьдесят вторая). Такие же тонкие стройные берёзки фотографировала я несколько лет назад в Конышёвском районе, в деревне Захарково, откуда родом отец моего мужа. Сейчас мы не решаемся туда поехать – линия фронта была недалеко, поля заминированы. А мы только по полям и ездим в родные края. У Елфимова на снимке Ангел с трубой и тобольские сосны в соседстве с берёзками, у меня же лишь стайка взгрустнувших берёз на холме. Но вот эта их девичья стройность, нежная лёгкость, хрустальность… Этот масштаб приближения, фокус детали… Это увидели мы с Аркадием Григорьевичем как-то очень родственно и в композиционном плане, и в цветовом.
Согласитесь, такие «странные сближенья» (по слову Пушкина) не могут не удивлять. Потому что много чего пересмотрела у других фотографов, фотохудожников, но такого явного узнавания своего не бывало. Наверное, у всех любителей художественной фотографии, не говоря уже о мастерах, есть концептуальные циклы с образами воды, земли, неба, деревьев, трав и т.п. Но с Аркадием Григорьевичем какая-то совсем неожиданная история… Даже лужи на дороге объединяют нас!
Это я про сюжет «Просёлок» на странице сто шестьдесят пятой. Ну всё точь-в-точь: и лужа на переднем плане, и несусветная грязь разбитой колеи, и голые дерева осенние… Только у Елфимова ещё рассыпана весёлая листва по грязной дороге, а у меня в сюжете «Дорога на хутор Песочный» по обочинам тает слежавшийся за зиму снег, насыщая и без того разливанную мутную лужу. Два времени года, два «противоположных» природных цикла, а необъяснимое «внесезонное» очарование столь знакомого нам и привычного русского бездорожья – и на курской, и на тобольской земле – одно.
А вот «Вербное воскресенье III» на странице альбома сто шестидесятой. Веточки вербы с едва проклюнувшимися пушистыми «котиками» – на переднем плане и во всю «квадратуру» снимка. На втором плане, полуразмытом, деревянный домик с уголком крыши, подпирающим небо, а на третьем – уже едва различимы очертания храма с туманным золотом куполов. У меня всё иначе – разлившаяся река вместо дома и неугомонный шмель на вербе – вместо храма. И всё-таки чувствуется, узнаётся что-то общее, объединяющее, звучащее в унисон… Верба! Верба во весь окоём фотоснимка. Верба на первом плане – с чёрной графикой переплетающихся ветвей и солнечным мотивом золотистого свечения (у Елфимова – купола, у меня – вовсю распустившиеся, до ярко-лимонного, вербные «котики»). И отсутствие прямого солнечного света на переднем плане, только отражённый (у Аркадия Григорьевича – в куполах и стенах храма, едва просматриваемых сквозь матовую пелену воздуха; у меня – в бликах на речной зыби, в дрожащем течении солнечного ветерка). Но самое поразительное – это совпадение композиционных центров. Там, где у Елфимова проступает золотой купол храма, притягивая взгляд, у меня – деловитый шмель. У него – город, у меня – дикая природа. Но идея…
Есть вещи, которые при внешней несхожести, порождают у нас одинаковые ассоциативные связи. Возникает эффект узнавания чего-то родного, своего. Будто на разных языках сказали, но об одном.
Листаю альбом наугад, где раскроется…
Страница девяносто первая, пейзаж называется «Весеннее». Вспоминается оброненное Курбатовым: «что тут смотреть»… Обуглившаяся стерня на чёрных кочках, торчащих из полой воды, да ржавый сухостой прошлогодней растительности. А вот любуюсь! И радуюсь: в который раз мы перекликнулись с Аркадием Григорьевичем. Ибо у самой таких же безвидных пейзажей весенних много – и с обуглившимися кочками на лугу, и с поломанными ракитами («Рукопожатие» Елфимова на странице восемьдесят восьмой), и с разливом, затопившим берег реки до самых макушек клёнов…
И названия циклов у нас перекликаются. У Елфимова «Тобольское небо» – а у меня «Небо над Курском». «Отражения» – а у меня «Глаза воды». Это, конечно, из поэзии Игоря Шкляревского пришло ко мне, взяла у него. Аркадий Григорьевич многие свои фотографии называет строчками стихов русских поэтов. И у него это получается очень естественно, а иногда и почти неизбежно, как, например, в случае с фотосюжетом в календаре 2024 года на страничке от 31 марта. Когда смотришь на это фото розовато-сумеречной сельской улицы с поблёскивающей ледком дорогой и закатно пламенеющей полусферой солнца над снежной крышей одного из крепких нарядных домиков, кажется, что у автора просто не было выбора, кроме как процитировать здесь стихи Ф.И. Тютчева: Помедли, помедли, вечерний день, / Продлись, продлись, очарованье.
Очень хорош у Елфимова пейзаж из цикла «Тобольский офорт» на странице четырнадцатой. Завораживает! Какая-то сверхъестественная гармония и умиротворение. Можно смотреть долго, пристально, не отрываясь, и взгляд будто плещется в тёплых струях нежности и любви. Тончайшие токи глубинного земного тепла и несказанного воздушного равновесия струятся по каждой травной былинке и каждой древесной веточке, устремлённой вверх, напряжённо и неуклонно, вслед за архитектурными вертикалями Тобольского Кремля, вонзившегося шпилем в белёсое метельное небо. Так прекрасна зима в Сибири!
А в самой середине альбома обомлело моё сердце от «Сибирской вышивки». Кто вышивал эти узоры? Трактор на зелёном поле озимых? Или сама природа – до линии горизонта – нежными стежками легонько набросала рисунок: туманные перелески, широкий рукав реки, белёсые поля и луговины, вольно раскинувшиеся во весь окоём и выгоревшие под ласковым летним солнцем, а в самой дальней дали, в матовой осенней дымке, едва различимая полоска сплошной тайги… И прямо перед нами, по переднему краю «вышивки» – хрустально хрупкий узор облетевших сестриц-осинок, собравшихся в кружок посреди поля. Белоствольные тонкостанные берёзки невдалеке ещё хорохорятся, красуются, толпятся нарядной гурьбой в золотисто-жёлтом уборе ближе к краю зелёного полотна, а вот этот кружок-хоровод, обдуваемый всеми ветрами со всех сторон света, – серой невзрачной мережкой, аки дыра в полотне, аки бельмо на глазу… Ан нет, не бывать же такой порухе! – и заботливый тракторист ловко обкатывает вкруговую сиротливых сестриц, озябших голышом-то посередь поля, а прозябшие вскорости зеленя превращают чёрную пахоту в хитро-затейливый орнамент сибирской вышивки – на радость востроглазому фотохудожнику, обозревшему окрест с высоты птичьего полёта, и на благодарное умиление нам, созерцателям сего природного рукоделия.
Но случилось, что единственный раз не согласилась я с авторским названием фотосюжета. Называется этот сюжет у Елфимова «Безмятежность», а на фото явно происходит борьба за жизнь. Речная заводь, отдалённый берег на втором плане, а в центре, прямо перед зрителем – крупным планом два деревца: одно живое, с мелкими золотинками пожелтевших листьев, а вот другое почти мертво, только две-три ветки едва живы, листики на них трепещут. И можно бы решить, что деревце просто облетело, вот и стоит голенькое, но ствол внизу изуродован, кора висит отслоившаяся, обломки скелетных ветвей вопиют о его умирании. И вот разве ради этой единственной, неожиданно яркой, с жёлтыми «монетками» веточки, что решительно выпорскнула из омертвевшего наполовину ствола, и можно было назвать эту картину «Безмятежность». Но мне, глядя на этот неудержимый оптимизм молодого побега, пришло в голову и другое – «Мужество жить».
И будто по контрасту к этому парадоксально названному автором сюжету – на соседней странице (на одном развороте) фото с таким неописуемым жизнелюбием в осенней палитре: красный (рябина), жёлтый (берёза), зелёный (сосна). Какой-то сумасшедший лесной светофор на дороге к излучине Иртыша! (Сумасшедший – потому что горят все три сигнала сразу). У автора фото называется «Осенний хоровод».
Конечно, об альбоме Аркадия Елфимова «Ангел Сибири» надо писать отдельно и много. Такими разнообразными мелодиями звучат и отзываются в нас его изысканные страницы, на каждой из которых – неповторимый причудливый мир, мир необъятной Сибири и тихого града Тобольска, с его уютными деревянными домиками в нижней старинной части, резными наличниками на окнах… Вот эти два цикла особенно потрясли меня – «Тобольские окна» и «Отражения». Русь уходящая – так назвала бы настроение первого цикла. А вот «Отражения» это пульсирующая жизнь непрерывно обновляющейся, всегда разной природы, смена времён года, смена поколений в древесно-растительном мире и вечное горизонтальное движение вод земных и облаков…
И вот здесь ожидал меня самый главный сюрприз, решительно подтверждающий необъяснимую связь между тобольской землёю и курской.
Лет пятнадцать назад или даже более сделала снимок в одной заброшенной деревушке в Щигровском районе нашей области. Назвала этот простенький пейзаж «Небо над Кошаркой». Ничего особенного – речная заводь (или запруда), берег в траве, деревенька на холме, яркий наряд осеннего леса. Но главное – огромное небо, отражающееся в воде. Смурое октябрьское небо, рыхло темнеющее серыми бугристыми облаками. Казалось бы, осень, печаль, а как ни взглянешь на это фото, вспоминается радость рыбалки в тот день, и ещё тепло уютных холмов, по верхам которых разбросаны домики немногих остающихся здесь поселян.
И вот у Аркадия Елфимова в альбоме «Ангел Сибири» на странице сто двадцать седьмой – фото из цикла «Отражения». И небо у него гораздо синее, глубже, просторнее, и лес гуще, и вода ближе, а чувство у меня такое от этого пейзажа, будто стою на берегу того прудика в Кошарке и смотрю на другой берег, на тот, который напротив деревеньки, и не попал в мой объектив. В тот же день безветренный, в ту же пору октябрьскую. Положить рядом два наших пейзажа – и будет один уголок России, только в разные часы дня (у Аркадия Григорьевича, кажется, утро, туман только-только рассеялся, у меня же дрёмная послеполуденная пора, подсвеченная жёлтой листвой и белёсыми проплешинами угоров). Более того, композиционно они столь созвучны, зеркально идентичны, что кажутся двумя частями одного панорамного снимка. А снимала я это в те годы, когда не только Аркадия Елфимова не знала и фотографий его не видела, но даже и мечтать не смела о том, что когда-нибудь стану автором книги о Фёдоре Конюхове, которую издадут в Сибири.
Может, мы тут имеем дело с фактом, о котором доводилось мне уже однажды писать, когда размышляла о загадочной метафизической связи между текстами поэтов Марины Цветаевой и Николая Гумилёва. Не зная друг друга, они описывали свои сны почти одинаковыми словами. Статья моя называется «”Мысль о сосуществовании времён”: письмо Марины Цветаевой 1909 года и «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилёва». Рассуждала я об этом всерьёз, с глубокой аргументацией, так что работа напечатана в научном сборнике Дома-музея М.И. Цветаевой в Москве «Актуальная Цветаева – 2014». (А фото моё сделано гораздо раньше.)
Так вот, размышляя об этой иногда возникающей «голой» (ничем не опосредованной) метафизической связи между людьми, которые никогда не встречались, я прибегла к авторитету русского историка Г.П. Федотова. В книге «Святые Древней Руси», приводя примеры родственности духовного опыта русских подвижников XIV века мистическим движениям православного Востока, Федотов пишет: «…пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия – единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу».
Так, может, и меня, в конце первого десятилетия нынешнего века ещё не подозревающую о существовании фонда «Возрождение Тобольска», нечаянно задело крыло Ангела Сибири, пролетающего над земными просторами с архангельской трубой, и я изумилась красоте этого мира с той же степенью доверия Творцу, какую ощущаем мы в фотографиях Аркадия Елфимова?..
Напоследок хочется ещё раз повторить парадоксальный вывод В.Я. Курбатова о загадке елфимовской фотографии – почему она так завораживает нас: «Потому что «смотреть» тут нечего, а вот дышать есть чем и слышать есть что».
Конечно, Валентин Яковлевич для вящей непостижимости пишет, что у Елфимова нечего «смотреть». И смотреть – не насмотришься, и дышать – не надышишься, и слышать – не наслушаешься, листая тобольские фотоальбомы и календари!
И ещё добавлю (чтоб смягчить эффект самодовольства от своей невольной причастности к загадке Елфимова): смотришь, потому что узнаёшь родное; замираешь, затаив дыхание, чуя дуновение пространства, в которое погружаешься; слушаешь таинственные мелодии сибирских градов и весей – и радуешься тому, что слышишь в них вечную хвалебную песнь Творцу!
Марина Маслова (Курск)
Февраль - Март 2025