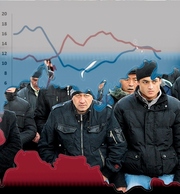Начну с недоразумения, которое дорого обходится России: у нас нередко путают понятия государства и власти. Этот опасный синдром непонимания затронул и сферу литературы, сбив её прицелы. Выпало из внимания, что отношения литературы и власти — дело изменчивое, текущее, а отношения литературы и государства — вопрос цивилизационный, прилежащий к основам национального сознания, один из генетических кодов России. Символическим знаком здесь служит изысканная, замечательная по убранству библиотека государя Николая II в Эрмитаже, по сравнению с которой Ватиканская апостольская библиотека смотрится служебным книжным складом. (Как и библиотека Королевы в Кембридже.) В России литература, свидетельствуя о жизни, истории народа и общественной мысли, формировала сам образ государства.
Поэтому лёгкое, порой весёлое и поощряемое функционерами прощанье современной России с литературоцентризмом — не просто примета времени, а утеря важнейшей духовной национальной традиции. И если президент провозглашает, что Россия, высвобождаясь из чужеродных пут, возвращается к самой себе, это означает, что литературоцентризм, как и раньше, должен быть основой нашей культуры, включая музыкальную, — если вспомнить о либретто великих русских опер.
В перестроечном оголтении, в раже поминок по советской литературе извратители истории представили Первый съезд писателей 1934 года как сталинский замысел, ставивший целью загнать литераторов в стойло соцреализма. Не вдаваясь в полемику, замечу, что «поминальщики», как обычно, разглядели пятна на солнце, не узрев его лучи. Особая торжественность съезда в стране, где недавно закрылись курсы ликбеза, возвестила о том, что в СССР изящная словесность — важнейшее государственное дело, а писательское служение — очень уважаемый, общественно значимый труд. Одновременно создали Литинститут и Институт мировой литературы. Литература официально была возведена в ранг важнейшей духовной скрепы государства. А Союз писателей стал едва ли не самой мощной организацией по управлению общественным мнением. В глазах народа «инженер человеческих душ» возвысился очень. Ещё бы! Сам Сталин звонил Пастернаку, чтобы разобраться с поведением писателя Мандельштама.
Да, потом были репрессии, цензуры, запреты на публикацию книг. Но эти извращения проходят по графе «литература и власть». А графа «литература и государство» даже в политических условиях, диаметральных царизму, продолжала традицию святости литературного слова. И в годы Великой Отечественной литература сыграла неоценимую роль, возвеличивая дух Победы.
Можно привести пример из другой эпохи. По обстоятельствам жизни мне довелось общаться с пенсионером Хрущёвым, который любил вспоминать о своих отношениях с творческой элитой, признавая, что «перебирал». Он был убеждён, что за писателями нужен глаз да глаз; по его словам, литература — это «тяжёлая артиллерия» на фронтах идейной борьбы. Сей термин Хрущёв использовал и на знаменитых «дачных» встречах с литераторами, где в дым разносил иных писателей. Те встречи вошли в историю как произвол волюнтариста от власти. И в то же время они говорили об огромном, хотя извращённом, внимании к литературе со стороны главы государства.
А брежневские времена? Секретариат ЦК КПСС, высший неформальный орган управления государством, запретил секретарям общаться с Твардовским — личного секретарского авторитета не хватало для отказа от встреч с писателем. На этом же уровне дебатировался вопрос об авторском праве, включая дифференциацию гонораров. Для того, чтобы на столетии Горького выступил Леонов, его обхаживали партийные идеологи. У СП было 22 дома творчества и пансионата, ежегодно на деньги Литфонда строили сотни квартир. «Бросили кость» и писательской верхушке — издание прижизненного «Избранного» с полной оплатой. На открытии писательских съездов присутствовал генсек.
Этот случайный набор фактов говорит о том, сколь внимательна была к писательскому делу — и в позитивном, и в негативном смыслах — высшая партийная власть, которую на Конституционном суде обвиняли в присвоении государственных функций.
Всё изменилось после крушения СССР. Потребителю, которого принялись выращивать в школах, нужны навыки, а не общая культура. В результате словесность, словно в насмешку, была помещена в резервацию, в цифровое ведомство, вытеснена на задворки государственного интереса. Цифра даже символически возобладала над словом. Хотя нынешний конфликт между бумажной и электронной книгой не имеет отношения к литературе, он воспроизводит изжившие себя конфликты между кино и театром, а затем между телевидением и кино. В культуре всем хватает места.
Увы, не были осмыслены перестроечные события, когда группа лиц, вознамерившихся привести Россию в райские западные кущи, принялась крушить образ страны, во многом созданный именно литературой. Но поразительно — поминальщики советской литературы одновременно занялись «эксгумацией» запретных книг. Десятки блестящих писательских имён возникли из небытия, вызвав грандиозный читательский интерес, по-новому рисуя прошлое.
И снова: оба «действа» носили политический характер и в то же время отражали огромное государственное значение литературы, которая фиксировала национальные традиции, образ жизни, нравы и идеалы советских поколений. Для сокрушителей прошлого важно было стереть в сознании современников образы, созданные «официальной» литературой, навязать им представления, которые несла в себе литература возвращённая. И незачем разбираться, какая из этих литератур правдивее. Важно, что через литературу как таковую, признанную народом за самого верного учителя жизни, власть решала задачи государственного значения. В данном случае антигосударственного, ибо результатом стали погром истории и гибель СССР.
Особое внимание к словесности не было случайным. Архитекторы и прорабы перестройки, выросшие при советах, знали, что именно литература создаёт систему исторических, нравственных, бытовых ценностей, рождает мифологию, прославляя героев эпохи, стойких в крайностях и погибелях, формирует образ жизни, национальный тип мышления, неформальное семейное и житейское «право».
Но низложив соцреализм, коварно использовав литературу для разрушения прежнего государства, они не взяли её с собой для созидания, а низвели до уровня культурного ширпотреба, демонстративно не попрощавшись даже с гениальным Леоновым. Новая литература, не склонная к постижению реалий жизни (Т. Толстая: «Я реальную жизнь не знаю»), равнодушная к «здесь и сейчас», утратила мессианские черты, кинувшись в объятья гламурпросвета, перестала формировать национальное сознание, поднимать насущные вопросы духа и бытия, рождать привлекательные типы личности и образы героев, провозглашать идеи, пробуждающие общественную мысль.
Литература уже не нужна государству. Степень её унижения показала история с собранием сочинений Некрасова: первый, доперестроечный, том вышел тиражом 300 000 экз., а 15-й тиражом 1000 экз. Думаю, этим сказано всё. О расстреле русской классики на сцене и говорить нечего. В «Грозе» Катерина курила и гасила окурки в цветочных горшках. Приводить более красочные примеры сценических извращений считаю непристойным, но не могу не вспомнить печальное сетование Блока: «Не эти дни мы звали».
Пришло время цитировать статью Горького столетней давности, где он писал, что на Руси народился новый тип писателя — «общественный шут, утративший презрение к пошлости, забавник с талантом саморекламы, научившийся ловко писать, который служит публике, а не родине». И дальше: «Литература наша — поле, вспаханное великими умами, ещё недавно плодородное, ныне зарастает бурьяном беззаботного невежества, забрасывается клочками цветных бумажек — это обложки французских, английских и немецких книг, это обрывки идей западного мещанства, маленьких идеек, чуждых нам… О чём говорит современный литератор? О том, что незачем искать смысл дней. Примем и полюбим их такими, каковы они есть, наполним их всеми наслаждениями, доступными нам».
Горький писал о выскочках периода революционной суматохи, сумятицы первых лет новой жизни, нагло завладевших вниманием читающей публики. О тех, кто требовал ссадить Пушкина с парохода современности. Писал до 1934 года, когда власть покончила с диктатурой посредственностей, возродив государственное значение русской литературы. Но после 91-го года мы снова услышали бравурный вопль «Пушкин — наше ничего!», автор которого стал любимцем разухабистой либеральной тусовки, с презрением отвергнувшей правдоискательство русской литературы, посчитавшей, что выгодное Форду выгодно и России.
Увы, сто лет назад, «приводя в чувство» литературную среду, использовали, в том числе, недопустимые репрессивные методы. Но неужели сегодня нет цивилизованных способов покончить с принижением писательского дела и возродить его былую роль в государстве? Очередное русское межвременье, сопутствующее социальным потрясениям, завершилось. Государству пора возвеличивать себя, что невозможно без классического русского, а на деле многонационального литературоцентризма.
Но почему литературу «попросили» из рулевой рубки корабля новой России, спустив в трюм? Спустя три десятилетия, когда известны судьбы «прорабов духа», плясавших на поминках советской литературы, стало ясно, что речь шла о глубоко продуманной идеологической диверсии в рамках американской концепции «Длинного поводка». Насквозь прозападные интеллектуалы, возглавившие мозговой штаб перестройки, настежь распахнули ворота нашей культуры для вторжения низкопробного поп-культа. Наивные «советикум» не понимали, что Запад тратит на рекламу извращений колоссальные деньги, чтобы завоевать наше духовное пространство, подавить национальные традиции. Действовали нагло, нахрапом: перестроечный прораб, возглавивший ЦТ, доверил вести программу «Время» корреспонденту вражеского в СССР радио «Свобода». Увы, для ТВ этот цинизм стал символическим.
Сегодня, когда наша экономика избавляется от удушья западных объятий, мы понимаем, что произошло в 90-е: зарубежная реклама и щедрые взятки задавили российских конкурентов. Но в культурной сфере нас по-прежнему держат цепко, не позволяя осознать, что гарри поттеры и властелины колец с их миллиардными бюджетами — это классическая идеологическая экспансия.
В этой связи как не вспомнить американскую книжную ситуацию XIX века. В ту пору французские альковные романы заполонили рынок, писатели задыхались от безденежья. И после газетной статьи на эту тему Конгресс в три (!) дня принял резолюцию: художественную переводную литературу обложить наценкой (не налогом!), которая идёт в фонд поддержки отечественных литераторов. На той наценке взросло поколение Драйзера.
Отнюдь не случайно среди духовных лидеров современности нет писателей. На острие идейного удара по словесности были выдвинуты любители «клубнички», радужного блуда и физиологических мерзостей. Одного из них, певца гениталий, так «раскачали» на Западе, что он посмел обратиться с Открытым письмом к президенту, предъявив ультиматум. Тот случай сполна раскрыл ситуацию, возникшую в литературе и обществе, а потому заслуживает внимания. Ибо президент — это государство.
В интервью «Ди Вельт» самый популярный на Западе, по мнению газеты, российский литератор, посвятивший свои книги не отношениям, а сношениям персонажей, так вещал о происшедшем: «Когда Путин пришёл к власти, стали пропагандировать возврат к «русским идеалам». Частью этой стратегии и явилось обвинение писателей Пелевина, Сорокина и меня в том, что мы своими дурными, аморальными, извращёнными книгами портим молодёжь. Поздней осенью 2002 года я направил сердитое Открытое письмо Путину, в котором объяснил, что Пелевин, Сорокин и я, пользуясь нашими международными контактами, обратим внимание всего мира на наше пиковое положение, если он не остановит эти нападки. Мы могли бы задействовать Пен-клуб и мобилизовать журналистов. Что, как понимают в России, выставило бы Путина в нехорошем свете. Это было им неприятно, и они остановили кампанию».
Корреспондент «Ди Вельт» был потрясён: «Странная, однако, у вас ситуация: в прошлом году вас пытались выдворить из страны, а в этом на Франкфуртской книжной ярмарке вы официально представляете страну-гостя Россию».
Ситуация была такая, что шутки в сторону: речь шла «всего-навсего» о возврате к русским идеалам, с чего начинал Путин на первом президентском сроке. И сердитый (!) окрик с угрозой испортить мировую репутацию, конечно, не мог прозвучать без мощной поддержки тех сил внутри страны, какие ориентировались на Запад и не желали возрождения русского самостояния. Не случайно спустя два года в Париже для встречи с Путиным они подсунули именно автора того наглого письма.
Двадцать лет назад этим силам удалось добиться своей цели. Писатели перестали быть властителями дум, ушли в прозападную серапионову безыдейщину. Патриархов нет, остались паханы.
Сегодня, когда Россия поднимается во весь державный рост, у тех сил уже нет возможности нагло давить на власть, и они избрали иную стратегию. Чтобы государство меньше внимания обращало на сферу литературы, её надо принизить, сделать малозаметной, убрать с телевидения, перенести акцент с серьёзных текстов на словесную пыль блогерского мелкотемья, обессмыслить, утопить в ложных вопросах и проблемах, в многознании без понимания. И тот факт, что правительство отказало депутатам Госдумы в переводе книжного дела из Минцифры в Минкульт, подтверждает наличие такого замысла. В Минкульте литература стала бы гораздо заметнее, вышла бы на передовые рубежи культуры. А в Минцифре она сбоку припёка, в ведомстве, занятом грандиозными проблемами искусственного интеллекта, департамент словесности — тема второстепенная, малопонятная, излишний аппендицит. Цифровикам не до него, в проблемы книжного департамента они не вдаются. Приём известный: точно так же умельцы из ЦК КПСС засунули новорождённый ВЦИОМ под крышу профсоюзов, в ВЦСПС. Власть забыла, что аппендицит имеет свойство воспаляться, и беспечно отдала книжное дело в руки десятилетиями несменяемых функционеров.
А государство, с радаров которого аккуратно убрали писательские проблемы, отстранилось от литературы, чего не было ни при царях, ни при секретарях. И не только не осознаёт причин, по которым тормозится возврат к русским идеалам, но и не чувствует, что в литературной сфере подспудно назревает ситуация, схожая с новой идеологической диверсией. Об этом, кстати, свидетельствует и случившееся при недавнем награждении в Кремле. Эстрадник Винокур, выступая перед героями СВО, заявил с фигой в кармане, что нам нужен только мир, ни слова не молвив о Победе и СВО. А писатель Брантой Бедюров произнёс блестящую речь о межнациональном единстве народа в ходе СВО. Но ТВ, включая все ток-шоу, показало только Винокура, даже не упомянув о Бедюрове.
Возвращаясь к Первому съезду писателей, напомню, что он объединил идейные позиции РАППа и журнала «Красная новь». О сути того противостояния говорить незачем, но о его «субъектах» сказать полезно. РАПП представляли Фурманов, Серафимович, Фадеев, Гладков, а «Красную новь» — Горький, А. Толстой, Пришвин, Вересаев, Леонов, Федин. Какие созвездия имён! Разве их объединение не было благотворным?
Но не забыть, что проходило оно в ходе острых дискуссий, вплоть до знаменитой схватки «Нового мира» Твардовского и «Октября» Кочетова. Увы, в эпоху свободы слова межписательский диалог полностью исключён из литературной жизни, его заменили групповым премиальным зудом. Эта тема тоже достойна внимания государства, ибо в России такое случилось впервые за последние три столетия.
Что же делать? Ну, как положено перед серьёзной работой, сперва надо помолиться. А затем вспомнить, что Россия, отсидевшись за «железным занавесом», безнадёжно отстав от западного «гуманитарного» прогресса с его гей-парадами, трансгендерами, однополыми семьями и нравственным одичанием, опередила мировое Время, и именно от неё человечество ждёт сегодня Слова о традиционных ценностях. Но Слово это, предназначенное возвеличить державу в глазах человечества, можно произнести только через литературу. Пришло время государству уйти от навязанного зарубежными кураторами «невмешательства» в писательские дела, которое обернулось подражательными прозападными приоритетами, и ясно сформулировать позицию по такой фундаментальной духовной ценности, как традиционный русский литературоцентризм, без которого невозможен наш культурный суверенитет.


















.jpg)