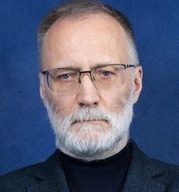Тогда великий Святослав
изрони злато слово
со слезами смешено и рече...
«Слово о полку Игореве»
210 лет назад, в 1800 году, увидело свет маленькое поэтическое произведение, 8-страничная поэма «Слово о полку Игореве Игоря сына Святослава, внука Олегова». Публикация эта вызвала такую бурю откликов и восторженных эмоций как в России, так и за рубежом, что сразу же стало ясно: читатель получил произведение, по художественным и идейным достоинствам не имеющее аналогов в мировой литературе и сравнимое лишь с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера, далеко превосходя и «Песнь о Роланде», и «Песнь о Нибелунгах».
Специалисты-филологи, вся читающая публика были едины во мнении: опубликованная Поэма, случайно найденная и безымянная, повествующая о походе русских войск против половцев в 1185 г., проникнута страстным патриотизмом; давая красочную картину Руси XII в., рисуя яркие поэтические картины и образы, она проповедует идею единства Русской земли, призывает русских князей отбросить разногласия во имя родины. А что было важнее этого призыва в канун нашествия татаро-монгольских орд?
Повествование неизвестного автора давало столько информации о далёкой древности, что стало настольным пособием для самых разных специалистов: историков, географов, астрономов, литераторов, лингвистов, естествоиспытателей, литературоведов. Что же касается простых читателей, особенно славян - русских, украинцев, белорусов, чехов, словаков, болгар, сербов, македонцев, - то для них «Слово» стало источником поэтического наслаждения, воспитателем патриотизма и высоких душевных качеств.
О «Слове» писали Пушкин и Гоголь, Белинский и Тютчев, Вяземский и Майков; исследовали выдающиеся филологи-слависты, крупнейшие историки. Переводы «Слова» на современный язык принадлежат Жуковскому, Карамзину, Козлову, Заболоцкому и многим другим. Поэмой интересуется молодёжь, школьники заучивают на древнерусском. Вышло уже великое множество работ, толкующих «Слово», а исследования продолжают публиковаться.
Увидели свет книги о Поэме и в революцию, и в Гражданскую войну - и это при почти полном отсутствии в то время бумаги. Во время Великой Отечественной войны вышло несколько изданий «Слова» с пометой «бесплатно», они выдавались бойцам, командирам и политрукам - вместе с оружием, перед отправкой на фронт. Печаталось «Слово» и в блокадном Ленинграде.
Однажды, выступая перед молодёжью, генерал-майор И.В. Любимов, тогда ещё, во время войны, лейтенант, рассказал, что ему запомнился один бой на Калининском фронте. «Перед атакой я шептал в окопе строки из «Слова»: «Что ми шумить, что ми звенить - далече рано предъ зорями?..» - вспоминал генерал.
Поэт Николай Заболоцкий, написавший свой великолепный перевод-пересказ «Слова», будучи в эвакуации в Средней Азии, писал, как он увлекался этой работой, которая поддержала его в трудное время. Переводы Поэмы продолжают выходить и сейчас: любовь к «Слову», желание выразить своё отношение к гениальному произведению, дать объяснение спорных мест подвигают браться за переводы всё новых и новых авторов.
А сколько существует переводов за рубежом! В 1946 г. в Праге вышло «Слово» на чешском языке с ликом Ярославны на обложке и эпиграфом: «Посвящается Красной Армии-освободительнице». В подлиннике оно было напечатано в 1977 г. на Украине с приложением перевода на современный русский, украинский и белорусский. Переводы сделали поэты Рыленков, Рыльский и Я. Купала. Не подсчитано, на сколько языков переведено «Слово», их очень много; что же касается славян - болгар, сербов, поляков и др. - то в этих странах неоднократно публиковалась Поэма. В 1985 г. по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО во всех странах отмечался 800-летний юбилей «золотого слова» русской литературы (со дня написания в августе 1185 г.).
Продолжаются исследования «Слова» крупнейшими славистами США, Англии, Германии, иллюстрации к Поэме пишут известные художники (в частности, у нас их делали И. Глазунов, полешанин И.И. Голиков и др.). Возникла самостоятельная наука - Словиана, запасники которой продолжают пополняться, в том числе и за счёт народных музеев. Вот газетная заметка, письмо от военнослужащего из Перми Воинова Святослава: «Я очень люблю «Слово о полку Игореве» и собираю всё, что связано с этим произведением - любые материалы, их у меня очень много. С 1976 г. мне удалось собрать более 550 книг, в том числе 88 разных изданий «Слова». Мечтаю о создании музея «Слова» в моём родном Новгород-Северском». Вот такой военнослужащий - не самый свободный по времени человек. И радостное сообщение от него же: музей создан!
В Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре, уже много лет действует известный музей «Слова о полку Игореве», где в книгах отзывов собраны восторженные записи посетителей из самых разных российских регионов и зарубежных стран. В монастыре всё проникнуто «Словом»; так, при входе нас встречает барельеф, на котором выбиты бессмертные строки: «Съ зараниа до вечера, съ вечера до света летятъ стрелы каленыя...». С Ярославлем связана и история обретения Поэмы.
Жил в Москве, на Разгуляе, богатый русский барин Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744-1817). Был ли с ним в родстве Александр Сергеевич Пушкин? Вероятно, отдалённо - был, хотя Поэт писал о себе: «Я Пушкин просто, не Мусин, я не богач, не царедворец...». Своим предком Алексей Иванович считал Мусу Пушкина, потомку которого Петр 1, возвысивший старинный род, пожаловал титул графа и звание сенатора. Среди многих поместий Мусина-Пушкина были и имения в Ярославской губернии, следовательно, он часто проезжал через Ярославль. Любезное обхождение, весёлый нрав и приятная внешность способствовали успеху барина в свете и стремительной его служебной карьере. Дослужившись в гвардии до генерал-адъютанта, он «наскучил службой» и перешёл на гражданское поприще: стал придворным, обер-прокурором Святейшего синода, президентом Академии художеств. Но главной его страстью было другое - собирание книг, особенно старых, рукописных: хронографов, летописей. Библиотека Мусина-Пушкина славилась по Москве, была открыта для любителей, образовавших кружок библиофилов, они же исследовали рукописи, наиболее ценные готовили к печати.
Особый интерес для кружка представляли книги, хранившиеся в монастырях. Положение с монастырскими библиотеками было критическим: книги погибали при пожарах, от сырости, от плохого обращения. В домонгольской Руси в обращении было около 150 тысяч книг, до нас дошло лишь 190 - огромный ущерб библиотекам в наше время нанесли революции, войны, разгром церквей и монастырей. До сих пор остаются не разобранными некоторые книгохранилища, например, на Афоне.
Зная о богатой библиотеке ярославского Спасо-Преображенского монастыря, Мусин-Пушкин взял у игумена для ознакомления четыре древние книги, в том числе Хронограф, состоявший из нескольких летописей, последней частью и было «Слово» (список середины 80-х гг. 16 в.). Затем, как объяснял Алексей Иванович, его служитель выкупил эти книги у архимандрита, так что Мусин-Пушкин стал их владельцем. Издание Поэмы он поручил своему кружку библиофилов. Так в 1800 г. в Москве появилась книга, первоначально озаглавленная сложно: «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком на исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие».
«Ироическая песнь» - единственный список Поэмы, дошедший до нас. Что добавил в него переписчик от себя - этого мы никогда уже не узнаем. Второй экземпляр «Слова» в Ярославле не был найден; против перечня рукописей, взятых Мусиным-Пушкиным, появилась запись: «Уничтожены за ветхостью и согнитием». То бишь сгнили.
По счастью, новый владелец сделал копию для Екатерины II, приложив перевод Малиновского. Вот и всё, чем мы располагаем. Что же касается рукописи «Слова», то её дальнейшая судьба трагична.
2 сентября 1812 г. наполеоновская армия вошла в Москву. Начался большой московский пожар, сгорели многие здания, в том числе и особняк Мусина-Пушкина на Разгуляе. Задолго до этого граф написал бумагу о передаче рукописи в архив Коллегии иностранных дел, но так и не передал её. Уезжая из Москвы во время Отечественной войны, он оставил список «Слова» в своём особняке, не взяла его с собой и дочь графа, покинувшая первопрестольную в самый канун оккупации. В пожаре здания и архива, и Синода уцелели, а вот рукопись пропала безвозвратно.
Продержав у себя дома список Поэмы 10 лет, Мусин-Пушкин не сумел сохранить эту великую ценность.
До сих пор продолжаются споры вокруг «Слова о полку Игореве», высказываются разноречивые мнения и противоположные толкования. В чём здесь дело? За 825 лет, прошедших со дня создания Поэмы, изменился и русский язык, и исторические условия, и мышление. Героев «Слова» мы едва различаем в туманной дымке, некоторые «тёмные места» Поэмы толкуем по-разному, иногда не можем сказать, с иронией относится автор к своим персонажам (великому князю Святославу, Бояну) или почтительно? Если с иронией, то смысл, идея произведения меняется. Или слова, хотя бы в названии: плък - пълк - они переводятся и как поход, и как дружина, полк. Вот почему переводчики дают и то, и другое названия: «поход» - Малиновский, Лихачёв; «полк» - Карамзин, Жуковский, Майков, Заболоцкий. Думается, что второй вариант вернее.
По дате написания разночтений нет, тут подсказки - поход, плен князя Игоря, солнечное затмение. 23 апреля 1185 г. русское войско выступило из Новгород-Северского в свой роковой поход в «весенний Юрьев день». Астрономы подтвердили, что в мае 1185 г. произошло солнечное затмение, которое презрел князь Игорь. А сам он бежал из плена и вернулся на Русь в начале июля 1185 г. Поэма написана вскорости, по горячим следам - об этом говорят её художественные особенности.
Кто был автором «Слова»? Вот тут самый большой разброс мнений. Исследователи называют: по происхождению - киевлянин, галичанин, черниговец (доказательства - фонетические особенности в речи персонажей); по роду занятий - военный, егерь, сокольничий (об этом говорит хорошее знание деталей ), ближайший к великому князю вельможа (тонкости жизни знати), монах, летописец, придворный певец и т.д.
Можно сказать наверняка, что Поэма написана автором, который, ничего не боясь, часто обращается к славянской мифологии. Известно, что после принятия христианства духовенство решительно боролось с пережитками язычества, искореняло старые обычаи. А тут действуют Желя, Карна, Дажьбог - бог Солнца; Боян - Велесов внук; ветры - внуки Стрибога; эпоха до принятия христианства называется веком Траяна.
Автор «на ты» со всеми князьями, ко всем обращается «братия», знает точно перипетии пленения Игоря и его побега с Овлуром. У него ещё свежи раны: горит сердце на врагов, «поганых», он готов сделать всё, чтобы подвигнуть князей сплотиться против общего неприятеля. Автор терзается раскаянием: как так, дружина потерпела жестокое поражение, открыта половцам дорога на Русь, поход начался без подмоги, с малой дружиной... Сердце горит, слёзы закипают...
Кто мог так написать? Конечно, сам Игорь. Возражения: да чтобы князь стал летописцем? - вряд ли. Почему же? Писали же на Руси и Владимир Мономах, и Иван Грозный, и Екатерина II, а великий князь Константин Романов был талантливым поэтом. Пути Господни неисповедимы, Он знает, кого наградить талантом.
В Поэме есть много географических названий: Киев, Полоцк, Чернигов, Карпаты, Дунай, Тамань, т.е. упоминаются и великорусские, и белорусские, и украинские земли; действуют многие славяне: чехи, ляхи, мораване и, конечно, русский народ, который потом стал триединым: великороссы, белорусы и малороссы. Недаром «Слово» называют общеславянским памятником. Мы встречаем здесь славянские имена, которые для русских иногда уже стали редкими, в других славянских языках употребительны: Мстислав, Владимир, Всеволод, Брячислав, Горислав, Святослав, Ярослав, Вячеслав, Володарь, Ростислав, Судислав, Всеслав, Изяслав, Василько, Роман, Олег. И женские, хотя тут чаще встречаются отчества: Пребрана, Глебовна, Ярославна.
Адам Мицкевич посвятил «Слову» отдельную лекцию во время своего преподавания в Коллеж де Франс. «Читая поэму, - сказал он, - каждый славянин испытывает её очарование. Многие из выражений и образов «Слова о полку Игореве» постоянно встречаются у позднейших поэтов русских, польских, чешских, причём нередко эти писатели не изучали специально, даже не знали «Слова». Причиной этому славянская основа произведения. Пока не изменится натура славянина, эту поэму будут всегда считать национальным произведением, она сохранит даже характер современности».
Вацлав Ганка, «словенский филолог», как его называли современники, а стихи ему посвящал Ф.И. Тютчев, издал в Праге «Слово» в 1821 г. - со своим прозаическим переводом и пояснением по-русски: «Язык подлинника сей Песни великолепен и крепок, делает переход из Славянского в старый Русский».
210 лет идут споры о подлинности «Слова». Среди противников - учёные, писатели, публицисты. Главный их аргумент: не мог человек XII столетия написать такую вещь, не мог так владеть литературным языком. Оппонентам ответил А.С. Пушкин. Александр Сергеевич знал поэму наизусть, особенно часто вспоминал её во время своей южной ссылки, при посещении Киева, четырежды цитировал в своих произведениях.
Пушкин пишет: «Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться». Особенно поэт выделяет план «Слова», описание битвы и бегства Игоря. При переводе Песни, полагает Пушкин, необходимо знать все славянские наречия, тогда тёмных мест в тексте не будет.
Среди предшественников автора «Слова» можно назвать создателя «Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха», проповеди Иллариона, Кирилла Туровского. Поэма - могучее древо, корни которого уходят в почву многовекового устного народного творчества. В.Г. Белинский назвал «Слово о полку Игореве» прекрасным благоухающим цветком славянской народной поэзии.
Ирина ПАНОВА, член Союза писателей России