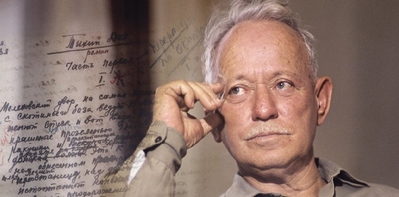
…извержение бездны, плазмы, массы народной: «Тихий Дон»…
Персонажи выявлены с такой повышенной чёткостью, что, поднявшись со страниц, уходят в длительность истории; но не в меньшей степени персонажами становятся и народные множества: белые, красные, армии сходящиеся…
Как тонко передаются ощущения!
Как ест Гришку боль от убийства, свершённого на войне: в запале убитый, и детальность описания, жёсткая фиксация жестокости потрясает… стукнувшиеся половинки разрубленной черепной коробки, стукнувшиеся об асфальт…
Как всё противоречит пахоте, косьбе, пасеке, всему роскошному миру, с вековечным укладом, всегда бы таким был, нет – разворочают всё войной.
Роман неистовых страстей, густой, гудящей мощи: всё сносящая аксиньина страсть…
И цвета – сколько многоцветья в естественном этом, ковыльном, травном, степном языке, как чувствуется воздух, слоение солнечных лучей, как всё переливается, играя, хоть и совершенно всерьёз.
Много смерти.
Много крови.
Проще ли умирали?
Сложно сказать, но простые люди, изображённые в романе, сложность жизни постигают по-своему.
И сложность такая противоречива, хотя не противоречит самой жизни, столько всего родящей…
Лучше пахота, чем война.
Войн много, время ломает народную плоть, уничтожает гроздьями всё людское, привычное.
Время жутко.
Люди колоритны.
Живёт и дышит вечный роман.
…и дыхание его – творится на уровне невероятных, радугами цветности играющих фраз, чья сумма столь органична, что завораживают они – и самостоятельно, и …оной:
«Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендовы, камышистая непролазь, лес в росе – полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце».
Мир – всё в нём – становится действующим героем: применительно к «Тихому Дону» можно говорить, как о персонажах – то о траве, которую горбатит ветер и наливает стеклянная осенняя вода, то об облаках, чьи формы и красоты бесконечно передаются в романе, то о самом Доне: величавом и величественном, не перебрать оттенков воды его…
Всё одушевлено, как будто: даже смерть, а смертей будет столько…
Главное ли люди в этом сложнейшем космосе?
Ну да, и сколько их! Не меньше, чем смертей…
Любой – даже и не самый основной, вроде дуролома Христони, или Авдеича Брёха, прописан сочно и смачно, с только ему присущим набором черт…
Казацкая вольница, влитая в кровь, военная масть, бесконечность военного дела…
Но и – пахота отчасти та же вольница, сколько разных отливов травы!
Сколь переливаются колоритом детали – как, например, Гришка рассёк косою крохотный комочек пушистого утёнка, и бежит к нему Дуняшка, интересуясь, что там у него: в загрубелой, чуть не чёрной от солнца и работы ладони.
Много солнца.
Воздуха.
Ветра.
Ветер истории – онтологией своей – пострашнее обыденного: сносит людские массы, мешает в смертной схватке красных и белых, а белый генералитет выписан с такою же силой, как и казацкие типажи…
Шолохов словно постепенно брал разгон: язык «Донских рассказов» уже полнится той спелой прелестью, что разойдётся во всю силу в главном романе.
И «Родинка», переливаясь перлом, покажет… как всё было.
Страшно.
Сын на отца.
Дико.
…судьба атамана банды, круто сплетённая, будет начертана в несколько строк:
«Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и — банда.».
И эти несколько строк развернутся в читательском сознание ассоциативно в сложнейшие ряды этапов, каждый тяжёл.
Неожиданность эпитетов: хоть здесь – султанистые камыши расцветают особой, с восточным колоритом силой…
Репетиция «Тихого Дона» - «Донские рассказы», но и они дают столько шедевров.
Главный поднимается в метафизические небеса: оставаясь могучим повествованием о жизни – сильно развёрнутым в вечность, сияющим столькими красками…






















