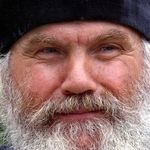Американский историк Пол Верт удачно заметил, что исследователи, занимающиеся историей Российской империи, зачастую «смотрят не туда», когда определяют национальный фактор в качестве главного звена дореволюционной России. Верт отмечал, что необходимо более серьезно обращаться к конфессиональному фактору[1]. В самом деле, миросозерцание людей, живших при царях и императорах, вырастало из религиозных корней. «Русский» ассоциировался не с этнической принадлежностью, а как член «грекороссийской», т.е. православной Церкви. Слово «татарин» означало «бусурманин», т.е. мусульманин. Если говорили: «станем вотяками», это значило стремление вернуться к языческой религии удмуртов. У народов Поволжья и Приуралья укоренилось выражение «русская вера», что было равнозначно православной вере.
Определение понятий. Существует несколько понятий, которые входят в один круг, но не являются тождественными: веротерпимость, свобода совести и толерантность. Если следовать буквальному толкованию, то веротерпимость означает «терпение» вер каким-либо субъектом общественных отношений: государственной (публичной) властью, церковными учреждениями, общественными организациями и частными лицами. Это есть признание права существования различных конфессий в рамках отдельно взятого общества. Свобода совести предполагает возможность беспрепятственно излагать свои убеждения, отказываться от них и принимать другие. Отсутствие свободы совести означает запрет на переход из одного вероисповедания в другое, принуждение следовать государственной религии (или атеизму как в Советском Союзе). Понятие толерантности означает терпимость к иной вере, взглядам, обычаям. Это более широкое понятие, нежели веротерпимость и свобода совести, а потому оно останется за рамками данной статьи.
Зарождение идеи веротерпимости и свободы совести. Идея веротерпимости и свободы совести принадлежит христианству. А. П. Лебедев, анализируя религиозную политику Римской империи, писал, что «языческой древности» была чужда идея свободы совести. Римское государство было полновластным распорядителем жизни людей, являлось опекуном своих граждан. Отпадение от отечественной римской религии рассматривалось как отпадение от самого государства[2]. Гонения на христиан были вызваны, в частности из-за нежелания верующих во Христа быть соучастниками в религиозных церемониях римлян. Именно тогда христианские апологеты провозгласили право на свободу религиозных убеждений. Тертуллиан, обращаясь к римским императорам, едва ли не первым употребил фразу «libertatem religionis» («свобода религии»)[3].
В дальнейшем, уже в рамках христианского общества, идея веротерпимости трансформируется в нетерпимость к иным исповеданиям. Практических во всех европейских христианских государствах, в том числе России, открытая проповедь инакомыслия стала преследоваться как покушение на общественные устои. Переход из государственной религии в иную стал невозможен, что означало непринятие христианскими правительствами идеи свободы совести, которая была вымучена кровью христианских мучеников II – III вв.
В истории российской общественной мысли неоднозначно решался вопрос о том, была ли в России веротерпимость и свобода совести. Одни утверждали, что российское правительство всегда терпимо относилось к различным вероисповеданиям. Так, епископ Серафим (Чичагов) писал, что во все времена Россия гарантировала неправославным народам веротерпимость. Все – католики, протестанты, магометане, язычники, старообрядцы, даже хлысты – «пользовались всегда добрым отношением правительства»[4].
Согласно другому взгляду в Российской империи принцип веротерпимости существовал, но периодически нарушался. Значимость православия для России не подвергалась сомнению. Ф. Г. Тернер выступал за то, чтобы отменить уголовную ответственность за отступление от православной веры, которая была предусмотрена законами. Он напоминал слова Христа, обращенные к сомневавшимся ученикам: «не хотите ли и вы отойти?» (Ин. 6. 67) и делал вывод, что Господь никого не принуждает следовать за Ним[5]. Митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), признавал, что до 1905 г. власти силой удерживали «отпадавших» от Церкви. Владыка был убежден, что укрепление веротерпимости повысит нравственный авторитет миссионеров, который будут прибегать к силе слова, а не силе полиции[6].
Наконец, были публицисты, историки, правоведы, даже политики, полностью отрицавшие существование в России веротерпимости. Как правило, это были представители левых демократов (партия кадетов) и социалисты. Историк С. П. Мельгунов характеризовал Российскую империю как «полицейско-бюрократический режим», в котором отсутствовала веротерпимость и свобода совести[7]. Именно отсюда вырастает представление о Российской империи как «тюрьме народов».
Была ли в Российской империи веротерпимость? Российская империя выросла из Московского государства. Основные принципы отношения государства к Церкви, власти к «инославным» и «иноверным»[1], преемственно переходили от «Московии» к империи. В Московском государстве царская власть считала себя обязанной блюсти чистоту православной веры от иноземного влияния. Идея «Третьего Рима» подразумевала, что Москва (Россия) является верным прибежищем перед «кончиной века». Эсхатологические ожидания Страшного суда заставляли православных русских государей направлять свои усилия на то, чтобы не допустить в свое царство «иноверного» влияния, которое может заразить души «неверием»[2], сгубить их в «гиене огненной». Возникла традиция охранять отеческую веру государственными законами, что нашло отражение в Соборном Уложении 1649 г[8].
Такое понимание «протектората» сохранялось до начала XX в. Вместе с тем, «симфония» Церкви и государства не являлась препятствием к веротерпимости. Российские императоры издавали указы, в которых говорилось о терпимости к различным вероисповеданиям. При императрице Елизавете Петровне было указано, чтобы армянам и «индейцам», проживавших на границах страны, во время богослужений, совершаемых «по их законам…помешательства им не чинить» и силою никого не крестить[9]. В 1773 г. императрица Екатерина II издала указ «о терпимости всех вероисповеданий»[10]. Император Николай II в указе от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» провозгласил, что в России гарантируется существование признанных законом вероисповеданий[11].
Провозглашая терпимость к одним исповеданиям, власти могли притеснять или ограничивать в правах последователей иных конфессий. Выше было сказано, что императрица Елизавета Петровна гарантировала армянам право беспрепятственного отправления богослужения. Практически в тоже время был издан указ о закрытии армянской церкви в Москве. Было ли здесь противоречие? Нисколько. Дело в том, что правительство дозволило отправлять богослужение тем армянам и «индейцам», которые проживали на границах империи. В данном случае власти руководствовались стратегическими соображениями ‒ обеспечение безопасности на границах и сохранение там лояльных иноверных элементов. Москва, это дело иное, особенно при набожной Елизавете Петровне, стремившейся укрепить основы православной веры среди русского населения. В обосновании указа о разрушении армянского храма в Москве, было сказано, что армянская «кирха…не есть православная, но еретическая, диоскорова злочестия». Власти опасались «чтобы из простолюдинов не причинилось кому от армянских учителей тайными какими образы в армянскую веру какого прельщения, и от того в церкви святой тщета»[12]. При императрице Елизавете были изданы указы о разрушении мусульманских мечетей, расположенных вблизи жительств новокрещеных. Утверждалось, что разрушение мечетей производится в связи с усиливавшейся мусульманской пропагандой, в ходе которой многие чуваши «обрезаны» по «магометанскому» обряду[13].
В XIX веке утвердилось правовое положение существовавших в России вероисповеданий. Главенствующей признавалась Православная («Грекороссийская») Церковь. Остальные вероисповедания подразделялись на «терпимые» (признанные властью) и «гонимые» (непризнанные). К терпимым относились христианские конфессии: католичество, протестантизм (лютеранство, англиканство, в более позднее время баптизм), армяно-григорианское исповедание; караимы (крымские евреи), иудаизм, ислам, буддизм, язычество; большинство старообрядческих толков и некоторые секты (напр., гернгутеры). «Гонимыми» признавались те, которые наносили обществу и человеку нравственный и физический вред. Так, вне закона находилась секта скопцов, последователи которой проповедовали оскопление крайней плоти.
Всем, признанным вероисповеданиям, предоставлялось право беспрепятственно совершать богослужения. Императрица Екатерина II петербургским католикам даровала право иметь в столице свою «кирху»[14]. Мусульмане имели право молиться в мечетях, если они были построены согласно действующему законодательству. Иудеи в черте оседлости могли строить синагоги. Последователям анимистических культов (язычники, шаманисты) не возбранялось устраивать жертвенники и совершать богослужение по своим обрядам.
Из признанных законом религий только старообрядцы и сектанты были значительно ограничены в праве совершения открытого богослужения. Характерный пример реакции властей на открытие молельного дома старообрядцами. Дело производилось вятским губернским начальством в 1835 г. Местным властям стало известно об открытии в Сарапульском уезде староверами часовни. Дело было передано в Министерство внутренних дел, которое, в свою очередь, предписало упразднить старообрядческую молельню. Однако вскоре часовня вновь была открыта, но уже «под другим именем». Власти вторично распорядились о закрытии молельни[15]. Фактически до конца XIX века старообрядцам запрещено было иметь свои молитвенные здания.
Веротерпимость проявлялась в принципах распространения православной веры. Они сводились к добровольному согласию на принятие православия, достаточной подготовке к принятию святого крещения. Правила добровольного восприятия Христовой веры формулировались законах. В 1647 г. царь Алексей Михайлович направил указ романовскому воеводе о том, чтобы он «татар и иных … иноземцов сильно в православную христианскую веру крестить не велел, а призывал бы …ласкою и обнадеживая из нашим государским жалованьем»[16]. В указе императрицы Анны Ивановны от 11 сентября 1740 г. предписывалось: «принуждения ко крещению отнюдь не чинить»[17]. В 1750 г. Св. Синод предписал, чтобы проповедники против воли никого не крестили[18]. Император Александр I указал тамбовскому губернатору, чтобы духоборам «насилия совести» не было, а обращались они к православию «не истязаниями и принуждениями, но единственно кротостию примера и святостию жизни»[19]. Региональные власти так же, как и центральные, предписывали распространять православную веру мирным путем. Вятская духовная консистория разработала особую инструкцию для священников, определяемых в новокрещенские приходы. Согласно этой инструкции приходской священник должен был увещевать «не радящих о своем спасении» (т.е. некрещеных – М. О.), а принимать ко святому крещению только тех, кто придет «самоохотно»[20].
Отступления от данного принципа не были редкостью. Митрополит Сильвестр (Гловатский) насильно отбирал у татар детей и крестил их против воли родителей[21]. Казанский епископ Лука (Канашевич) «простирал свою ревность о просвещении христианством казанских иноверцев до некоторой степени нетерпимости»[22]. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с этими фактами, необходимо иметь в виду один значимый момент. Высшие гражданские и церковные власти не одобряли насильственного крещения. Такие случаи возникали вследствие личного произвола, но никак не целенаправленной политики правительства. В 1770 г. Юстиц-Контора по делу о принуждении к перемене веры крестьянина Густафи Симонова задала Св. Синоду вопрос, есть ли в духовном ведомстве такой закон, который бы устанавливал ответственность за принуждение к принятию православия. Св. Синод ответил следующим образом: «объявить указом, что на основании евангельского учения принятие из разных законов в православную грекороссийскую веру чинить должно по самопроизвольным желаниям, а не принужденно (выделено мной)»[23]. Американский историк П. Верт отмечал, что Церковь и государство в России требовали, чтобы Таинство Крещения происходило с соответствующей подготовкой и без принуждения, избегая «фиктивных крещений»[24].
В Российской империи не было запрета на общение между православными и представителями иных конфессий. Православные и «иноверные» могли совершать гражданские сделки, совместно вести хозяйство, наниматься друг ко другу на работу. Правда, возникали попытки запретить членам «грекороссийской» Церкви быть в найме у «иноверных». В 1844 г. архиепископ Тобольский и Сибирский Владимир (Алявдин) писал в Св. Синод, что в его епархии многие крещеные «инородцы» проживают в домах мусульман в качестве прислуги. Преосвященный Владимир просил местного губернатора запретить подобное «сожитие». Дело дошло до Св. Синода, рассматривалось в Департаменте духовных дел иностранного исповедания. Центральные власти пояснили архиепископу, что нет законных оснований такие договоры найма запрещать[25]. Подобный прецедент произошел в 1792 г. на Вятке. Представитель уржумского дворянского собрания Самарцов обнаружил, что крещеные марийцы находились в работах у татар-мусульман. Местная администрация решала вопрос: могут ли новокрещеные быть в услугах у «иноверцев»? Руководство Вятского наместничества пояснило, что в России нет таких законов, которые бы воспрещали православным находиться в услужении у «иноверных»[26]. Безусловный запрет найма, при котором православный мог быть «прислугой», существовал в западных пределах империи, где католическому духовенству запрещено было иметь в своих домах, церквах, монастырях людей православного исповедания «для услужения»[27].
Со времен Петра I были разрешены браки православных с «инославными» ‒ лицами, принадлежавшими к прочим христианским конфессиям (католиками, лютеранами). При этом существовал запрет на заключение брака православного с «иноверцем» ‒ язычником, мусульманином, буддистом. Впрочем, подобный брак допускался тогда, когда один из супругов принял православную веру и пожелал остаться с прежним супругом, оставшимся в «иноверии». Так, в 1729 г. Св. Синод предписал сохранить брак крещеных калмыков с некрещеными супругами, при условии, что в супружество они вступили «до восприятия Святаго крещения»[28].
В Российской империи допускались обычаи подданных, основанные на их верованиях. В Поволжье, на Кавказе и Средней Азии российские власти признавали нормы шариата. Дозволенные вероисповедания имели право беспрепятственно распространять религиозную литературу, но только в своей среде. В 1792 г. глава вятского наместничества Ф. Желтухин в ответ на просьбы татар-мусульман просил прислать из столицы печатные экземпляры Корана[29]. Власти Российской империи допускали подданных неправославного вероисповедания к управлению государством. В Уложенной комиссии Екатерины II присутствовали депутаты от мусульман. Протестанты нередко занимали высшие посты в государстве.
Таким образом, по ряду показателей в Российской империи принцип веротерпимости был не только провозглашен на официальном уровне, но стал нормой взаимоотношений между подданными разных вероисповеданий. Однако не стоит думать, что Российская империя являлась страной религиозных свобод подобно Соединенным штатам Америки.
Веротерпимость в Российской империи была ограничена отсутствием права вести миссионерскую деятельность представителям тех конфессий, которые не принадлежали к государственному вероисповеданию. «В пределах Государства одна господствующая Православная Церковь имеет право убеждать последователей иных Христианских исповеданий и иноверцев к принятию ея учения о вере. Духовные же и светские лица прочих Христианских исповеданий и иноверцы строжайше обязаны не прикасаться к убеждению совести не принадлежащих к их религии» (Устав иностранных исповеданий)[30]. При императоре Александре I Министерство внутренних дел достаточно определенно разъяснило позицию российских властей по данному вопросу: «никто в России не может обращаем ни в какую веру, кроме христианской грекороссийской»[31]. Запрет подкреплялся уголовным наказанием за «совращение» православных. В Наказе губернаторам и воеводам, изданным 12 сентября 1728 г. устанавливалась смертная казнь в отношении тех мусульман, которые обратят в свою веру какого-либо инородца (мордвина, чуваша, марийца, удмурта, лопаря и проч.)[32]. Нужно заметить, что ограничение на «инославную» пропаганду не было безусловным. С разрешения министерства внутренних дел мусульманам и язычникам разрешено было перейти в католичество, протестантство или армяно-григорианскую веру[33].
В Российской империи запрещалась деятельность отдельных сект. Особо преследовалась секта скопцов, последователи которой призывали производить кастрацию половых органов. В конце XIX в. в Якутии образовалось крайнее направление скопчества, заявлявшее, что источником зла являются не одни половые органы, а все тело человека, а потому призывали население к самоубийствам. Они не признавали никакой власти, собственности, родственных связей[34].
При рассмотрении вопроса о веротерпимости нельзя обойти стороной отношение властей к «народной религиозности». Это была особая форма религиозного сознания, представляющая собой переплетение христианских (православных) образов и дохристианских верований. Для православного подданного Российской империи было запрещено использовать церковную утварь и религиозные предметы (кресты, иконы, просфоры и проч.) во время призвания «нечистой силы». Отречение от Христа, отказ от исповеди, считалось наиболее тяжким преступлением. Как правило, такого человека отправляли к приходскому священнику для «вразумления» или наложения епитимьи. Но известны случаи смертной казни. В 1736 г. за отречение от Христа и призвание сатаны был сожжен посадский Яков Яров[35].
Призвание «нечистой силы» анимистами и язычниками не влекло за собой судебного преследования. Уголовной ответственности не подлежали «именующие себя чародеями инородцы Сибири»[36]. Однако, если языческий культ был сопряжен с угрозой членовредительства другим людям или человеческим жертвоприношением, тогда уголовная ответственность распространялась и на язычников. В 1881 г. самоед Ефрем Пырерка убил несколько людей на том основании, что на о. «Новая Земля» начался голод. В объяснении своего поступка Пырерка говорил, что совершил это дело, чтобы принести жертву диаволу. Палата Архангельского уголовного и гражданского суда определила сослать его в каторжные работы на 15 лет[37].
Свобода совести в Российской империи была существенно ограничена. Данный принцип предполагает не только государственную защиту верующих от вмешательства в их внутренние дела. Свобода совести связана с правом перехода из одного вероисповедания в другое, свободный выбор каждым гражданином (подданным) взглядов и убеждений. Гарантией данного принципа является отсутствие уголовного преследования или ограничения в гражданских правах лиц, сменивших свою религиозную принадлежность, даже если человек отказался от религии, которая признана государством как «господствующая».
До 1905 г. в России было запрещено переходить из православной веры в другую: «как рожденным в православной вере, так и обратившийся к ней из других вер, запрещается отступить от нея и принять иную веру, хотя бы иностранную»[38]. В законодательстве России в XVII – начале XX в. существовала уголовная и гражданская ответственность за уклонение от православной веры. В 1766 г. за не хождение к церкви новокрещеные татары с. Богоявленского (Казанская губерния) были приговорены к телесному наказанию. При этом было предписано, чтобы гражданские власти понуждали татар ходить к церкви[39]. Подобных дел можно было бы привести множество, однако формат статьи не позволяет сделать этого.
В целом, для российских властей был характерен взгляд на конфессиональную принадлежность подданного, согласно которому формальная сторона считалась более значимой, нежели действительные взгляды человека. Иначе, можно было регулярно ходить в православный храм, исповедоваться, даже причащаться, но при этом не иметь никакой симпатии к православию. Тем не менее, для властей мерилом религиозной принадлежности служил просто факт посещения исповеди, церковной службы, несмотря на то, что все эти действия совершались вынужденно.
Даже после объявления в 1905 г. вероисповедных свобод, в том числе свободы совести, российские власти не хотели разрывать с устоявшимся миросозерцанием, согласно которому членам православной Церкви был запрещен переход в иную религию. В апреле 1909 г. крещеный мариец д. Креолы (Уржумский уезд) Александр Данилов подал на имя уездного исправника ходатайство, в котором утверждал, что его пребывание в числе православных было чисто формальным ‒ «в качестве статистической единицы и по принуждению». Мариец просил, чтобы ему дано было формальное право быть язычником. Однако вятское губернское правление в этой просьбе отказало[40].
Таким образом, в Российской империи отсутствовала неизменная формула, под которую можно было бы подвести всю совокупность межконфессиональных связей. При одном императоре власти могли смягчить закон в отношении определенного вероисповедания. Другой монарх, исходя из своих взглядов, ограничивал положение «иноверных». Императрица Екатерина II даровала старообрядцам и мусульманам весьма широкие правовые возможности, но император Николай I значительно ужесточил политику в отношении старообрядцев и мусульман.
Веротерпимость в Российской империи не являлась абсолютной, была ограничена в пользу православной Церкви. Российские монархи принадлежали к православной Церкви, поэтому естественным следствием было стремление оградить православных от «инославной» и «иноверной» пропаганды. Данный тип государства был характерен для большинства стран мира эпохи империй. Патернализм был всеобщим явлением традиционных обществ, и Российская империя не являлась в данном случае исключением.
Создавая преимущества православным подданным и ограничивая в правах представителей иных конфессий, российские власти никогда не проводили политику геноцида, как бы это ни старались доказать некоторые исследователи[41]. Да, история Российской империи знает притеснения мусульман, уничтожение мечетей, тюрьмы для старообрядцев и сектантов. Были даже прецеденты еврейских погромов, которые, к слову чаще всего инициировались «чернью». Однако таких ужасных фактов, как геноцид целых народов по вероисповедному принципу, в России не было. Как при этом не вспомнить печальные страницы истребления армян, ассирийцев и греков в годы Первой мировой войны, осуществленные властями Османской империи на том основании, что эти народы не были мусульманами. Если в Российской империи были факты заключения мусульман в тюрьмы, то делалось это в отношении отдельных лиц, которым, при этом сохраняли жизнь и возможность остаться при своей вере. Как бы ни притягивали эти факты к выводам о нетерпимости, нет оснований утверждать о целенаправленном массовом уничтожении народов, населявших Российскую империю.
Не было также в истории России таких прецедентов, как османская практика «девширме». Согласно этой традиции на протяжении столетий власти Османской империи принудительно забирали мальчиков-христиан у их родителей и делали их мусульманами. Нужно сказать, что в истории России что-то подобное было. Сибирский митрополит Сильвестр (Гловатский) начал было отбирать детей у татар-мусульман. Однако такая идея не была одобрена центральными властями, которые в скором времени перевели митрополита в другую епархию, где мусульман почти не было. Единичные факты не могут служить мерилом общей политики империи. В Османской империи данная практика являлась целенаправленной и продолжалась на протяжении веков, при этом не осуждалась элитой страны. Швейцарский историк историк А. Каппелер отмечал, что власти Российской империи, за исключение отдельных случаев, придерживались «традиционной политики толерантности»[42].
Максим Александрович Орлов, кандидат исторических наук, АНОО «Петербургский лицей», г. Киров (Вятка)
[1] В Российской империи под «инославными» понимались христианские исповедания, не согласные с православным вероучением, а «иноверцами» считались те конфессии, которые не исповедовали Христа – мусульмане, буддисты, язычники.
[2] Под «неверием» в XVI – XVII вв. понимался не атеизм, а учения, не согласные с православными догматами.
[1] Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерк по истории религиозного разнообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 6.
[2] Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом [Репринт. изд]. М.: Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигпльный монасытрь, 1994. С. 7–13.
[3] Кипарисов В. О свободе совести. Опыт исследования вопроса в области истории церкви и государства с I по IX в. М.: тип. М.Н. Лаврова и К, 1883. С. 1.
[4] Цит. по: Амбрацумов И. В. Полемика о свободе совести в русской светской и церковной печати в конце 1904 – первой половине 1905 года // Христианское чтение. 2010. № 2 (33). С. 121.
[5] Тернер Ф. Г. Свобода совести и отношение государства к Церкви. СПб.: Тип. В. Безобразова, 1877. С. 39.
[6] Никольская Т. К. Русский протестантизм на этапе утверждения и легализации (1905–1917 гг.) // Богословськi роздуми: Схiдноевропейський журнал богослов’я. 2004. № 4. С. 172.
[7] Мельгунов С. П. Церковь и государство в России (к вопросу о свободе совести). Сб. ст. Вып. 1–2 . М.: т-во И. Д. Сытина, 1907. С. III.
[8] ПСЗ. Собрание первое. Т. I. № 1.
[9] Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Т. II. СПб.: 1907. № 600. С. 71.
[10] ПСЗ. Собрание 1. Т. XIX. № 13. 996.
[11] ПСЗ. Собрание 3. Т. XXV. № 26125.
[12] Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Т. I. СПб., 1899. № 31. С. 46.
[13] Там же. № 91. С. 111–112.
[14] ПСЗ. Собрание 1. Т. XVIII. № 13252.
[15] РГИА. Ф. 797. Оп. 5. Д. 20785. Л. 4 об.
[16] Дополнения к актам историческим собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. III. № 35.
[17] ПСЗ. Собрание первое. Т. XI. № 8236.
[18] РГИА. Ф. 796. Оп. 31. Д. 205. Л. 1–1 об.
[19] ПСЗ. Собрание первое. Т. XXVII. № 20629.
[20] Цит. по: Луппов П. Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века. СПб.: Типо-лит. М.П. Фроловой, 1899. С. 289.
[21] Можаровский А. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 года // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. М.: Общество истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1880. С. 87–88.
[22] Щапов А. П. Лука Канашевич, епископ Казанский // Православный собеседник. 1858. Ч. III. С. 498.
[23] РИГА. Ф. 796. Оп. 51. Д. 283. Л. 1-2 об.
[24] Верт П. Православие, инославие, иноверие ... С. 19.
[25] РГИА. Ф. 797. Оп. 14. Д. 33780. Л. 16 об. – 17.
[26] ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 2 б. Д. 23. Л. 1 – 1 об.
[27] Законы о вере и веротерпимости. С приложением свода разъяснений по кассационным решениям Сената / Сост. Я. А. Канторович. СПб.: Издание Я. А. Канторовича, 1899. С. 8.
[28] ПСЗ. Собрание первое. Т. VIII. № 5400.
[29] ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 2 б. Д. 73. Л. 45 – 46 об.
[30] Законы о вере и веротерпимости ... С. 3.
[31] ГАПК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 25. Л. 255 об.
[32] ПСЗ. Собрание первое. Т. VIII. № 5333.
[33] Законы о вере и веротерпимости ... С. 6.
[34] Маргаритов С. Д. История русских мистических и рационалистических сект. Симферополь: Таврич. губ. тип, 1910. С. 42.
[35] Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики: народная религиозность и «духовные преступления» в России в XVIII в. М.: «Индрик», 2003. С. 98.
[36] Законы о вере и веротерпимости ... С. 110.
[37] Левенстим А. А. Суеверие и уголовное право. Спб.; Я. Канторович, 1897. С. 7–8.
[38] Законы о вере и веротерпимости ... С. 18.
[39] РГАДА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 446. Л. 1.
[40] ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 150. Д. 118. Л. 2–3.
[41] Ислаев Ф. Г. Православные миссионеры в Поволжье. Казань: Тат. кн. изд-во, 1999. С. 28.
[42] Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М.: Прогресс-Традиция : Традиция, 2000. С. 85.