
***
Проснешься - с головой во аде, в окно посмотришь без очков,
клюешь зеленые оладьи из судьбоносных кабачков.
И видится нерезко, в дымке, - под лай зверной, под грай ворон:
резвой, как фраер до поимки, неотменимый вавилон.
Ты дал мне, Боже, пищу эту и в утреннюю новь воздвиг,
мои коснеющие лета продлив на непонятный миг.
Ты веришь мне, как будто Ною. И, значит, я не одинок.
Мне боязно. Но я не ною. Я вслушиваюсь в Твой манок,
хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшным-страшна себе самой.
Отправь меня в Шестую роту - десанту в помощь - в День седьмой!
Мне будет в радость та обновка. И станет память дорога,
как на Нередице церковка под артобстрелом у врага.
***
На смерть Михаила Анищенко
Три бутылки рижского бальзама -
и упал на пристани поэт.
У него от русского Сезама
открывашек и отмычек нет.
Всякий волен жить среди кошмара,
а ему, подумайте, на кой?
Безпокойный городок Самара,
стихотворца Мишу упокой!
Если ты запойный алкоголик,
а не просто пьющий человек, -
эту жизнь, испетую до колик,
различишь из-под закрытых век.
Можно быть, конечно, и без рая,
если слово русское постиг,
но, к полку последних добирая,
ходит Михаил Архистратиг.
Станешь ты не совести изменник,
а рванешься ввысь, многоочит,
если твой небесный соименник
меч тебе, тщедушному, вручит.
7 дек. 2012 г., вмц. Екатерины; сщмчч. Евгения и Михаила пресвитеров (1937);
8 дек., Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; прп. Петра молчальника Галатийского.
***
Как будто спа́ла пелена.
Спала́, спала́ - и сразу спа́ла...
Нам вождь сказал: «В натуре, падла,
я тоже бычу до хрена».
В натуре, спала пелена.
Оратор крымский говорил
стихом почти Экклезиаста:
«Я поздно встал. И понял - баста:
Я мать-державу разорил.
Я - ржав, как похоть педераста.
Вокруг - гниенье и распад,
и сам я есть продукт распада:
рапсод, взывающий из ада,
не видящий ворота в сад.
Мне пенья дар, и то - засада.
Когда бы тот, кто назидал
во тьме пророку: виждь и внемли,
ему слюну такую дал,
чтоб истину сглотнули кремли,
и всяк - свой смертный грех видал!»
Отец игумен у ворот
промолвил: «Повинимся, дети!
На сем еще не поздно свете
нам всем винитися». Народ,
избегнувший страниц в Завете,
вскричал, сумняшеся: «А в чем?..
За что нам - горечь обнищанья,
блатных вождей телевещанье -
то с кирпичом, то с калачом?
За что - уныние и тщанье?»
...Не в силах поглядеть окрест
непьяным - сколь возможно - взором,
люд перебит напастным мором.
Ему даны - Голгофа, Крест,
а он все рылом - в сором, в сором.
И ест, и ест его, и ест.
***
Этот страх беспримерный в башке суеверной,
твоей умной, дурной, переменчивой, верной, -
жадный опыт боязни, тоски, отторженья,
я лечил бы одним - чудом изнеможенья.
Потому что за ним - проступает дорога,
на которой уста произносят два слога,
два почти невесомых, протяжных, похожих,
остающихся, льнущих, ничуть не прохожих.
О, я помню: боящийся - несовершенен
в смелом деле прицельной стрельбы по мишеням.
О, я знаю, что дверь отворяет отвага,
и летает безкрылая белка-летяга.
Плоть поможет? Положим, и плоть нам поможет:
ужас прежний - на ноль, побеждая, помножит,
чтоб отринуть навек злой навет сопромата.
Сочлененье и тренье - завет, не расплата.
Плоть - сквозь плен осязанья и слуха -
прозревая, восходит к подножию духа,
тех прославив, кто в боязной жизни прощальной
льды расплавил телесною лампой паяльной.
***
У грешника болит рука. Он болью, будто тряпка, выжат.
Рука нужна ему пока. Урча, собачка руку лижет.
Звереныш - верный терапевт, зубастый ангел безусловный.
Он жизнь, сходящую на нет, кропит всерьез слюной соленой.
Крепись - до Страшного суда. Греми, собакина посуда!
И сказано: «иди сюда», и никогда - «иди отсюда».














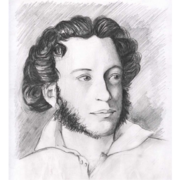







1. Траурный венок?