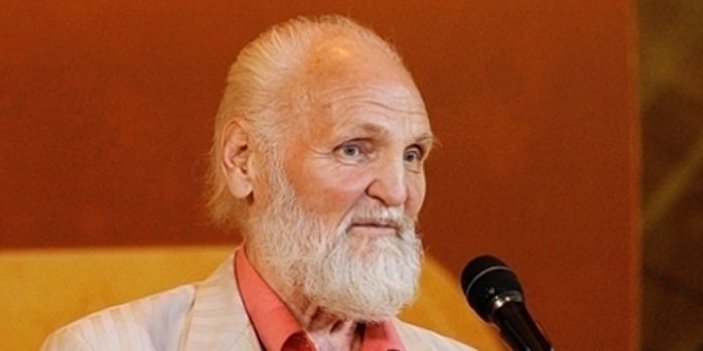
Самой пронзительной мечтой моего детства было стать моряком. А военкомат послал меня в ракетную артиллерию. Тоже хорошо. Но стремление дышать воздухом морей и океанов было всегда. Помню учения «Океан» 1970 года на Северном флоте, я писал о них и жил на эсминце «Отрывистый». Тогда и познакомился с молодым выпускником морского училища, порывистым, вихрастым лейтенантом. Он не ходил, он летал по кораблю.
Тридцать лет прошло. Москва, патриаршая служба в память погибших моряков-подводников. Плачущий седой капитан первого ранга. Не чувствующий горячих капель воска, стекающих с горящей свечи, он отрешенно и горестно смотрел на алтарь. «Он! - толкнуло меня. - Он, тот лейтенант». У выхода я подождал его. Мы встретились глазами.
- Североморск, - сказал я, - эсминец «Отрывистый». Учения «Океан».
- Писатель! - воскликнул он. - Есенина читал. Чего ж ты такой старый?
- А жизнь-то какая!
Мы крепко обнялись. Не слушая никаких возражений, капитан первого ранга, сокращенно, по-морски, каперанг, или капраз, повез меня к себе.
- Море - это навсегда, - говорил он, лавируя на мокром шоссе рулем «Жигулей», как штурвалом катера. - Навсегда. Это ж про нас, мореманов, шутка: «Плюнь на грудь, не могу уснуть без шторма». Я после Северного флота везде посолился - и на Тихом, и на Черном, заканчивал в Генштабе. Сейчас... сейчас, ну что сейчас, живу.
И вот мы сидим в его квартире. Она настолько похожа на корабль, что, кажется, пройдет секунда и каперанг, прямо в шлепанцах, отдаст команду: «С якоря сниматься, по местам стоять!»
- Сегодня мне одна команда осталась, - невесело говорит он, - команда эта: «Отдать концы!» И отдам. И все мы, моего возраста мореманы, тоже. Зачем нам жить? Чтоб еще и еще видеть позор и поругание флота?
Я стараюсь успокоить моряка, но, конечно, это бесполезно. На стене карта «Мировой океан». На карте синими флажками места трагедий, кораблекрушений, катастроф. На южной части Баренцева моря нарисован черный крест, тут потопили атомную подлодку «Курск».
- Именно потопили, - говорит каперанг. - Сними с карты кортик, дай сюда. Нет, достань из ножен. Вот, кладу руку. Руби! Не бойся, руби. Я руку даю на отсечение, что «Курск» потопили американцы. Если у наших хватит смелости, это все узнают. У них, у натовцев, недавно был фильм «Охота за «Красным Октябрем», это рассказ о потоплении подлодки типа «Курск». Они, вопреки всем конвенциям, вошли в район учений, что уже за всеми пределами допустимо го. И шарахнули, как акулы кита на мели. Шарахнули и добивали, чтоб никого в живых не осталось, чтоб без свидетелей. Чего ж не рубишь? Прав я, прав, с рукой останусь.
Каперанг тяжело дышит, глядит на стол. На столе по ранжиру стоят: бутылка водки, фляжка коньяку и пузырьки с сердечными каплями. Подумав, каперанг берется за самую маленькую емкость.
- Первым стал задницу америкашкам лизать Никита-кукурузник. Вроде смелый, по трибуне ботинком стучит, а новейшие корабли резали на металлолом, лучших офицеров увольняли. Помню, в газетах, в той же «Правде», всякие статьи, вот, мол, как полковник счастлив, что пошел в ученики слесаря на завод. Все Хрущ лысый! А свою трусость и подлость списал на батьку усатого. Мне батька тоже не икона, но нас при нем боялись. Боялись дяди Сэмы, и слоны их, и ослы боялись. Другого языка эти животные не понимают. Америку же образовала европейская шпана, отбросы каторжные, уголовщина. На индейское золото купили европейские мозги, вот и весь секрет. Про индейцев создали фильмы, мозги придумали конституцию. У них национальные интересы Штатов во всем мире. Я был у них на базе в штате Аризона, там огромный плакат. Глобальная власть Америки - контроль за всем миром. И не меньше. Леня еще Брежнев, как бывший вояка, держался, а уж Горбач, а уж Боря-хряк, эти подмахивали НАТО как могли. Заметил, что они ничего не вякали, когда парней пытались вытащить? И этот, теперешний, с ними встречается... Нет, пока он себя мужиком не проявит, ничего у него не выйдет. Слопают, или сам по-русски пошлет всех на три буквы и запьет. Вон Бакатин, мне говорили, пьет вмертвую. То есть совесть еще есть. А! - Каперанг взялся за емкость побольше. - Давай, не чокаясь, за парней. - Он выпил, и видно было, еле справился со слезами. Встал, подошел к окну, поглядел на московскую осень. Подошел к карте: - Где еще придется крест рисовать? А я ведь, знаешь, и не думал, что еще слезы остались, а за это время сколько раз прошибало. До какого сраму дожили: поехал наш пьяный боров в Берлин оркестром дирижировать, когда с позором нас из Европы гнали, э! Коньяк - это несерьезно, давай «кристалловской». - Каперанг успокоился, сел, смахнул на пол стопку газет. - Если б не эта зараза, да не этот вот, - он показал на телевизор, - мы бы выжили. Я когда энтэвэшников смотрю, я весь экран заплевываю. Думаешь, один я так? Все бы эти плевки на них, они бы в них захлебнулись. Вот телебашня горела не просто, как объясняют, мол, от перенагрузки. От жадности!Грузили провода по-черному, они и задымились. Но, главное, даже уже и башня не выдержала всего того срама, что ее заставляли передавать. Вещи и предметы не безгласны - это, кстати, моряки лучше всех знают. Да и вообще я к старости стал умные книги читать. Где я раньше был? Вот прочти у Иоанна Златоуста о зависимости погоды и урожаев от нравственности общества. Это очень точно. Я, кстати, опять же с детства знал пословицу «Что в народе, то в погоде», так ведь во всем. Вот я полошу начальство, вся страна полощет, но давай задумаемся: мы же их заслужили.
- Да! - резко вдруг сказал он, я даже вздрогнул. - Знаешь, когда мы первый раз серьезно по морде схлопотали?
- В Сербии?
- Точно. Бандиты и хамы бомбили братьев, мы только вякали протесты. Потом послали Красномордина замирять - еще бы, умеет, перед бандитами Басаева в Буденновске шестерил... А, чего-то я совсем разволновался.
Я стал было прощаться, но каперанг заявил:
- Нет, я тебя в таком настроении не отпущу, нет. Я близко знал нынешнего адмирала, для конспирации назову Черкашин, мы с ним на Черном болтались. А уже началась горбачевщина, он всем торопился доложить, что мы за мир, мы разоружаемся. Американцы трусы, поэтому слабину чувствуют. Стали к нам захаживать. Они и всегда-то в нейтральных водах паслись, тут стали наглеть: зайдут в территориальные наши воды, подразнят, потом хвостом вильнут. Мы докладываем: что делать? Нам: не конфликтовать. Ладно. Те хамеют, ходят по палубе в трусах, кричат: «Рашен, делай собрание, голосуй». Ладно. А этот Черкашин был вторым на эсминце. Я тогда был начальником боевой части. Сидим в кают-компании, материмся. Черкашин командиру говорит: «Товарищ командир, вы же два года без отпуска, пора же вам отдохнуть. Оставьте на меня корабль». Командир, золотой был мужик, вечная ему память, смеется: «Нет, Коля, боюсь, больно ты горяч, как бы международного скандала не наделал».
Ладно. А главком флота был, это был главком, он тоже в Москве зубами скрипел, мы ему прямую картинку показывали, он же видел, как янки к нам голым задом стоят. И вот - слушай. Не знаю, как они договорились, но думаю, что Черкашин это все сам проделал. Он заступил на вахту и ночью палубникам приказал все шлюпки, все, что за бортом висит, прибрать. То есть остались с чистыми бортами. Утро. Те, на крейсере, кофе попили, прут в наши воды, в наглую прут. Гляжу, Черкашин сам у руля. Те прут, они же привыкли, что мы безгласны, у нас же гласность только тут, - ка-перанг ткнул рукой в направлении телевизора. - Прут. Наш эсминец спокойнехонько пошел навстречу, сделал ювелирный маневр и навалился бортом на борт американца. Те охренели. Все их шлюпки захрустели, как орехи, бассейн на палубе к хренам расплескался. Мало того, Черкашин спокойно, но резко замедлил и еще протер их по борту. А дальше еще мощней. Отработал полный назад, потом полный вперед и навалился на другой борт и его прочистил.
- Боже ж ты мой, - воздел каперанг руки, - что началось! Через десять минут Горбач знал и разродился: разжаловать, наказать, посадить виновных, извиниться! Но главком, повторяю, мужик был от и до, тут же докладывает: накажем, уже наказали, виновного офицера представляем к суду чести, списываем на берег. Да, суд чести был честь по чести, так скажу, Черкашина качнули. А с эсминца, точно, списали... на другой эсминец. Командиром. Ты знаешь, я уверен, америкашки это очень хорошо помнят. Тогда ж сразу уползли в Стамбул бока шпаклевать. С ними только так. Только так. Во-первых, они не за деньги не рискуют, жадны, во-вторых, трусливы.
Но все время теперь будут кусать, как шакалы льва, который слабеет. Пока не дашь отпор, будут приставать.
Мы простились. Кортик со стуком вернулся в ножны и водрузился на место, в центр Мирового океана.
Он вышел меня проводить до лифта. Лифта не было почему-то.
- Чубайс электричество отключил, - невесело пошутил каперанг. - А знаешь, как он умирать будет? Он даже не помирать, он подыхать будет. На вонючем тюфяке и при свете огарка. Да. Остальные приватизаторы примерно так же. Я человек не злой, но знаю, что возмездие неотвратимо. Вот вы там пишете, что, мол, велика угроза Америки, это так, и мы об этом поговорили. Но главная угроза здесь. Не масоны окружили президента, а уголовники. За деньги накупили мест в Думе, депутаты у них - шестерки, уже им и цена известна. Криминал - вот угроза. Но, как всегда, наше дело правое, победа будет за нами. У уголовников и нравы уголовные. Знаешь, как говорится: «Жадность фраера сгубила», этих тоже сгубит. При условии, что они до тех пор нас не сгубят. Давай. Топай по трапам пешком. Да! - воскликнул он. - Самое главное, что ж вы не писали, что Сербию бомбили самолеты марки «Торнадо» и смерч «Торнадо» смел многие штаты тогда же. Возмездие же было. И еще будет. Держи пять, - сказал он, как говорят на флоте. - И крепко пожал руку и засмеялся: - Что же руку-то мне не отрубил, цела. А потому - прав я. Не бойсь, прорвемся! Главное - по местам стоять!
Новорусская премия
В те незабвенные времена, когда писателей ценили и тиражи журналов были заоблачными, один из журналов, «Работница» или «Крестьянка», точно не помню, объявил меня лауреатом года. Жили мы с женой очень скромно, этому известию обрадовались.
- Тебе купим костюм, - говорила жена, - а то ходишь, как...
Мы наивно думали, что если тираж журнала восемнадцать миллионов, то и премия изрядная. Увы, какой там костюм, на рукав бы не хватило. Совершенно расстроенный, я поехал обратно. Но не сразу домой, а в Дом литераторов. В нем была какая-то притягивающая сила черной дыры. Не хочешь, а едешь. Конечно, было там и хорошее, друзья были, разговоры, всякие секции, бюро, творческие объединения, обсуждения, вечера, собрания... Но главное, конечно, были ресторан и буфеты. В них и проистекала творческая жизнь. Гуляли изрядно.
В нижнем прокуренном буфете меня окликнул мрачный поэт Юрий Кузнецов. Поэты его побаивались или заискивали перед ним. То и другое было не по нему, я же был прозаик, да к тому же в еще более отдаленные годы мы вместе работали в издательстве «Современник» и не читали друг у друга ни строчки. Да и зачем читать что-то у человека, с которым и так хорошо?
- Ты когда-нибудь купал женщину в шампанском? - спросил меня Юра.
- Еще нет.
- А что? С книги можно. (То есть с гонорара за книгу.)
- С книги может быть, а вот с премии не потянуть. Я сейчас как лауреат года премию получил - слезы! Такую и домой не понесешь, только пропить. Тебе чего заказать?
- Только не шампанского. Хотя, - Юра опять задумался, - ничего в этом купании хорошего нет. Женщина же будет липкая вся, ее же надо будет потом обмывать, косметика потечет...
- А ты в сухом купай.
- Все равно же мокрая. Ну что, пару ящиков хватит. Тут, брат, гусарить надо до конца, тут надо ее туфелькой шампанское черпать и пить. Но, конечно, надо, чтоб и она была на взводе и чтоб сам был в полном порядке. Трезвый же не бу дешь из туфли пить. Ну что, брат, заказывай.
А дальше... дальше все было как в стихах Юрия Кузнецова:
С бледным лицом возвращаюсь к законной жене.
Где я напился? На дне, дорогая, на дне.
И вот - прошла вечность, мы живем и умирать не собираемся, все в той же самой лучшей стране, России, пишем, кто хуже, кто лучше. Живем не всегда, но иногда хорошо. Смотрим, пожимая плечами, как демократы из Пень-клуба дают друг другу разные премии. Ведь по гамбургскому счету мы, писатели, отлично знаем, кто чего стоит, так что и тут все в порядке. Недавно меня порадовало искренностью высказывание писательницы для общего вкуса Марининой. Ее телеведущий спрашивает: «А как на вас смотрят настоящие писатели?» Маринина отвечает: «Как солдаты на вошь». Если мои благосклонные читатели, а они у меня есть, позволят мне считать себя писателем, как и моих друзей, то замечу, что солдаты - символ защиты Отечества - ходят в чистом, в бане моются, как же они будут смотреть на вошь?
Вот и мне решили дать премию новые бизнесмены одного нового какого-то АО, ЗАО, РАО, я в них не разбираюсь. Позвонили, соединили с начальством. С самым главным не сразу. Как я живу? Очень хорошо живу, отвечал я. У меня все есть. Нет, машины нет, дачи нет, ну и не надо. Квартира? Ничего, терпимо. Кабинета нет, ну так всю жизнь не было, и тоже не надо. Я говорил, а сам думал: а взять бы им, поросятам, меня на пансион, на два года хотя бы. Я бы роман написал. Но их планы были шире и значительней. Они учреждали премию и меня собирались объявить первым лауреатом. Соединили с начальником. Он тоже долго говорил.
- Мы знаем, - говорил начальник, - у вас давно не было книг, это же для писателя нонсенс. Не скрою, этой премией мы хотим показать правительству пример отношения к культуре. Отношение же почти на нуле, вы согласны? Культура - дело первостепенной важности, я так думаю.
Как не согласиться с тем, что культура - дело первостепенной важности? Я обещал сутки подумать. Вечером жена видела этого человека по телевизору.
- Очень приличный. Говорит дельно, не жует, есть что сказать, в отличие от некоторых. В конце концов, тебе пора купить приличный костюм, ходишь, как...
Короче, когда мне назавтра позвонили насчет премии, я на нее согласился. Колесо завертелось. Дела со мной имел референт. Он бодро докладывал, что все подвигается, вручение приурочено к благотворительному вечеру, просил подготовить мое ответное слово, осторожно просил показать его. Я отвечал, что по бумаге говорить не умею, что даже и не знаю, что говорить. Он испугался: как так? «Ну я же не слышал слов при вручении, я же на них должен отвечать. Услышу и отвечу». - «Мы вам покажем речь Ильи Семеновича».
Я отказался читать заранее то, что все равно услышу. Думаю, что они уже начинали во мне разочаровываться.
- Премия - это взятка, - философствовал я перед женой. - Дадут - и обязан отработать. Ведь я уже потом против этого РАО нигде не выступлю. Вот (такой-то) издали ему книгу (такие-то), он же теперь слова против них не скажет.
- Но книга-то хорошая, - возражала жена. - Или ты забыл про клок шерсти с паршивой овцы? И вообще, что ты на этом зациклился? Возьми да откажись, пока не поздно...
На церемонию вручения меня хотели везти на машине. Я отказался не почему-либо, а просто потому, что здание, где был вечер, было рядом с метро. Я с детства жалею технику. Меня просили приехать пораньше, но я подумал, а чего там буду толкаться, и приехал в обрез. Мокрый от напряжения и страха референт, вымученно улыбаясь, провел меня в комнату президиума. По дороге обнаружил, что я без галстука, и приказал кому-то принести три на выбор. Я уперся, не ношу я галстуков. В комнате президиума был богато накрытый стол. Я, из любопытства, приподнял одну из не виданных мною бутылок за горлышко. Референт испуганно сказал:
- Может, после церемонии?
Видимо, он полагал, что русский писатель хлобыщет коньяк стаканами. Значит, ему велели отвечать не только за мою доставку, но и за мой внешний вид. Меня подвели к Илье Семеновичу. Спасибо ему, что хотя бы не приобнял за плечи, не похлопал по спине, не сказал: «Вот вы какой, оказывается», - просто пожал руку, ею же указал на накрытые столы, уточнив, что это просто так, что банкет впереди.
Я отвел в сторонку край занавеса, посмотрел в зал. Публика была очень приличная: ветераны и школьники. Началась церемония. Долго гремел оркестр, звучал «Рассвет на Москве-реке» из «Хованщины» Модеста Мусоргского. Долго оглашались списки добрых дел этого объединения. Вручались подарки. Велели готовиться и мне.
Илья Семенович говорил без бумажки, что меня обрадовало. А то получилось бы, что я без бумажки, а он с ней. Вынесли Диплом лауреата. Диплом - прямо чудо полиграфического искусства. Даже и конверт, из которого извлекли Диплом, был специальный, сверкал золотом каемки и серебром надписей. Илья Семенович в своем слове излагал правительство в области плохого отношения к культуре, особенно в области литературы, сказал, что я хороший, что они решили меня отметить и т. п.
Референт шептал мне о заслугах Ильи Семеновича. Ясно, что мне полагалось их, эти заслуги, озвучить, сделать достоянием общественности. В зале было много средств массовой информации. Из упрямства я ни слова не сказал в адрес Ильи Семеновича, более того, заявил, что хорошая литература не нужна никому: ни коммунистам, ни демократам, она независима, она на стороне униженных и угнетенных, что демократия плодит нищету и разбой, уменьшает рождаемость, увеличивает смертность, и даже ляпнул такую фразу, что подачками от богатеньких буратино культуру не поднимешь. И не надо: русская культура самодостаточна. Что я вкладывал в это слово, которое совсем не люблю, я не понимаю до сих пор. Но то, что мое выступление было не по нутру Илье Семеновичу, я сообразил. Пожал его руку. Оркестр исполнил «Славься!» Михаила Ивановича Глинки из оперы «Жизнь за царя». Я ушел со сцены с большим конвертом. За кулисами Илья Семенович сообщил, что деньги они сюда не привезли, чтоб «презренным металлом» не омрачать радость события, что просит прямо завтра приехать к ним в офис за суммой. Сказал загадочно: «Для начала дадим вам пять тысяч. Немного, конечно, но это же, - он похлопал меня по плечу, - для начала».
Мне не хотелось на банкет, я и не остался. Ушел, даже и не извинился. Референт меня не уследил. А вот одна женщина перехватила. Она просила у меня денег на поездку в Оптину пустынь.
- А вы знаете, мне денег не дали, - извинился я. Но я видел, что она мне не поверила.
Жена, не ходившая на церемонию, посоветовала вообще за деньгами не ездить.
- Ну уж нет, - сказал я, - столько позорился, должна же быть какая-то компенсация.
Наутро несколько газет сообщили об учреждении премии и первом ее лауреате. Позвонил товарищ, очень давно не звонивший:
- Ну что, старичок, надо тебя качнуть.
Когда я к обеду рассказал уже нескольким знакомым, что денег мне не дали, я решил их получить. Позвонил... нет, не Илье Семеновичу, его телефона не знал, а референту. Референт говорил очень холодно. Выговорил и за речь, и за отсутствие на банкете. А про деньги спросил:
- Разве вы их не получили?
- Илья Семенович велел зайти за ними.
- Я узнаю и позвоню.
Он узнавал три дня. Я не звонил. Позвонил он и соединил с Ильей Семеновичем. Тот, переврав отчество, просил позвонить завтра. Что делать, позвонил. Хотя уже указательный палец немел от кручения диска. Не соединяли. На другой день, на третий его не было. Я не мог и представить, чтоб от меня бегали: люди занятые. Но вот мне назначили день приезда. Велели с паспортом. Это для пропуска. Выписали пропуск, чуть ли не обшарили при входе, я прошел сквозь «хомут» как в аэропорту. Велели ждать. Я ходил по коридору, вышедшему из евроремонта, и чувствовал себя очень паскудно. Тем более какой-то служащий очень настойчиво предложил мне «присесть». У Ильи Семеновича шло, естественно, заседание. Но вот он вышел и, даже и руки не протянув, вынул из кармана катушку ассигнаций. Почему они были так свернуты, не знаю. Может, для удобства. Он ловко отмотал мне две тысячи, подумал, еще добавил пятьсот.
- Мы как договорились? - спросил он. Я растерялся. Разве мы договаривались? Он вспомнил:
- А, да, пять. Я говорил: пять, да? - Он подумал. - Половина, пересчитайте, ваша, остальные чуть позже. Идет?
Мне казалось, что при выходе меня ощупают и отберут выданную сумму. Нет, выпустили. Я никуда не заезжал, привез деньги домой, рассказал жене, как мне в коридоре отслюнивали купюры.
- Забудь, - сказала она, - и больше им не звони.
Я и не звонил и благополучно забыл бы о премии, но она сама о себе напомнила. Наступил следующий год. Я как законопослушный налогоплательщик заполнил налоговые простыни и уснул спокойно. Доходы мои не превышали суммы, после которой налоги взимаются. Вдруг меня вызвали в на логовую инспекцию. Инспектор, человек очень доброжелательный, спросил:
- А вы не забыли какие-либо доходы внести в декларацию? Тут я вспомнил свою дальновидную жену, она говорила, чтоб я внес эти две с половиной тысячи в декларацию. «Возьми у них справку». Но это же надо было им звонить, я представил, как они будут докладывать Илье Семеновичу, как он подумает, что я напоминаю о второй половине, и решил не связываться. Да и велика ли сумма в конце концов.
- А-а, - сказал я, как бы вспоминая, - ну да, премия. Две с половиной тысячи. Но справки нет. Если можно, запишите без справки.
- Две с половиной? - спросил он. - Значит, вам долларами заплатили?
- Нет, рублями. Долларами, да вы что, да я их ненавижу, брезгую в руки взять. И вообще, - просветил я инспектора, - уважающая себя страна не позволяет чужой валюте вторгаться в свои пределы. Доллар, кстати, произошел от европейского талера.
Инспектор выслушал меня, закурил и пододвинул выписку из сообщений о благотворительной деятельности объединения, меня наградившего. Там среди прочих расходов значилась и моя фамилия, а против нее стояла сумма - пятьсот тысяч рублей.
- Или это ошибка, - сказал я, - или они мне должны четыреста девяносто семь тысяч пятьсот.
- Советую разобраться, - сказал инспектор. - Месяца хватит? Я вам верю, но я обязан верить фактам, а не словам. Или они отзывают документ в части вас, или на вас налагаются санкции через суд.
- Да, - говорил я дома жене, - вот вляпался. У них, значит, статья благотворительности налогами не облагается, а премии облагаются. С тех, кто получает. Значит, руки на мне погрели. А может быть, - строил я предположения, - они и хотели дать пятьсот тысяч, а потом я им не понравился, они и переиграли. А по документам прошла такая цифра. А может быть, решили, что я такой богатый, что заплачу налог и не вздрогну.
- Не гадай, а звони им.
Угроза описи имущества через суд придала мне сил, и я дозвонился. Референт был изумлен. Илья Семенович был не в курсе. Они обещали разобраться. И, видимо, разобрались, так как меня больше к инспектору не таскали.
Большое вам спасибо, дорогие учредители новорусских премий, спасибо и до свидания.
Берестяная грамота
Берёзовая кора, белая береста, конечно, не может состязаться в долговечности с глиняными дощечками, с иероглифами на камнях. Но когда береста попадает в благоприятные условия, то хранится веками и однажды всплывает из прошлого и являет миру свои письмена.
Новгородские берестяные грамоты показывают, что грамотность в Древней Руси была повсеместной. Вот договорённость о привозе таких-то товаров к такому-то сроку, вот наказ жены мужу привезти из города то-то и то-то. Вот мальчик, обидевшись на отца, пишет ему: «Хорошо же ты сделал, что не взял меня, а обещал».
Но более всего поразила меня и довела до слёз самая короткая берестяная грамотка. Всего четы ре слова. Письмо от юноши к девушке. Вот оно:
«Павел Марии. Пойди за меня».
И это всё. От Павла Марии: пойди за меня. Пойди за меня, Мария. Здесь такая высокая чистая нота любви и целомудрия, до какой нам тянуться и тянуться.
О, как любил Павел Марию, как робел признаться в любви. Как высмотрел стройную берёзу, ходил к ней. Однажды пришел с ножом, аккуратно снял квадратик верхнего слоя, сушил этот квадратик меж гладких дощечек, придавив их камнем, как гладил сильной ладонью поверхность, и вот, оставшись один дома, взял у божницы железное писало и вырезал:
«ПАВЕЛ МАРИИ. ПОЙДИ ЗА МЕНЯ».
Как он волновался, когда завернул послание в чистую холщовую тряпицу, и как послал младшего братишку к Марии.
Братишка понял своим сердечком, что ему поручено что-то огромное в судьбе его старшего брата, бросил все свои дела и помчался по улице деревни к дому Марии.
И всё бежит и бежит. «Мария, пойди за меня. Павел».
А Мария вышла на резное крыльцо. О, как бьётся её сердце.
Судьба человека
Восьмидесятые. Павелецкий вокзал. Уличная пивная. Подошел, молодой мужчина в телогрейке. Озирается:
- Тут можно постоять?
- А почему нельзя?
- Кто знает. Боюсь. Я, между нами говоря, неделю только, как со срока. Оттянул три года. Три года за ведро яблок. - Оглянулся пугливо, достал четвертинку: - Будете? Нет? Не самопальная. - Отпил, глубоко вздохнул и закурил. - Хоть отдохну.
- Как же так, за ведро яблок?
- Как? Да так. Я сам с Липецкой области. Как пошел этот бардак, как стали коммунисты задницу доллару лизать, всё захирело, сады побросали, дичают. Мы с парнями прошли по полосе, собрали паданцев, вынесли на дорогу, хоть на бутылку продадим. Тут «бобик» милицейский, зондер-команда.
- Откуда яблоки?
Мы по дурости честно:
- С полосы.
- Залезай, садись.
И опять, дураки, сели. И чего сели? Привезли. «Ну, всех оформлять не будем, бери кто-нибудь на себя. Я и высунулся: «Пишите на меня». Записали, отпустили. Через месяц повестка: суд. Ни хрена себе, заявочка. Это ж паданцы, яблоки-то, полоса ничейная. Там и адвокат. «Что ж мне шьют-то?» Он, будто и никто, пришел посидеть, морда утюгом, в зубах ковыряется. «Принеси справку, что яблоки ничьи». А кто мне такую справку даст? Уже ни сельсовета, ни колхоза. Так и заткнули на три года. Будто опять в армии отслужил. Только кормёжка хуже. Сечка и картошка. У кого родственники, легче. Передачу притаранят, охранники сумки перетрясут, что получше - себе, но что-то же и оставят. Еще кому-то нужным сунут, тому-другому, отряднику, конечно, и живут. А туберкулёз там гуляет! Я на вас кашлять не буду. - Он опять немного отпил. - Выпустили, а куда идти? Кантуюсь тут. Прошу денег, но на билет же все равно не собрать, хоть на пузырёк нацыганю, и то. Да и к кому я туда приеду? Родители умерли, дом заняли чужие, меня выписали. Иди, докажи. А что зэк докажет? Мне сейчас главное - к ночи напиться, меня и заберут в ментовку. Хоть отосплюсь. Напинают, конечно. Да ничего, дело привычное. Обшарят, а чего у меня красть? Боюсь, что и забирать не будут. Вывезут на свалку и пристрелят.
- Да ты что?
- А ты не знал? Ну, наивняк. - Мужчина ещё отпил. - Так-то я даже и рисовал, и в художественное хотел поступать. Нет бумажки?
Бумажка нашлась. Мужчина ловко извлёк из телогрейки карандаш и быстро начертал довольно сложный узор.
- Не понял, чего?
- Орнамент какой?
- Кельтская тематика. Для татуировки. Этим и зарабатывал. Может, и тут кого найду, ты не знаешь мастеров?
- Но это же дикость, это ж для дикарей, для уголовников.
- Я и есть уголовник. А дикарей среди пацанвы через одного.
- Что, и у тебя есть татуировка? - Я посмотрел на его руки - чистые, без следов иглы.
- Немножко. Показать? - Он снял телогрейку с одного плеча, закатал клетчатую рубаху. У локтя открылась татуировка - красивая девичья головка. - Я ж любил одну. Вот.
- И поезжай к ней.
Мужчина засунул руку в рукав.
- Нет, - он тяжко вздохнул, - тут не проханже, шансов нет.
- Замуж вышла?
- Да хоть и не вышла. Я ж не гад какой человека делать несчастным. Я ж пью.
Тут и я вздохнул.
- Иди в церковь. В сторожа. Двор подметать.
- Думал уже, думал. У нас и батюшка в зону приходил. Утешал. Верили, молились. Молились, а как же, на свободу рвались. Бог помог, вышли, и про Бога забыли. Ну, пойду я в сторожа, а как выпью, да что сворую?
- Тебя как зовут?
- Дима. Кликуха Димон.
- Чего тебе советовать? Крещёный?
- А ты как думал? Я же русский. В том и дело, что русский, а нас за людей не считают.
- Но ты сам-то себя считаешь человеком?
- Я-то считаю, а всякая сволота на нас тянет.
- Что тебе до них? И не Димон ты, а Митя.
Он достал извнутри телогрейки пузырёк, взболтнул.
- Ну, чего, давай прощаться, - я протянул руку.
- Спасибо, хоть поговорили, - сказал он. - Может, когда и встренемся?
- Может, и встретимся.
Да нет, не встретились. И никакой сюжетной закругленности тут нет. И никакая тут не литература. Пропал Митя. А вдруг жив?
Очки
Давно уже не молодой, а всё ещё стараюсь не сдаваться на милость возрасту, хотя пора признать: ни прежних сил, ни памяти не остаётся. Постоянно всё теряю, всё забываю. А люди относятся ко мне, как к прежнему, и очень обижаются, что я уже давно не прежний.
С утра приехал в Никольское - надо за газ заплатить. Нашёл квитанции, не могу в них разобраться. Пошёл смотреть счётчик - без очков не вижу. Ищу очки, не нахожу. Совсем расстроился. Наконец, нашёл. Оказывается, были не в кармане, а в сумке. Списал показания и, чтобы очки не потерять, сдвинул их на лоб. Говорит же всегда жена, чтоб я носил их на шнурке, как орден на шее, но мне кажется, что это уж очень по-стариковски.
Сел заполнить квитанцию - опять нет очков. Всё пересмотрел, сумку опять всю вывернул, все ящики стола не по разу открыл и закрыл. Нет очков. Вроде и стыдно святителя Николая таким пустяком безпокоить, но заплатить-то надо, неохота с долгами жить. Взмолился, прохожу мимо зеркала, взглянул. А очки-то на лбу!
И тут очень целебно вспомнился мне случай из детства. У нас жил дедушка по отцу, Яков Иванович, он всегда очень много читал. И всегда терял очки, которые мы всегда искали. И в этот раз велел искать. А вот интересно, почему мы его побаивались? Он же ни за что бы никого пальцем не тронул, а как-то робели.
И вот мы ходим по дому, залезаем на печку, ищем на кухне, в комнате, на подоконниках. Смотрим и под столом и под лавками. А на дедушку боимся даже посмотреть. Тут открывается дверь, приходит мама:
- Чего это вы ползаете?
- Очки дедушке ищем.
- Да они же у тебя на лбу! - восклицает мама, взглянув на дедушку.
И в самом деле, на лбу. Мы очень рады и от радости начинаем смеяться. А дедушке, может быть, это обидно, вроде как опозорился перед внуками, ему кажется, что мы над ним смеёмся.
И в самом деле, потом мы часто вспоминали очки на лбу у дедушки и смеялись. Но не над ним, в мыслях такого не было, а над ситуацией. В самом деле смешно: мы ищем очки, ползаем, везде смотрим, а очки у дедушки на лбу.
Вспоминаю своих дедушек и каждый раз тяжко вздыхаю: почему же были мы такие безтолковые, почему мало расспрашивали их о прошлом? Может от того, что они нас берегли? Не настраивали против властей, хотя очень много от них пострадали. Рассказывать же о том, что уже уходило из жизни и не могло нам пригодиться, они, видимо, не считали нужным. Церковь в селе была закрыта, молились ли они Богу, не видел. Хотя уверен, молились. Была и икона в доме.
Когда я при внуках делаю что-т о, по их мнению, не так, делаю плохо, они, я вижу, не смеются надо мной, а жалеют меня. За что я им благодарен. Но почему неинтересно им моё детство? Может, от того, что им нечего взять из него для себя? Всё же стало другим.
Осталась только любовь. Очень люблю своих дедушек. Им было очень тяжело жить. Именно такие, как они, сохранили Россию.





















1.