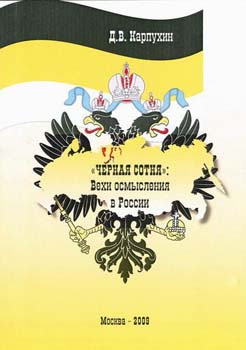 На сегодняшний день существует несколько десятков монографий и диссертаций, а также бессчетное количество статей, посвященных отечественному консерватизму и правому движению в России. Уровень этих работ неоднороден и наряду с подлинно научными исследованиями встречаются слабые, компилятивные и субъективные работы. Учитывая постоянно увеличивающееся количество публикаций, связанных с тематикой русского консерватизма, логично было бы ожидать и большого числа историографических работ по данной проблематике, однако их, к сожалению, практически нет. На мой взгляд, данный пробел обусловлен рядом объективных и субъективных причин (некоторые из них будут названы ниже). Разумеется, всегда должно пройти время; выявиться различные исследовательские направления; сформироваться научные школы и т.д. Хотя в определенной степени это уже произошло, обобщающих историографических работ мы так и не увидели.
На сегодняшний день существует несколько десятков монографий и диссертаций, а также бессчетное количество статей, посвященных отечественному консерватизму и правому движению в России. Уровень этих работ неоднороден и наряду с подлинно научными исследованиями встречаются слабые, компилятивные и субъективные работы. Учитывая постоянно увеличивающееся количество публикаций, связанных с тематикой русского консерватизма, логично было бы ожидать и большого числа историографических работ по данной проблематике, однако их, к сожалению, практически нет. На мой взгляд, данный пробел обусловлен рядом объективных и субъективных причин (некоторые из них будут названы ниже). Разумеется, всегда должно пройти время; выявиться различные исследовательские направления; сформироваться научные школы и т.д. Хотя в определенной степени это уже произошло, обобщающих историографических работ мы так и не увидели.Автор представленной на суд читателей книги, защитивший в 2008 году кандидатскую диссертацию по специальности 07.00.09 (историография, источниковедение и методы исторического исследования) взял на себя нелегкую задачу представить историографический обзор проблемы, проанализировав основные труды, посвященные монархическим партиям и организациям. Выделяя три этапа в историографии темы (досоветский, советский и современный), Д.В. Карпухин наиболее подробно останавливается именно на последнем этапе (с 1992 года по настоящее время). Это связано не только с большим количеством работ по теме, по сравнению с предыдущими этапами, но и с разнообразием существующих оценок. Д.В. Карпухин верно определил хронологические рамки этого этапа. В 1992 году вышла книга С.А. Степанова "Черная сотня в России (1905-1914 годы)", что стало серьезным шагом вперед в изучении проблемы, хотя для этой работы и были характерны многие штампы, присущие советской историографии о правых.
Большое значение для максимально объективного изучения монархического движения имели публикации конца 1990-х годов, автором которых был Ю.И. Кирьянов. Благодаря его работам в научный оборот впервые был введен большой массив документов, позволивших воссоздать политическую историю правых партий России начала XX века. В процессе работы Кирьянов активно сотрудничал с историками из разных городов России, часто выступал оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям, посвященным правомонархическому движению; рецензировал монографии и сборники научных трудов. Итогом деятельности историка в этом направлении стал выход в свет двухтомного сборника документов "Правые партии" и монографий "Правые партии в России. 1911-1917 годы" и "Русское собрание 1900-1917" (опубликована посмертно). В откликах на эти издания отмечалась разносторонняя источниковая база исследования, которая позволила автору по-новому рассмотреть ряд вопросов истории правых партий и организаций, отказавшись от многих стереотипов советской историографии.
В диссертациях и монографиях Д.Д. Богоявленского, А.А. Иванова, Д.А. Коцюбинского, Е.М. Михайловой, К.В. Максимова, И.В. Омельянчука, Р.Б. Ромова, В.Ю. Рылова, С.М. Саньковой, Д.И. Стогова, А.П. Толочко, и других современных российских историков история "черной сотни" получила свое дальнейшее освещение. Вместе с тем, помимо появления научных исследований, в последние годы стали публиковаться работы, в которых содержится большое количество случайно или намеренно искажений фактов, грубых ошибок и т.п. Все это способствует формированию новых мифологем, которые зачастую принимаются на веру далекими от науки читателями. Большие тиражи изданий содержащих эту "новую мифологию", их доступность (купить подобные книги в столичных и в региональных магазинах, проще, чем монографии и сборники документов) в итоге формируют сознание так называемого "массового читателя", в том числе, оказывая негативное влияние и на студенческую аудиторию.
Представляется, что определенным подведением итогов для нынешнего историографического периода, должен стать выход первой фундаментальной научной энциклопедии по истории, идеологии и практике отечественного консерватизма. Работа над проектом "Русский консерватизм: XVIII - начало ХХ вв." продолжалась несколько лет при активном участии российских историков из различных городов и научных центров страны.
Цель Д.В. Карпухина, обратившегося к историографической проблематике, заключалась не просто в изложении позиций разных авторов. Посвятив каждую из глав рассмотрению конкретных проблем, Карпухин попытался обобщить накопленный историками опыт. Можно сказать, что ему это удалось. О научной зрелости автора свидетельствует и тот факт, что он не только критически, и одновременно объективно, оценивает работы предшественников, аргументировано и корректно полемизирует с ними. Оставаясь на позициях объективизма, он одинаково дистанцируется, как от "пристрастно-негативных", так и от "сусально-апологетических" работ о черной сотне. Это можно только приветствовать, ведь работа исследователя-историографа иногда сродни кропотливой работе следователя. Приходится не только анализировать чужие труды, но, порой, и выявлять содержащиеся в них ошибки, а иногда и фальсификации.
Удачным представляется выделение Д.В. Карпухиным "региональной историографии", что позволяет ему дать первый анализ основных монографий и диссертаций по исследуемой теме, появившихся в регионах на рубеже XX - XXI вв. Впечатляет географический охват проанализированных диссертантом исследований: Москва, Петербург, Киев, Казань, Орел, Кострома, Томск, Тверь, Хабаровск, Тамбов, Воронеж, Минск, Челябинск, Екатеринбург, Ярославль. Курск, Пенза, Владимир, Омск, Ульяновск, Нижний Новгород, Саратов и т.д.
На наш взгляд одной из причин отсутствия обобщающей историографической работы по рассматриваемой Д.В. Карпухиным теме было то, что с 1990-х годов научные связи в России ослабли. Монографий, диссертаций и статей, посвященных русским правым мы в настоящее время, действительно, имеем много. Однако, выходящие мизерными тиражами в 50, 100 или 500 экземпляров они слабо введены в научный оборот и зачастую недоступны не только для широкого читателя, но и для исследователя.
Проблему представляет и специфика комплектации библиотечных фондов, когда от выхода книги из типографии до ее появления в каталоге проходит от нескольких месяцев до года. Если в Москве и Санкт-Петербурге проблему помогают решить библиотеки, то в провинции можно полагаться или на личные связи, или же на интернет-ресурсы, где помещаются тексты исследований (например, http://www.conservatism.narod.ru или http://www.rusk.ru).Размещение материалов конференций по консерватизму в интернете позволяет большому числу людей не только ознакомиться с новыми исследованиями, но и оперативно высказать свое мнение о них.
Есть еще одна проблема, о которой нужно упомянуть. Речь идет о наметившейся в последние годы среди некоторых молодых исследователей тенденции намеренного игнорирования не только советской историографии (это можно было бы объяснить идеологическими причинами), но и вообще какой бы то ни было историографии. Некоторые из них, в поисках "новизны темы" иногда пытаются огульно отбросить все прошлые труды своих предшественников, или, обвинив их в предвзятости, или же специально проигнорировав, чтобы тем самым показать "новизну" собственной работы. В "популярных" книгах, не имеющих отношения к исторической науке, каждый автор волен давать в списке литературы те произведения, которые считает нужным. Однако когда в списках источников и литературы к некоторым изданиям претендующим на "энциклопедичность" встречаешь в основном только фамилию самого автора книги, упомянутую десятки раз; а в авторефератах кандидатских диссертаций все чаще видишь записи о том, что, мол, кроме диссертанта никто ничего "объективного" о русских правых никогда не писал, то возникают сомнения в объективности компетентности "исследователей".
Можно сделать вывод, что как апологетика, так и критика русского правомонархического движения ведется некоторыми авторами отнюдь не в рамках научного дискурса, а на уровне "навешивания ярлыков". Использование в их статьях эмоционально-оценочных эпитетов и грубых выпадов в адрес оппонентов (наряду с превосходной оценкой собственных трудов) лишает эти материалы какой-либо научной значимости и переводит их в разряд публицистики. Не владея, или плохо владея источниками (особенно архивными), эти авторы или выдергивают из контекста "удобные" им цитаты, или намеренно искажают факты. Можно говорить, как о намеренном искажении истории русского консерватизма, в угоду сиюминутным целям, так и о ненамеренной небрежности, проистекающей из отсутствия профессионализма, или же из-за излишней поспешности при подготовке изданий. В этом отношении монография Карпухина ценна тем, что автор, как и подобает исследователю, не стремится осудить тех своих предшественников-историков, чьи работы политически идеологизированы, и выступить в роли "судии", не пытается вставать в позу обвинителя или защитника "черной сотни".
Конечно, охватить все исследования невозможно, но работа Д.В. Карпухина в этом отношении является "первой ласточкой" и будущие историки могут ею воспользоваться как своеобразным "руководством к действию". Темы, которые автор книги вычленил для своего исследования, разумеется, будут затрагиваться еще во многих работах. Это - изучение социального состава черносотенных союзов и организаций. В ходе анализа работ дореволюционных, советских и современных историков, Д.В. Карпухин прослеживает, как менялась оценка социальной базы черносотенства, выявляет ряд дискуссионных тем (об участии в правом движении представителей рабочего класса, крестьян, люмпен-пролетариев и т.д.). Исследователь также рассматривает позицию историков по следующим вопросам: 1) черносотенный террор (погромы и убийства политических противников); 2) социально-экономическая деятельность правых; 3) думская деятельность.
В начале ХХ века русский консерватизм, пытаясь оформиться в идеологию, способную отвечать на вызов времени, испытывал влияние и традиционализма, и либерализма, и даже левого радикализма, но идеологическая непримиримость, усиленная революционными событиями 1905-1907 годов затормозила этот процесс. В современной политической ситуации, когда некоторые из постулатов консервативной идеологии находят отклик не только в российской политической элите, но и в обществе, большое значение приобретает формирование адекватных представлений об историческом облике консерватизма в самодержавной России. Сегодня возросшей популярности консерватизма в российском обществе способствует и то, что каждая политическая сила вкладывает в это понятие содержание, которое ей выгодно в него вкладывать в данный момент. Однако ошибочно полагать, что "рецепты", данные русскими монархистами применительно к конкретной ситуации царствования Николая II, можно использовать для лечения "болезней" XXI века. Есть, правда, и другая крайность - объявить все консервативное наследие архаикой, не достойной изучения. Полагаю, что существует "золотая середина". Не выискивая, подобно некоторым политтехнологам, у правых удобные для сегодняшнего дня цитаты и не отбрасывая их наследие, как нечто недостойное, мы должны sine ira et studio изучать прошлое.
Александр Витальевич Репников, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории













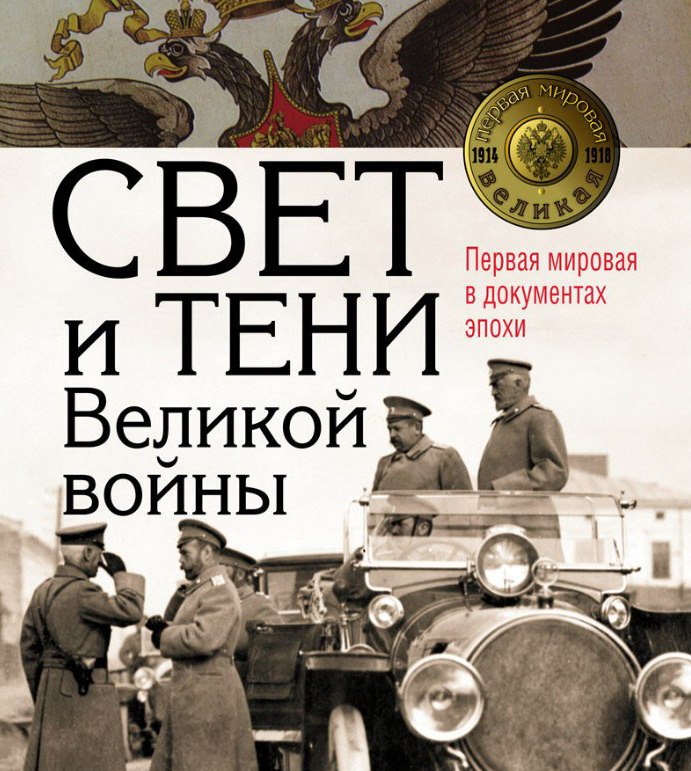



 кв.jpg)









