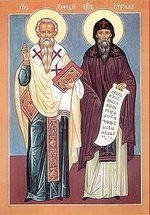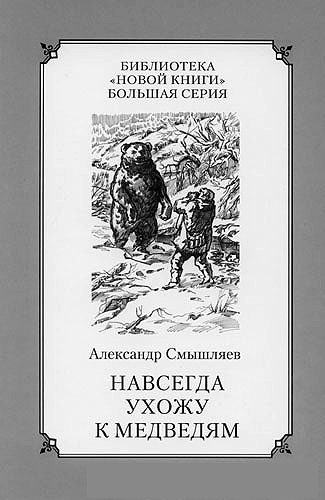
Имеяй милостей бездну, препобеждающую рабов Твоих прегрешения, ихже избра, упокой в недрех Авраамлих, и с Лазарем во свет Твой всели.
(Канон о усопших, песнь 9)
В Лазареву субботу исполняется сорок дней памяти известного камчатского прозаика Александра Смышляева, которого сегодня знает вся Россия. Он оказался первым из тех писателей, кто стремительно откликнулся на главнейшую проблему наших дней, официально называемую Специальной военной операцией, посвятив её героям (Героям России) несколько книг, написанных в жанре документального очерка. И есть у автора отдельные художественные рассказы о нынешней войне (я живу в приграничном Курске, потому вижу именно открытую страшную войну, а не какую-то загадочную «спецоперацию»), а также несколько детских книжек на военную тему, среди которых особенно полюбилась юным читателям история «Белые журавли» (о ней хорошо рассказала Ольга Горелая на сайте «Российский писатель», тоже очевидец войны на Брянщине).
Я расскажу о другой книге Александра Смышляева. Она называется «Навсегда ухожу к медведям». Это книга повестей и рассказов, изданная двадцать лет назад, но сегодня – в свете государственной озабоченности воспитанием молодого поколения – ставшая актуальной как никогда (см.: Навсегда ухожу к медведям. Повести, рассказы. Петропавловск-Камчатский: «Новая книга», 2005. – 352 с.). В своё время писала о ней, рецензии печатались в журнале «Дальний Восток» и в научном издании Орловского университета. Сегодня сделаю особый акцент на одном произведении этой книги, именно для нашей молодой аудитории читателей, кому адресована повесть «Пока собачки бегут на север».
Прежде чем скажу об авторе и произведении, напомню, сколь озабочена сегодня общественность проблемой отсутствия хорошей литературы для детей и подростков. Вот буквально на днях на РНЛ можно было прочесть материал В. Николаева о закрытии «всеми любимой» советской телепередачи «В мире животных», и там приводится цитата из речи депутата Госдумы Анатолия Грешневикова на заседании рабочей группы на тему детской литературы и детских медиа: ««Вы извините, задайте вопрос, почему сегодня при "успешной" в кавычках деятельности правительства уничтожена вся природоведческая литература? А что такое природоведческая литература? Это же литература о гуманизме, вот нужен этот гуманизм или нет? Понимаете? Поэтому сегодня зайдёте в любой книжный магазин, ну нет природоведческой литературы. Значит, нет воспитания гуманизма», – заключил депутат» (https://ruskline.ru/news_rl/2025/04/11/prowai_nash_dorogoi_mir_zhivotnyh). Эти слова депутата Грешневикова как нельзя лучше высвечивают сегодня особенную ценность книг Александра Смышляева для воспитания гуманизма и любви к природе в нашем молодом поколении. Повесть «Пока собачки бегут на север…» не только приключенческая, но и в определённой мере природоведческая, ибо раскрывается в ней перед нами и мир северного человека со всеми его испытаниями, и мир природы, в окружении которой живёт и совершенствует свою «живую душу» человек.
Как широко одарённая личность Александр Александрович Смышляев объединял в себе таланты геолога, первооткрывателя, руководителя, организатора, журналиста, режиссера, писателя, издателя, краеведа и, наверное, ещё многих других даров было у него. Одно из его литературно-краеведческих детищ – альманах «Камчатка» – по счастливому стечению обстоятельств (после моего знакомства с редактором и составителем) удалось представить и курскому читателю. Это произошло благодаря сотрудничеству А.А. Смышляева с курскими писателями, некогда проживавшими на Камчатке и написавшими о ней, а также с литературоведами, исследующими прозу курских писателей (здесь подразумеваю и себя). Так, например, в выпуске альманаха 2015 года располагаются рядом «Карагинские одиссеи» курянина Бориса Агеева и моя статья о книгах курского прозаика, родившегося во Льгове, а вошедшего в русскую литературу именно с берегов Камчатки (известно, что тогдашний редактор молодёжного журнала «Юность» Борис Полевой даже высылал вертолёт за автором дебютной повести «Текущая вода», получившей премию журнала). Благодаря такому тесному сотрудничеству двух писательских организаций, Камчатской и Курской (среди курских «камчадалов» – членов Союза писателей СССР/России – следует особо упомянуть ещё и Александра Харитановского, автора известного романа «Господа офицеры!»), возникает взаимный интерес к достижениям и открытиям друг друга, к новым именам и новым произведениям в культурном пространстве каждого из географических ареалов – Камчатки и Курского края. А потому и неслучайно моё обращение к книге, по-особенному зазвучавшей на фоне сложившихся культурных взаимосвязей.
В книгу «Навсегда ухожу к медведям» входят две большие повести и четыре рассказа. Произведения существенно различаются по содержанию и стилистике авторского повествования. Но в целом возникает впечатление единства идейного замысла и его реализации даже на уровне внешнего художественного оформления издания. Книга даёт представление о суровой северной красоте и мужественной любви к ней живущего на севере человека. Каждое из произведений открывает читателю какую-то новую грань характера жителя Камчатки, его отношения к своей земле, своей родине. Вначале коротко скажу об этих произведениях.
Открывающая книгу приключенческая повесть «Пока собачки бегут на север…» посвящена знаменитой на Камчатке тысячекилометровой гонке на собачьих упряжках, получившей название «Берингия» – в честь мореплавателя-первооткрывателя капитана-командора русского флота Витуса Беринга. Путь её пролегает через заснеженные просторы Центральной Камчатки и изобилует разного рода трудностями и препятствиями для участников, создаваемыми как самой природой, так и несовершенством человеческой натуры. Приключенческий характер повести как раз и обусловлен ситуациями преодоления смертельных опасностей и внезапным для героев обретением новых друзей и нового видения жизни.
Вторая повесть, «Куклы Апостолграда», вмещает в себя социальную проблематику и нравственный конфликт. Действие происходит в современности во время выборов депутата Госдумы, место действия по-прежнему – Камчатка. Автор стремится обострить коллизии, чтобы обнажились все тайные страсти человеческой души, чтобы обнаружились и лучшие качества способного к преодолению соблазнов человека. В произведении затронуты темы предательства и чести, патриотизма и снобизма, цинизма и искренности. Проводя читателя через многие нравственные коллизии, автор подводит его к мысли о неизменном преобладании добра над злом в душе каждого, сохранившего в чистоте свою совесть, человека.
Из четырех рассказов книги первые два посвящены людям трагической и героической судьбы. Рассказ «Далеко на «Камчатке»» повествует о капитане Зигмасе, в одиночку совершившем кругосветное плавание на яхте «Камчатка». В Коста-Рике с ним случился сердечный приступ от жары и переутомления. Завершал свою кругосветку капитан Зигмас уже духовно. Тело его кремировали, урна с прахом пересекла Тихий океан, замыкая кругосветный маршрут уже с друзьями капитана Зигмаса, приехавшими за его телом с Камчатки.
Рассказ «Навсегда ухожу к медведям», давший название всей книге прозы, навеян автору трагедией, случившейся в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Известный всему миру фотограф-натуралист, автор знаменитого фотоальбома «Камчатский медведь» с уникальнейшими снимками, подобных которым больше никому сделать не удалось, исследователь камчатского бурого медведя Виталий Александрович Николаенко был убит зверем во время съёмки в декабре 2003 года. Его памяти и посвящен рассказ Александра Смышляева, дружившего с Виталием Николаенко и знавшего его характер и душевные качества. Это знание довольно ярко отражено в тексте, причем с лёгким оттенком юмора, с той интонацией, какую может позволить себе только близкий друг, от которого мы обычно ждём исцеляющей нас искренности. Правда, автор предупреждает читателя, что герой его полностью выдуман, у него нет даже имени. Однако первейшее желание читателя после прочтения этого рассказа – открыть фотоальбом Виталия Николаенко и узнать о жизни его автора. Из настоящих дневников исследователя, из его статей и заметок в научно-популярных журналах, из воспоминаний о нём – мы узнаём его характер, и это даёт нам понимание многих мотивов рассказа Александра Смышляева. И прежде всего той неутолимой любви его героя к камчатской тайге и её обитателям, которая, будучи источником его полнокровного личного счастья, стала и причиной его гибели (об этом писала я в работе: «Человек с фотоаппаратом, или Любовь по-камчатски. Рассказ Александра Смышляева «Навсегда ухожу к медведям». Опыт прочтения»; см.: https://rospisatel.ru/maslova-smyshljajev.htm).
Рассказ «Испытательный срок» посвящен проблеме выбора жизненного пути, выбора профессии. Выпускник геологоразведочного техникума Виктор Панов становится металлургом, чтобы не огорчать свою возлюбленную Катюшу. На самом деле он мечтает быть геологом. А потому, проведя некоторое время у доменной печи, он впадает в тоску и даже напивается. Не делают его жизнь счастливой даже ежедневные встречи с возлюбленной. Автор завершает рассказ таким образом, что нам ясен выбор героя – он увольняется с комбината и стремится в тайгу. Но не ясно, выдержала ли этот «испытательный срок» его любимая Катюша, отложившая судьбоносный разговор «до завтра». Только по конечным строкам повествования можно догадаться, что у Виктора Панова теперь другая возлюбленная – тайга. «…Ему стало легко. А в город окончательно пришло лето. Далеко, у горизонта, дыбились в голубой дымке горы. Там была тайга, она уже который год ждала молодого геолога Виктора Панова».
Последний рассказ книги – «Отцовское ружьё» – посвящен памяти Георгия Афанасьевича Лоскутникова, почётного горняка СССР, отчима А.А. Смышляева. Рассказ ведётся от первого лица, имена героев не вымышленные, так что это скорее автобиографический текст, нежели беллетристический. В роли героя – сам автор, в роли отца – его отчим. Портрет отца герой-повествователь рисует мягкими, лиричными красками: «В тайге на отце всегда была обычная ватная телогрейка чёрного цвета. А на голове – простая, несуразно-жёлтая, конопатая, на искусственном меху старая шапка. Но на лице – всегда улыбка философа, его потаённая, редкая для тех серьёзных лет улыбка… Она предназначалась только истинным друзьям и своим. На фотографиях это и сегодня видно». «Проснувшись, я находил возле костра нашу походную сковородку с зажаренными в яйце пескарями… Уже после этого, протерев глаза, я отыскивал взглядом и отца, стоящего с удочкой по колено в утреннем тумане. Я всегда любовался этой картиной и раз за разом тайно записывал в дневнике, что опять отец с удочкой «плыл над сонной утренней рекой, словно Иисус Христос из Библии» .
Конечно же, это не просто ассоциативная связь по сходству внешних ситуаций. Подобно тому как Христос сказал своим ученикам: «Азъ есмь Путь, Истина и Жизнь», для героя этого повествования именно отец стал тем образцом для подражания, ученичества, благодаря которому он открыл для себя мир и полюбил его. «Именно он подарил мне и моим братьям тайгу. Влюбившись в тайгу, костры и походы, я стал геологом». Так нашёл герой свой путь и свою жизнь.
А теперь, пожалуй, стоит сказать отдельно об одном из произведений замечательной книги Александра Смышляева «Навсегда ухожу к медведям» – приключенческой повести «Пока собачки бегут на север…».
В связи с названием может возникнуть вопрос: почему «собачки», а не «собаки»? Не слишком ли приторна такая ласковость для северного человека? Но с первых же страниц повести становится ясно, что уменьшительная форма здесь не случайна и стилистически оправдана. Автор везде употребляет это ласково-уменьшительное наименование животных, от которых на Камчатке зависит многое в жизни человека, а иногда и сама жизнь. Причём ласковость эта не от героев чаще всего идёт, а от самого автора. Это он не хочет называть «меньших братьев» собаками, привнося в повествование тёплую тональность дружественного отношения к животным. Это внимание проявляется и в особенном уважении автора к их мыслительным способностям. Рядом с мыслями каюров (владельцев собачьих упряжек) звучат и мысли их подопечных. Читателю открываются собачьи чувства, стремления, и всё это через призму естественных законов природы. В этой связи в современной прозе рядом с именем Александра Смышляева хочется поставить имя другого известного писателя-натуралиста Камиля Зиганшина с его повестями о диких зверях – куницах, росомахах, рысях, волках и прочей живности, которая, густо заселив страницы книг, активно мыслит, «разговаривает», помогает «глупым двуногим» в тайге, но и соперничает с человеком за место под солнцем, куда ж без этого. Так происходит, к примеру, в повести Зиганшина «Возвращение росомахи», где рассказ ведется как бы «от лица» этого редкого пушного зверя со всеми его душевными переживаниями и мыслями по поводу поведения человека, этого странного «двуногого существа». У Смышляева повествование выстроено так, что не всегда замечается грань между словами автора и мыслями героя. Вот пример предложения, где речь ведётся о собаке, автор рассказывает: «Вот таким был Каштан – далеко не молодой, крупный ездовой пёс камчатской породы. Он помнил, как в прошлом году здесь погибли от зубов местных шакалов две хорошие, сильные собаки. И ничего нельзя было сделать, глядя на эту трагедию…» Кажется, это авторское сожаление о том, что люди видели, но не смогли помочь, не отвратили «трагедию». Ведь очевиден здесь осмысленный взгляд на ситуацию, названную трагедией. Однако продолжение фразы заставляет нас удивиться и, что самое главное, – полюбить Каштана с первого же эпизода его появления в повести: «…И ничего нельзя было сделать, глядя на эту трагедию, – не пускали крепкие кожаные ремни и цепи. Увы…».
Из этого фрагмента очевидно, что Каштан – один из главных «собачьих» героев дальнейшего повествования, ибо его благородная натура здесь обнаруживает себя сполна даже и без подробного авторского рассказа о нём. Нам достаточно этой одной его мысли, потому что мыслит он философскими категориями добра и зла, радости и трагедии.
Александр Смышляев продолжает здесь лучшие традиции жанра приключенческой повести с героями-животными. Если речь именно о герое-собаке, то сразу вспомнится чеховская Каштанка, Затравка (Травка) Михаила Пришвина, Белый Бим Чёрное ухо Гавриила Троепольского и другие. А если брать северных ездовых собак, тут незабвенны мыслящие четвероногие герои Джека Лондона. Но следует уже остановиться и вспомнить, что повесть Александра Смышляева не о собаках…
Пока собачки бегут в упряжке, держа курс на север Центральной Камчатки, с их хозяевами происходят удивительные приключения и случаются преображающие нравственные метаморфозы. Вот об этом повесть.
На страницах своего произведения автор воссоздаёт колоритные портреты северных людей, коренных жителей Камчатки и тех, кто когда-то приехал сюда и остался навсегда, привязавшись душой к этим суровым, но несказанно прекрасным местам.
Напомним, что сюжет повести выстроен вокруг тысячекилометровой гонки на собачьих упряжках «Берингия», в которой участвуют как опытные, хорошо подготовленные каюры, так и новички. Для гонки они подбирают самых сильных, выносливых собак, которые ничего другого в жизни никогда не делали – только ходили в упряжке. Эти животные отличаются особым нравом – агрессивны, беспощадны, не нуждаются в большом количестве корма и легко переносят любую непогоду. Каюры гордятся своими собаками, иногда доходит и до гордыни. Испытания, настигающие их во время гонки, помогают обрести душевную гармонию, а некоторым и смысл жизни.
Самым старшим из героев изображен коряк-оленевод Ксенофонт Оглю. «Мудрая, незлобивая настороженность в отношениях с русскими – вот что сразу бросалось в глаза при общении» с ним. «Он своим горделивым, независимым видом показывал, что русские – это, конечно, нация большая, великая, но коряк есть коряк, он всегда будет загадкой для русского, а потому останется в чём-то выше, хитрее и недоступнее» (с.25). «Среднего роста, кряжистый, постоянно трезвый и улыбчивый, Ксенофонт, с точки зрения русского, так не походил на прочих коряков. В нём глубоко, врождённо сидело достоинство. Он светился мудростью и жизненной философичностью. Было видно, что он просто так, от нечего делать, не соблазнится водкой, как большинство его соплеменников, и не променяет на неё честь и свою независимость. На праздник он пришёл в красивом, вышитом бисером и кусочками кожи малахае. На ногах – чистые, незаношенные торбаса. Остальная одежда – обычная, европейская. Но именно малахай и торбаса вкупе с азиатским широкоскулым, обветренным и морщинистым лицом подчеркивали в старике его национальность» (с.26).
Стоит сразу отметить здесь эту самобытную лексику. В повести мы встречаем разного рода кухлянки, малахаи, торбаса, камлейки, конайтэ. Всё это национальная верхняя одежда и обувь. Упоминается ещё корякский народный танец норгали. Из многих северных народов здесь присутствуют не только коряки, но ещё эвены и ительмены. Большинство действующих лиц – русские, но с особенной любовью автор всё-таки рассказывает о героях-аборигенах. Уже знакомый нам коряк Ксенофонт Оглю как раз и стал в итоге лидером «Берингии». У него были самые лучшие ездовые собаки.
Самым молодым участником гонки оказался Кешка Коерков. Этот юный герой сразу же вызывает наши симпатии. «Его провожало всё родное село Эссо: он – свой, единственный на гонке эвен. Девчонки, в том числе сестра Марина, целовали его в разрумянившуюся на утреннем морозе щеку. Кешке было стыдно от прилюдных девичьих ласк, он отмахивался, деланно сердился. А в душе было приятно, на сердце – тепло. У него ещё не было постоянной подружки, он ещё не был влюблён, поэтому подпускал к своей гладкой щеке всех девчонок» (с.26). «Как Кешка любит жизнь! Ничего ему не надо – ни Петропавловска, ни Москвы, лишь бы ехать вот так на любимой собачьей упряжке или идти с ружьишком по камчатской тайге! И всё вокруг понимать. И знать, что ты здесь свой. И медведь тебя видит, да не трогает, и куропатка тебя слышит, да не боится. Они догадываются, что без причины Кешка хулиганить не станет, он вырос и воспитан эвеном, лесным человеком, неотъемлемой частью природы! Кешка привык ограничивать себя во всём – и в еде, и в желаниях» (с.28).
Ну, чем не христианский подвижник! В еде не нуждается и желания усмиряет. И медведь его не трогает, и куропатка не боится. Подобного героя мы уже встречали в повести Бориса Агеева «Вокруг Горы, что льдом сверкает». Там юноша Кечгэнки, будучи героем северного мифа, даже беседовал с медведем и кормил кашей говорящего Ворона.
У Александра Смышляева не миф, а современность, но герой его по-прежнему считает себя «лесным человеком», не прельщаясь благами городской цивилизации, которые уже развратили многих его соплеменников.
Ещё один интересный персонаж повести – потомок племени старейшин Данила Камак. «Данила был по натуре авантюристом, рисковым парнем. Наверное, сказывалась кровь тойона, как на Камчатке раньше называли вождей у коренных северян. Камаки из его рода всегда были тойонами. Это было заметно даже по внешнему виду всех Камаков – крупных, широкоплечих, видных, властных. И Данила был таким же» (с.40).
Этот юноша-северянин уже существенно отличается по характеру и от пожилого коряка Ксенофонта, и от совсем юного эвена Кешки. Он чувствует себя человеком привилегированного сословия, которого, к сожалению, уже не существует в современном быту северян. Поэтому он несколько потерялся. «В прошлом году он вернулся из армии, с пограничной заставы на острове Медном, устроился работать в родном северном посёлке плотником-бетонщиком, но строили мало, заработков не было, поэтому он сначала ушёл на обработку рыбы к местному частнику, а осенью завёл упряжку, чтобы начать браконьерничать, самостоятельно добывая соболя и горностая. Соболь шёл плохо, а за горностая давали мало, поэтому он с радостью согласился участвовать в гонке, когда узнал, что главный приз – снегоход «Ямаха» и приличная денежная премия. От такого снегохода и от тысячи долларов разве откажешься, живя на Севере?» (с.40).
Кажется, этот герой не спешит понравиться читателю. Настораживает его напористая деловая хватка и откровенно меркантильные соображения. Однако уже на следующей странице повести автор так разворачивает события, что Даниле удается продемонстрировать самые лучшие качества своего характера. Прежде всего, нас по-хорошему удивляет, как этот современный молодой человек, уже испытавший зависимость от комфорта, в опасную минуту вдруг забывает страх и полагается на опыт предков, спокойно располагаясь на ночевку в снегу посреди бушующей в тундре пурги. «Ничего страшного, – успокаивал себя Данила. – Предки постоянно так ночевали, и никто не замерзал до смерти. Не замерзну и я» (с.41).
Что для европейца было бы смертельной опасностью, для него – «ничего страшного». То же доверие к природному началу в себе сказывается и в принятии судьбоносных решений. Случайно заблудившись в тундре во время ночной пурги, Данила уклонился от маршрута «Берингии» на целых двадцать километров. Нечаянно оказался в юрте своего знакомого коряка-кочевника и влюбился в его сестру. Всего несколько часов провели они вместе, но Данила доверился зову сердца и остался с Даринкой насовсем, сойдя с гонки и, соответственно, лишившись вожделенных призов и долларов. Так естественно и безоглядно дети природы Данила и Дарина принимают свою судьбу, усматривая её указующий перст даже в созвучии своих имён.
Самая яркая любовная линия связана с двумя другими персонажами повести. Это молодой метис Мишка Насса и журналистка Кира из Москвы.
«Фамилия у Мишки от деда, материного отца, коряка. Интересный был дед, Мишка гордился им. Старый писатель Шаталов в молодости путешествовал с дедом и много о нём рассказал в книгах» (с. 49).
Автор присваивает характеру этого юноши ту традиционную эмоциональную неуравновешенность, которой обычно отличается русский человек с открытой для всех душой. А дело вот в чём.
Кешка, сильно огорчившись, что его дальняя родственница Даринка, в которую ему запретили влюбляться из-за родства, так быстро вышла замуж за Данилу, переживал едва ли не до слёз. Вот Мишка Насса и взялся его душевно утешить. При этом сам он, как бывает со всяким, в ком течёт русская кровь, сильно взгрустнул, припоминая свои неудачи. Оказывается, он успел уже на этой гонке влюбиться: «…мне, если честно…одна журналистка из Москвы понравилась, на старт приезжала. Эх, черт, мне бы выучиться! Самая большая мечта у меня – поступить учиться. Да боюсь экзаменов, а на платную учебу денег нет» (с.44).
Тяга к просвещению у Мишки от отца, но в способностях своих он, как всякий, только наполовину цивилизованный человек, сильно сомневается. «Хотя, если разобраться, зачем он нужен той московской журналистке Кире? У неё там такие ухажеры! А он: ни кола, ни двора, ни образования, ни национальности. Отец – русский, мать – корячка, он по русскому три ошибки в одном слове делает, зато стихи Пушкина и Есенина может часами читать наизусть. Не любит охоту и рыбалку, зато любит собак и спорт. Короче, всего намешано, но никакого кристалла в душе пока не вырастает… А такая девчонка! Видно, что Север самозабвенно любит! И очень заинтересовалась Камчаткой. Мишка с нескрываемой тоской оглядел мутные дали. Камчатка ты моя, Камчатка! Любимая тюрьма!» (с. 45).
Писатель рисует героя, душа которого не находит покоя из-за двойственности, обусловленной его происхождением. Мысленно Мишка называет себя аборигеном Камчатки, любит её, но отцовская в нём кровь зовёт его в Москву. «Они с Кирой обошли всё Эссо, она рассказывала о Москве, о своей работе, а он всё больше говорил о собаках и родном Севере. И снова читал ей Пушкина, поблёскивая счастливыми чёрными глазами:
Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей… » (с.47).
Упоминание «болезни любви», метафоры, получившей широкую популярность в русской романтической поэзии со времён Пушкина и достигшей кульминационного «болезненного» смысла в стихах Ап. Григорьева и балладах А. Фета (например, «Лихорадка»), указывает на пробуждение страсти в крови юноши-метиса. Однако Кира не спешит отвечать взаимностью.
Известную проблему, отраженную в советском кинематографе 80-х годов («Легко ли быть молодым?»), А. Смышляев с тонким юмором обыгрывает в ситуации слияния двух культур, когда абориген Мишка, декламируя Пушкина, погоняет свою собачью упряжку с таким изяществом, будто это знатная русская тройка с серебряными бубенцами: «Трудно быть метисом. Сливаясь, две могучие реки долго борются друг с другом, пока не станут единым потоком. А кровь метиса всю жизнь не знает покоя… – Но, залётные! Вперёд, Туман! – весело кричал Мишка и, отталкиваясь ногой от плотного снега шахмы (накатанной дороги. – М.М.), помогал собачкам ускорить бег» (с.49).
Невозможно пречислить все удачные эпизоды и яркие художественные находки повести. Остаётся только добавить, завершая разговор о теме любви, что журналистка Кира влюбилась не в Мишку, а во всю Камчатку, хотя и претерпела здесь тяжелое испытание на стойкость характера. Попадала она в лютую пургу, засыпало её снежной лавиной, слышала она близкий вой волков и видела их горящие голодные глаза совсем рядом с собой, плакала от страха и отчаяния, проклиная безжалостную северную ночь – и всё-таки не смогла не признать тот факт, что «Камчатка действительно умеет влюблять в себя и в своих людей…» (с. 84).
Не случайно автор называет маршрут гонки «Берингия» дорогой любви. (Пятая глава повести так и озаглавлена – «Дорога любви».) Не только потому, что молодые парни, участвуя в гонке, мечтают встретить здесь свою судьбу, и некоторым это действительно удаётся. Есть у «Берингии» другая, более весомая значимость – она делает людей братьями, учит их взаимопомощи, добру и любви.
На этой жизнеутверждающей ноте автор и завершает своё повествование. И нам становится очевиден глубокий смысл названия повести – «Пока собачки бегут на север…». Пока они бегут, приближая своих хозяев к финишу и желанной победе, владельцы собачьих упряжек претерпевают метаморфозы духа и ощущают в себе некое душевное преображение. Кто-то мужает и обретает веру в себя, хотя пришёл на гонку робким мальчишкой (Кешка Коерков). Кто-то усмиряет жажду успеха и получения дорогих призов, получая взамен счастливую взаимную любовь (Данила Камак). Кто-то жертвует уже завоеванным лидерством, сходя с маршрута, чтобы найти и спасти пропавших в тундре людей (Мишка Насса). И все они искренне радуются тому, что вместе с товарищами проходят этой трудной, испытующей их человеческую морально-нравственную прочность «дорогой любви».
Благодаря этой доброй повести о духовном росте молодых людей книга Александра Смышляева «Навсегда ухожу к медведям» представляет сегодня особенный интерес для школы, для воспитания подростков на примере жизни людей в тяжёлых условиях северной природы. Она щедро одаривает читателя бескорыстной любовью и нежностью к Камчатке, заражая его страстью постижения тайны этой далёкой и несказанно прекрасной земли.
Марина Маслова (Курск)
12 апреля 2025