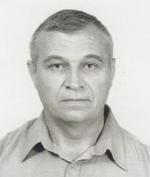В материалах личного архива митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) [1] в фонде Совета по делам религий при Совете Министров СССР Государственного архива Российской Федерации (ф. Р-6991, оп. 7) хранятся письма протоиерея Николая Яковлевича Князева, адресованные архиепископу Ярославскому и Ростовскому Димитрию (Градусову) [2]. Они представляют собой воспоминания старца о первоиерархах и архиереях Русской Православной Церкви, с которыми он был знаком на протяжении своей учебы в Московской Духовной академии, а также - в период длительного церковного служения в Тульской и Самарской епархиях в последней четверти XIX - начале XX столетия.
Воспоминания написаны по просьбе архиепископа Ярославского и Ростовского Димитрия (Градусова) на тетрадных листках четким разборчивым почерком. Они характеризуют предстоятелей и архиереев Русской Православной Церкви - Святейших Патриархов Московских и всея Руси Тихона и Алексия, митрополита Петроградского Питирима (Окнова), митрополита Крутицкого Петра (Полянского), митрополита Ярославского Павла (Борисовского), митрополита Евлогия (Георгиевского), а также графа В. А. Бобринского, вложившего немалый вклад в развитие духовного образования в России конца XIX - начала XX в. Письма-воспоминания уникальны. Они написаны в июле-августе 1947 г. 80-летним старцем, обладавшим, несмотря на почтенный возраст, прекрасной памятью и живым складом ума. Подобных документальных источников сохранилось до наших дней крайне мало.
Сведения о Николае Князеве можно обнаружить в его письмах-воспоминаниях и стихах-исповеди, также сохранившейся в архиве митрополита Григория (Чукова). Кроме того, в Центральном историческом архиве Москвы в фонде Московской Духовной академии хранится личное дело студента МДА Н. Я. Князева [3].
Николай Яковлевич Князев родился 29 июля 1868 г. в семье священника в с. Красное Ярославского уезда Ярославской губернии. В 1884-1888 гг. он учился в Духовном училище в Ярославле, а в 1888 г. поступил в Московскую Духовную академию, курс которой окончил в 1892 г. Его друзьями-сокурсниками были впоследствии выдающиеся архипастыри Русской Православной Церкви - Петр Федорович Полянский [4], Павел Петрович Борисовский [5], Василий Семенович Георгиевский [6]. Со многими из них судьба сводила протоиерея Николая и позже.
После окончания курса Московской Духовной академии Н. Князев некоторое время служил в Грузии в качестве законоучителя в Кутаисском Духовном училище, а затем занимал должности смотрителя Ефремовского Духовного училища, Кинешемского Духовного училища, наблюдателя церковных школ Тульской епархии. Именно тогда Н. Князев познакомился с еще одним действующим лицом своих воспоминаний - графом Владимиром Алексеевичем Бобринским [7]. Здесь же, в Тульской епархии, он встретился впервые с митрополитом Петроградским Питиримом (Окновым) [8]. Некоторое время о. Николай преподавал Священное Писание в Пензенской Духовной семинарии. В 1912 г. состоялась встреча Н. Князева с архиепископом Ярославским и Ростовским, позднее Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Тихоном. Тогда же он был назначен на должность смотрителя духовных училищ Самары. В 1914 г. о. Николай возведен в сан протоиерея.
После Октябрьской революции 1917 г. протоиерей Н. Князев в течение нескольких лет занимал должность преподавателя литературы, а также русского и немецкого языков в школе 2-й ступени в Самаре. В последующие годы перед выходом на покой он провел в деревне Ново-Дашково Некрасовского района Ярославской обл. В письмах-воспоминаниях протоиерей Н. Князев предстает человеком удивительной кротости, душевной щедрости и доброты, обладающим широкой эрудицией, прекрасным знанием русской литературы, Священного Писания.
15 мая 1948 г. архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий (Градусов) переправил письма-воспоминания протоиерея Н. Князева митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову) с просьбой помочь опубликовать ввиду их несомненного интереса и значимости для истории Русской Православной Церкви. Митрополит Григорий с интересом отнесся к творчеству протоиерея. Он прочитал все письма-воспоминания и на каждом документе оставил надпись о дате их получения - 19 мая 1948 г. Он же дал общее заглавие сочинениям - "Воспоминания, статьи и стихотворения протоиерея Николая Яковлевича Князева". Однако митрополиту Григорию издать воспоминания Н. Князева не удалось. После кончины митрополита Григория в 1955 г. при разборе его личного архива была сделана помета: "Можно напечатать их (привести немного в порядок)".
Настоящую публикацию открывают воспоминания протоиерея Н. Князева, состоящие из 7 очерков, в аспектах приводятся его письма, адресованные владыке Димитрию, и стихотворение в прозе, написанное Н. Князевым в мае 1948 г.
Воспоминания. 21 июля - 24 августа 1947 г. [9]
О Святейшем Патриархе Алексии
В течение ряда лет, начиная с 1896-го года, я говел на Страстную седмицу и встречал Святую Пасху в Покровской церкви Московской Духовной академии, в коей получил образование. И вот живо представляются мне, когда я вспоминаю о чтении в оной 12-ти Евангелий в вечер Великого четверга, два молодых иеромонаха, один ниже ростом, другой повыше, оба красивые брюнета и оба с заливными лирическими тенорами. Как сейчас, слышу я густой бас тогдашнего преосвященного ректора академии Арсения [10] (впоследствии архиепископа Новгородского), с широким русским лицом и окладистой русой бородой, когда он возглашал: "Рече Господь своим ученикам: ныне прославися Сын человеческий" (Ин XIII, 32), и захватывающие своею выразительностью нежные голоса упомянутых иеромонахов. Друг против друга стояли они, млеко одной духовной матери сосали тогда, а ныне - один из них - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и другой - глава зарубежных раскольников, б[ывший] председатель Архиерейского синода за границей Анастасий [11]. Воистину сбылись над ними слова Спасителя: "Тогда два будета на сем, един поемлется и другий оставляется. И две мелюще в жертвах: едине поемлется и едине оставляется" (Мф 24, 40-41). Вот когда "открываются помышления многих сердец" по реченному Святым Симеоном Богоприимцем (Лк II, 35), когда одни восстают, а другие падают.
О Блаженнейшем Патриархе Тихоне
В 1912 году, в бытность Святейшего архиепископом Ярославским, я сидел в приемной его комнаты в Спасском монастыре, намереваясь подать ему просьбу о предоставлении меня Свят[ейшему] Синоду на должность смотрителя Ростовского Дух[овного] училища. Были там и другие просители. У всех у нас трепетали сердца при воспоминании о том, как, бывало, во гневе возвышал на нас, просителей, свой голос в Бозе почивший архиепископ Ионафан [12].
Но вот из внутренних архиерейских покоев выходит... большой серый кот, ложится на ковер и, мурлыча, принимает самые беззаботные позы. Отлегло у нас от сердца, ибо невольно думалось, что если даже домашние животные чувствуют себя в покоях владыки спокойно, то, тем более, окружающие его и встречающиеся ему люди должны были чувствовать себя так же. Значит, со всеми ласков владыка, и нам нечего попусту страшиться его. И действительно, владыка, вышедший к нам вслед за упомянутым животным, обошелся со всеми нами кротко, приветливо, просто и добродушно, внимательно и участливо выслушивая просьбы даже и "несчастных левитов", как, бывало, именовал низших клириков Блаженной памяти Тульский преосвященный, ученый епископ Ириней (Орда) [13]. Принял и от меня мое прошение Высокопреосвященный Тихон, обещая оказать свое содействие. Но в непродолжительном времени Господь нечаянно сподобил меня занять место смотрителя Самарского Дух[овного] училища, и вот я получаю от владыки Тихона свое прошение обратно с самым сердечным поздравлением, написанным собственной его десницею,- поздравлением с назначением на искомую мною должность в большом приволжском губернском городе. Вскоре я снова удостоился видеть Высокопреосвященнейшего Тихона и беседовать с ним. Это случилось при обозрении им некоторых сел Ярославского уезда. Между прочим, он посетил и село Нетребово, где у меня был свой дом для дачного пребывания с семьей в летнее время. После обозрения храма владыка проследовал в дом настоятеля оного, а оттуда благоволил посетить и меня. Входя на крыльцо, обсохшие ступени которого заскрипели под его стопами, он с милой улыбкой заметил: "Ах, и смотритель, что же вы не поправите крыльцо своего дома?" Затем, войдя в комнаты и благословляя членов моей семьи, он спросил у подошедшей к нему старшей дочери моей, где она обучается, и услышав, что в гимназии, поморщился и сказал: "Наверное, она набралась там нецерковного духа", а когда о подошедшем затем старшем сыне я сообщил, что он состоит воспитанником духовной семинарии, владыка с удовольствием отметил: "Вот этот - уже наверное церковник". На сей раз Высокопреосвященный гость мой жестоко ошибался: дочь моя, воспитанная матерью в религиозном духе, и в гимназии, и затем на Высших женских курсах, и, наконец, в последующей 25-летней работе в советской школе сохранила свое церковное настроение, а сын-семинарист, увы! усвоил в семинарии дух индифферентности ко всему церковному и за это был наказан Господом Богом. Ушедши из семинарии добровольцем на войну с немцами, он пропал на оной без вести. Больше я с владыкой Тихоном не встречался.
О Высокопреосвященнейшем Петре, митрополите Крутицком
Он был моим товарищем по академии. Имея счастье состоять родственником трех архиереев [14], Петр Феодорович Полянский (мирское наименование Высокопреосвященнейшего Петра) занимал в общежитии студентов особое от нас, одиночное помещение, именовавшееся "столпом". Это был бравый юноша богатырского телосложения, с копной курчавых темно-русых волос на голове, с кротко верующими серыми глазами и с вечной добродушной улыбкой на симпатичном лице. Я близко сошелся с ним, переводя с немецкого (по 30 коп. с листка) пособия для его семестровых сочинений, а также и для кандидатского. Впрочем, П[етр] Ф[еодорови]ч был близок решительно со всеми товарищами. Со своими он был на ты. Обращаясь к любому из них, он неизменно начинал свою тираду словами: "Эй, малый!.." Нужно ли добавлять, как мы все льнули к нему тогда? Затем я не видался с П[етром] Ф[еодорови]чем целых 20 лет. Лишь в 1912 году, будучи членом-ревизором Дух[овно]-учебного комитета при Св[ятейшем] Синоде и образовав, по поручению тогдашнего обер-прокурора оного Синода Вл[адимира] Карл[овича] Саблера [15], духовно-учебные заведения г. Костромы, П[етр] Ф[еодорович] посетил затем Кинешемское Дух[овное] училище, где перед тем я был смотрителем, но, по доносу помощника см[отрите]ля переведен был, с понижением, в Пензенскую Дух[овную] семинарию преподавателем Св[ященного] Писания. П[етр] Ф[еодорови]ч тщательно обревизовал училище, обнаружил мою невиновность, отметил положительные стороны моей там деят[ельно]сти, а затем посетил мою осиротевшую семью, не успевшую еще переехать в Пензу, и утешил ее перспективою лучшего будущего. Здесь, для уяснения дальнейшего положения, необходимо заметить, что, ревизуя Костромское епарх[иальное] ж[енское] училище, П[етр] Ф[еодорович] нашел в постановке учебно-воспитательной части его много недостатков, к великому огорчению епископа Костромского Тихона, благоволившего к начальнице сего училища [и] покровительствовавшего ей. И вот по жалобе владыки, которому Вл[адимир] К[арлович] Саблер поверил больше, чем П[етру] Ф[еодорови]чу, последний попал в немилость к Вл[адимиру] К[арлови]чу, от коей, как он писал мне, страдал глубоко. Но тут я нечаянно помог ему - так же, как мышонок льву, запутавшемуся в сетях (в сказке Жуковского [16]). Ободренный данными, добытыми ревизеею П[етра] Ф[еодорови]ча, я подал в Св[ятейший] Синод прошение о назначении меня см[отрите]лем дух[овного] уч[или]ща в Самаре. Заслушав оное, Вл[адимир] К[арлович] Саблер вспомнил мою усердную службу в Туле, где я в юности состоял Епархиальным наблюдателем церк[овных] школ и сопровождал Вл[адимира] К[арлови]ча, тогда еще Товарища обер-прокурора, при посещении им церк[овно]прих[одских] школ г. Тулы, коим Вл[адимир] К[арлович] остался доволен.
Не забыл он также и моих неоднократных посещений церк[овной] школы в его имении в с[ель]це Тепельках Каширского уезда той же губернии (впоследствии здесь открылась женская ц[ерковно]-учительская школа). И вот Вл[адимир] К[арлович] настоял на моем назначении в Самару и в сердечных выражениях поздравлял меня с таковым собственноручным своим письмом. Вскоре я явился к нему в Петербург благодарить его. Вл[адимир] К[арлови]ч милостиво принял меня и с участием расспрашивал о моей служебной Одиссее. Этим моментом я воспользовался и открыл Вл[адимиру] К[арлови]чу подоплеку жалобы со стороны еп[ископа] Тихона на пристрастную якобы ревизию Костромского еп[архиального] ж[енского] уч[или]ща П[етром] Ф[еодорови]чем. Вл[адимир] К[арлови]ч на сей раз поверил более мне, чем Преосвященному Тихону, и вернул П[етру] Ф[еодорови]чу свое благоволение. Последний не находил слов, достаточных для того, чтобы отблагодарить меня за сие.
До самой революции мы с П[етром] Ф[еодорови]чем часто виделись и дружески переписывались. Революция разлучила нас навсегда. Мир праху твоему, непоколебимый Столп Православной Русской Церкви! Ты не пошел ни на какие соглашения с обновленцами, настойчиво предлагавшиеся тебе, и вожди их, в отместку за это, сватали тебе далекую Сибирь, в снегах коей ты безвестно почил. Верую, что последние слова твои были, как и у того великого Святителя, креста [коего] ты уподобился своей кончиною: "Слава Богу за все!"
О митрополите Евлогии
Василий Семенович Георгиевский (мирское наименование м[итрополи]та Евлогия), был, как и митр[ополит] Петр Крутицкий, также моим товарищем по академии и другом. Я бывал в доме его отца, священника бедного прихода в Каширском уезде Тульской губернии. Невысокого роста, ширококостный, о[тец] Симеон Иванович был веселого нрава и часто смеялся громко и заразительно. Напротив, супруга его, тоже невысокого роста, но дородная, обычно молчала. От отца своего Вас[илий] Семенович унаследовал, таким образом, свою склонность к безобидному юмору, а от своей матери - сдержанность в речах и поступках.
Ничто не предвещало тогда, т. е. во время совместного обучения нашего в академии, что Вас[илий] Сем[енович] пойдет в монахи. Он не выдавался из среды товарищей ни своею показною набожностию, ни отшельническим нравом, ни постничеством, каковые качества отличали студентов, нам сопутствовавших в академии, Ник[олая] Конст[антинови]ча Добронравова (впоследствии епископа Саратовского и Пермского) и Вас[илия] Ив[ановича] Мещерского (впоследствии ректора той же академии, а под конец жизни - главу обновленческого раскола). Одно было примечательно: не чуждаясь никаких невинных развлечений и удовольствий студенческой жизни, ни бесед с товарищами, он во всем знал меру, не упускал ничего лишнего, вел себя при этом всегда как-то бесстрастно. Ничто не обладало им, по Апостолу. Обнаруживал он и юмор, но опять-таки как-то всегда кстати, никого не обижая и лишь побуждая нас улыбнуться. Не был и усердным посетителем профессорских лекций, но не был и праздным: всегда что-нибудь читал, писал или же рылся в библиотеке. Окончили мы с ним академический курс в первой десятке, соседями по разрядному списку, но он - повыше меня.
Затем, состоя помощником смотрителя Ефремовского, Тульской епархии, Дух[овно]го училища, Вас[илий] Сем[енович] и там (как я узнал впоследствии, проходя 10 лет должность смотрителя назв[анного] училища), не обнаруживал черт иноческого стиля, участвовал в товарищеских собраниях наравне со всеми сослуживцами, и я был немало удивлен принятием с его стороны ангельского образа. Но никогда, в последующих нередких письмах к нему, я не позволял себе расспрашивать его о мотивах столь решительного шага. И он, в свою очередь, тоже ничего не писал мне на этот счет, что я считал естественным, зная его сдержанность.
Лишь через 20 лет по окончании академии, а именно в 1912 году, будучи по делам в С[анкт]-Петербурге, я с радостию поспешил на свидание с ним, тогда уже епископом Холмским и членом Государственной Думы. И что же увидел? Черты лица его мало изменились, однако студенческая худощавость заменилась среднею полнотою, но [на] какую-то прозрачную, безжизненную. Характер же его остался неизменным. Вас[илий] Сем[енович] оказался все таким же дружески-простым и искренно благожелательным, но без пафоса и риторики. Узнав, что я остановился в гостинице, а между тем наступил Великий пост, владыка сказал мне: "Переходи, Яковлич (так обычно звали меня в былые времена товарищи-студенты), в мои архиерейские покои и будь у меня как дома". И я переселился к нему и действительно чувствовал себя здесь как дома. Нескончаемые воспоминания о студенческой жизни и интимные повествования о всех перипетиях последующих 20-ти лет занимали все наши досуги. Стол владыки Евлогия был скромный, великопостный: горячее с грибами, котлета картофельная или рисовая и клюквенный кисель с миндальным молоком - вот было его (и мое) меню. Через неделю мы расстались и уже более не видались, хотя дружеская переписка между нами не прекращалась до самой революции. С 1918-го года, после его отъезда за границу, я имел уже очень сбивчивые и недостоверные сведения о нем. На склоне дней своих я получил духовное утешение прочесть в нашем патриаршем журнале о его присоединении к Московской Патриархии, после чего искал случая возобновить с ним сношения, но не успел в этом. Кончина постигла его прежде, нежели мое письмо дошло до него. Но молитвенного моего общения с ним ничто не прервет - ни широта, ни глубина.
P. S. Священник соседнего с моим прихода недавно рассказал мне эпизод из своей пастырской практики прежних лет, ярко характеризующий владыку Евлогия. Дело происходило близ г. Владимира-Волынского в предреволюционное время. Прихожане церкви, в коей священствовал вышеупомянутый иерей, отказались без достаточных оснований выплачивать ему договоренное жалование. Сей иерей отправился жаловаться на прихожан архиеп[ископу] Евлогию, управлявшему тогда Волынскою епархией, и владыка рек ему: "А ты не служи". Так и сделал оный иерей. Прихожане в свою очередь поехали жаловаться владыке на "своеволие" своего пастыря. "А вы почему не исполняете своих договорных условий со священником?",- ответил он. Жалобщики смирились, возобновили прерванную плату, и богослужение у них восстановилось.
О Павле, митрополите Ярославском
Им заканчиваю я наш академический квартет (5-м членом нашего интимного академического кружка был еще некто Ив[ан] Мих[айлович] Воронцовский, выдающийся педагогический талант которого доставил ему впоследствии высокий пост попечителя Оренбургского учебного округа, но я пишу здесь только о наших православных иерархах и вынужден о нем умолчать).
Павел Петрович Борисовский (мирское звание м[итрополита] Павла), в противоположность всем вышеописанным иерархам, был человек замкнутый и сосредоточенный в себе, молчаливый. Я никогда не видел улыбки на лице его. Всегда он был углублен в размышления, в дело, неопустительно посещал лекции профессоров и окончил курс академии 4-м студентом-магистром. Ни с кем, кроме нас троих (П[етра] Полянского, Вас[илия] Сем[еновича] Георгиевского и меня), он не сходился и не был откровенен, и нам он не показывал всего себя. В "святые святых" его души никто не входил. Он как бы предчувствовал трагический конец своей земной жизни и заранее готовился к оному, хотя попутно и узнал радости семейной жизни, правда не-продолжительное время. Вспоминается мне такой комический эпизод из нашей академической жизни. Мы праздновали день ангела нашего любимого о[тца] ректора архим[андрита] Антония (Храповицкого) [17]. Соответствующую сему случаю речь мы поручили произнести Павлу Петровичу, как превосходившему всех нас своею дидактичностью. И он долго трудился над ее составлением и все ходил по занятной комнате и затверживал ее. Мы думали: то-то разразится и покажет себя. Вот кончилось богослужение в академической церкви, и мы собрались для чествования о[тца] ректора в покоях его. В сей самый торжественный момент Павел Петрович выступает из среды нас, приближается к о[тцу] ректору и произносит: "Ваше Высокопреподобие, высокочтимый и любимый наш о[тец] ректор!.." Мы с нетерпением ждем, что он изречет далее. Но... секунда, другая, третья - молчание! П[авел] П[етрович] то краснеет, то бледнеет, но не издает ни звука. Что-то заслонило в его памяти затверженную и, должно быть, перетверженную им речь. Наступает тягостное безмолвие. Но тут о[тец] ректор, блестя своими голубыми глазами, подходит к нему, обнимает и говорит: "Ничего, ничего, П[авел] П[етрович], не смущайтесь! Я ведь заранее знал, что Вы хотели сказать... Пожалуйте, господа, за уготованную вам трапезу",- обратился он к нам ко всем, и, т[аким] о[бразом], инцидент был благополучно исчерпан.
В последующее время П[авел] П[етрович] ни со мной и ни с кем из нашего квинтета не переписывался. Я имел утешение видеть его уже митрополитом Ярославским и Ростовским незадолго до печального финала его иерархического подвига. Владыка митрополит изрядно пополнел и украсился длинною и широкою бородою, как-то не шедшею к его невысокому росту. Он, как видится, был искренно рад мне. Мы вспомнили близких нам по духу товарищей, поведали друг другу каждый свое curriculum vital [18], но я долго не задерживал его, а он, в свою очередь, тоже не удерживал меня, и мы расстались... навсегда.
Верую, что Господь украсит Своего верного раба в Небесном Царствии мученическим венцом.
О митрополите Петроградском Питириме [19]
Обе зари моей служебной жизни - и утренняя, и вечерняя - трогательно слились с таковыми же на иерархическом поприще названного первосвятителя: утренняя - в г. Туле, вечерняя - в г. Самаре. Свет и тени причудливо перемешались в этой своеобразной личности. Свет - это излучение его богато одаренной души, а тени - это отражение вековых традиций архиерейского быта. На хребте нашего дореволюционного православного архиерея работали все начальники страстей: и келейник, и духовник, и личный секретарь, и секретарь Консистории, и обер-прокурор Св[ятейшего] Синода с его товарищем. Нижеследующая биография владыки Питирима воочию убедит в этом каждого.
I
1896 год. Зима. На смену ученому Иринею (Орде), суровому в обращении, но с любвеобильным сердцем, на тульскую епископскую кафедру восшел преп[одобный] Питирим (Окнов), епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии, обративший на себя внимание товарища обер-прокурора Св[ятейшего] Синода Вл[адимира] К[арловича] Саблера своею вдохновенною речью, которую епископ произнес на торжестве открытия мощей святителя Феодосия Черниговского [20].
Только что вышедший из юношеского возраста, красивый, темноволосый, с длинными черными ресницами над карими очами, с молочного цвета лицом, с мелкими жемчужными зубами, блестевшими из-под тонко очерченных губ небольшого рта, с тонким классически-правильным носом, мягкий и деликатнейший в обращении со всеми, даже с низшими членами клира, Преосв[ященный] Питирим произвел в первое время чарующее впечатление на тульскую паству. Каждому просителю, с трепетом приступавшему к нему (так было при еп[ископе] Иринее) он неизменно говорил: "садитесь", каждого внимательно выслушивал и, отпуская, обнадеживал. Но... от слов до дела оказывалась "дистанция огромного размера".
Нужно заметить, что Преосв[ященный] Питирим привез с собою из Чернигова целый штат свиты: келейника, духовника, личного секретаря и хор певчих. У последних были чудесные голоса; украинский лиризм их пения далеко оставлял за собою великорусское эпическое громогласие. Молящиеся были в восторге. Но беда была в том, что вся упомянутая свита владыки Питирима тесным кольцом окружала его как в личной его жизни, так и в его служебной деятельности. Она оказалась средствием, разобщавшим владыку с пастырями и пасомыми его новой паствы. Через лиц этой свиты преосв[ященный] Питирим изливал свои милости к одним, смягчал свой гнев на других. Этим обстоятельством не замедлили воспользоваться более дальновидные из коренных тульских пастырей и пасомых, [которые] заводили близкое знакомство с приближенными ко владыке лицами, и мы постепенно убеждались в том, что строгое беспристрастие в резолюциях владыки, преломляясь сквозь призму влияний на него тех или других приближенных лиц, давало иногда значительные отклонения от "прямой". Так мы стали более и более разочаровываться в своем архипастыре.
Здесь следует упомянуть особо об одном из таковых временщиков владыки Питирима. Это был некий о[тец] Амвросий Вретте (мы же звали его "Амвросий Вредный"), темный выходец из Македонии, человек нетрезвого поведения. Он на некоторое время совершенно завладел Преосвящ[енным] Питиримом, бесцеремонно водил его десницею при наложении резолюций и наделал немало бед отдельным лицам. Самым произношением своим слова "Владыка" [он] как бы позор[ил] его, ибо "в" выговаривал как "б", слог "ла" как "ля", а слог "ды" как "ди". Получалось слово прямо нецензурное. А как македонянин, иначе произнести оное слово он не мог. К счастию, он также внезапно исчез с горизонта нашей епархии, как и появился в оной.
И тем не менее владыка немало добра сделал за время своего 10-летнего управления Тульскою епархиею. Он построил несколько прекрасных храмов в оной, умея расположить к тому жертвователей. Например, при Тульском епарх[иальном] свечном заводе, при Дух[овном] училище г. Ефремова, а посещая церкви при объездах епархии, обращал свое внимание на содержание кладбищ, не тяготясь пройти вдоль и поперек каждое из них. Он заботился об умножении церковноприходских школ и школ грамоты, умножил их действительно и поставил на подобающую высоту, обладая даром привлекать к себе лиц, кои могли быть полезны делу. Неопустительно посещая церковные школы при своих частых поездках по епархии, он любовно беседовал с учащими и учащимися, вникая в нужды школ, и давал мне, сопровождавшему его по должности Епарх[иально]го набл[юдате]ля ц[ерковных] школ, соответствующие наказы. В летнее время он устраивал в Туле курсы для учителей и учит[ельни]ц ц[ерковных] школ.
Далее он устроил у себя, на архиерейском дворе, церковно-певческую школу - рассадник псаломщиков - бывал в ней ежедневно и заботился о каждой мелочи в ее быте. Наконец, и я считаю это самой главной заслугой преосв[ященного] Питирима, он устроил в г. Белеве 2-е епархиальное женское училище. Много энергии потратил он на борьбу с духовенством в этом предприятии своем. Духовенство ради своих личных удобств тянуло устроить 2-е епарх[иальное] ж[енское] училище в Туле, где у многих учились сыновья в Дух[овной] семинарии и куда всем было необходимо часто ездить по своим служебным или личным делам. Но преосв[ященный] Питирим проявил в этом случае необыкновенную моральную чуткость. Он знал, как дурно влиять может на юную, отроческую и девическую душу улица большого промышленного города, неизбежно врываясь и за стены училища. Он видел отвратительные сцены пьяного разгула заводских рабочих и кустарей-слесарей Заречной (т[ак] н[азываемой] Чулковой) слободы Тулы [21], так живо описанной Г. Успенским в его "Нравах Растеряевой улицы". На эти сцены смотрели из окон Тульского епарх[иального] ж[енского] училища юные питомицы. Они даже слышали ругательства чулковских обитателей, так как названная слобода расположена была как раз насупротив училища, об-он-пол [так в тексте.- О. К.] реки Упы. И владыка настоял на своем и открыл 2-е еп[архиальное] ж[енское] училище в г. Белеве, древнем городе со многими церквами, тихом и патриархальном.
Преосвященному возражали, что он не найдет достойных кандидатов и кандидаток для замещения должностей начальницы, инспектора классов, преподавателей наук и воспитательниц училища, но владыка блистательно опровергнул это возражение, ибо нашел для Белевского ж[енского] училища прекрасную, душой и телом преданную делу начальницу и выдающегося по своему педагогическому такту педагога-инспектора классов... И. М. Воронцовского, и хороших преподавателей наук, и, наконец, неплохих воспитательниц. (Все это я знаю потому, что моя дочь воспитывалась в первых классах сего училища и в нем получила добрую закваску на всю последующую жизнь.) Пятнадцать лет процветало в Белеве это училище, до самой революции, выпуская ежегодно из своих стен правоспособных учительниц для церковно-приходских школ и добрых матерей и жен для семейств духовенства.
В храмах служил преосв[ященный] Питирим вдохновенно, со слезами умиления причащался Св[ятых] тайн и производил на молящихся глубокое впечатление своими проповедями. Св[ятейший] Синод оценил труды и заслуги преосв[ященного] Питирима и переместил его на Курскую, более видную епископскую кафедру. Здесь мы на время расстались, но я, посещая изредка его в Курске, видел, что он доволен своим положением, и не знаю, что послужило потом причиною его опалы, когда он переведен был в викарии Владикавказской епархии, во епископа Моздокского. Вероятно, его подвели его приближенные, злоупотребляя своим влиянием на его деятельность. Я никогда впоследствии его об этом не расспрашивал, опасаясь разбередить его сердечную рану. Что переиспытал владыка в своем изгнании, одному Богу известно, но когда он своими страданиями искупил вольные и невольные вины свои, Господь вновь взыскал его и поставил на свещнице, еще более высоком.
Летом 1913 года лечился минеральными водами на Северном Кавказе высокопреосвященный митрополит С[анкт]-Петербургский Антоний (Вадковский) [22]. Увидев владыку Питирима и побеседовав с ним, первосвятитель пленился им и представил его также лечившейся на Кавказе великой княгине Елизавете Феодоровне [23], своей почитательнице. На последнюю преосв[ященный] Питирим произвел приятное впечатление, и началось стремительное восхождение опального владыки по ступеням иерархической лестницы.
II
1914 год. Зима. Самарский кафедральный собор (уменьшенная копия храма Христа Спасителя в Москве, увы, разделившая печальную участь своего оригинала), несмотря на ночное время, полон народа. И вот всеобщее волнение. Духовенство в облачениях спешит в притвор. Несколько минут томительного ожидания, и в притвор при торжественном пении хора на кафедру восходит... б[ывший] епископ Моздокский Питирим. Но, Боже мой, какая перемена с ним! В Туле в 1896 году такой прямой, стройный, гибкий, ныне он уже заметно согнулся, плечи чуть-чуть выдались вперед, ланиты и лоб приняли желтоватый, пергаментный оттенок, волосы на голове поредели и укоротились... Видимо, нелегко далась преосв[ященному] Питириму ссылка на Кавказ. Но глаза его все те же, горят юношеским блеском, и все то же милое, очаровательное выражение лица. Вот он открыл уста свои, и раздалась все такая же звучная, как и в Туле, бывало, выразительная, вдохновенная речь. И вновь, как и там, преосв[ященный] Питирим сделался вскоре кумиром города. Чем далее служил он, тем богаче пленял свою новую паству, и мы, сослужившие ему в кафедральном соборе, вместе с ним плакали от умиления при чтении им евхаристических молитв и за причащением. Собор неизменно был полон за его служением.
Но "недолги были радости", скажем мы словами поэта Некрасова (из стихотв[орения] "Орина, мать солдатская"). Летом стало известно, что владыку переводят Экзархом Грузии. Не желая являться туда безоружным, будущий Экзарх брал покамест у меня уроки грузинского языка (ибо по окончании академии несколько лет [я] служил в Грузии и ознакомился с господствующим ей наречием) и не расставался с грузинскою грамматикою, которую я ему дал и которую он взял с собой на место нового назначения.
И вот его последнее у нас богослужение. Собор переполнен. В последний раз звучит в Самаре его вдохновенное слово. Слушатели и слушательницы впились в него глазами, как бы желая на всю жизнь запечатлеть в своей душе его образ. Кончилась служба. Пред выходом к народу владыка плакшился на вые моей (и в тот же день телеграммой исходатайствовал мне у Св[ятейшего] Синода сан протоиерея.) Наконец, он показался на кафедре, и Боже мой! что было, когда, благословив всех богомольцев, преосв[ященный] Питирим подошел к выходу. Поднялся общий вопль. Падая к ногам владыки, ловили и целовали края его мантии. И все больше была молодежь. Наконец-то отпустили его сесть в карету. Прошло после того несколько часов. Но вот уже и поезд, увозящий нашего любимого владыку. Прекрасный летний день. Вокзал и дебаркадер полны провожающими. Вот владыка в вагоне и из окна благословляет народ. Общее пение церковных песнопений. Наконец поезд медленно трогается. Пение продолжается, и мы бежим параллельно движению поезда, долгое время споря с его увеличивающейся быстротою. Но поезд скрывается за закруглением, и мы печально расходимся по домам. Пусто и одиноко на душе.
Дальнейшее известно. В непродолжительном времени архиепископ Карталинский и Кахетинский Экзарх Грузии Питирим назначается митрополитом Петроградским и вскоре становится любимцем царя и царицы [24]. Я жду исполнения данного мне владыкою обещания взять меня к себе в Петроград. Но грянули громы революции, и митрополит Питирим оказался за несколько тысяч верст от своей резиденции, в заоблачных высотах Кавказа, в одном из нагорных монастырей его. Там и угасла жизнь его, полная превратностей. Кажется, еще ни один из митрополитов Русской Православной Церкви не оканчивал так высоко своего земного поприща. Мир праху его! Да простит Господь вольные и невольные согрешения его, дань ушедшим ныне в область истории дореволюционным традициям, ради содеянного им добра, ради переполнявшей его сердце любви ко всем, где бы он ни находился, да соделает его участником Своего Небесного Царствия! [25]
О почетном попечителе церковных школ Тульской епархии графе Владимире Алексеевиче Бобринском
Мой сверстник по летам граф Владимир Алексеевич Бобринский, потомок Екатерины II и ее первого (по времени) фаворита Алексея Орлова, проживал в то время, когда я состоял тульским Епархиальным наблюдателем церковных школ в Богородицком уезде Тульской губернии, во дворце, построенном названной императрицею. С первых же дней моего знакомства с ним как с почетным попечителем церковных школ меня удивил богатый запас в нем богословских познаний и в особенности основательные знания церковной истории. Не менее поразительным явилось для меня и его отношение к духовенству: он часто посещал оное в тех приходах, где были церковные школы, интересовался не только состоянием школы, но вникал и в личный быт духовенства, [отцов] заведующих и законоучителей церковных школ, охотно беседовал с ними и запросто пребывал в их домах. Наконец, что особенно было примечательно, он выказывал глубокую любовь к церковной школе и в качестве председателя Земской управы всячески материально содействовал оной, располагая своим авторитетом земские собрания к ассигнованиям на сии школы. В частности, свой родной Богородицкий уезд гр[аф] Вл[адимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский покрыл густою сетью женских воскресных школ [точнее Воскресно-Пятницких, ибо занятия в них производились не только по воскресеньям, но и по пятницам.- Авт.], каковые учреждал и содержал на свои личные средства [На одной из воспитанниц этих школ, бедной крестьянской девушке, носившей домотканую "паневу" из овечьей шерсти, гр[аф] В[ладимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский впоследствии и женился. В 1912 году я ее видел в Петербурге уже графиней, матерью целого выводка детей, таких же красивых и румяных, как она. Ее руку целовали тогда титулованные сановники. Держала она себя с замечательным тактом. Она воспринимала от купели моего младшего сына.- Авт.].
Вообще гр[аф] В[ладимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский очень любил церковные школы и был убежден, что они воспитывают народ в духе св[ятой] православной веры и в доброй христианской нравственности. Он считал их тем Архимедовым рычагом, посредством которого Православную Русскую Церковь, в отношении ея влияния на государство и общество, можно повернуть к временам царя Алексея Михайловича. Нужно ли добавлять, что на почве этих убеждений и вытекающего отсюда ревностного служения церковной школе гр[аф] В[ладимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский тесно сблизился со мною. Мы целыми неделями и даже месяцами ездили вместе по епархии, посещая церковные школы, инспектируя учащих и вникая во все школьные нужды, а вместе с тем благотворно влияя и на [отцов] заведующих и законоучителей сих школ. Вскоре я по расстроениям этими поездками, от природы слабый здоровьем, вынужден был отказаться от должности Епархиального наблюдателя, но я знаю, что и при моих преемниках граф продолжал свою благотворную для церковных школ деятельность.
Впоследствии он был избран членом Государственной Думы, примкнул к партии октябристов и был если не вождем, то одним из самых влиятельных членов. Это явствует из того, что он был избран Председателем думской комиссии по церковным делам, т.е. по рассмотрению и удовлетворению материальных нужд Церкви средствами Государственного казначейства. Сколько добра сделал здесь гр[аф] В[ладимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский для Церкви и духовенства, какие щедрые ассигнования провел он в Комиссии, а затем и в Думе на нужды Церкви, ее школ, духовно-учебных заведений и духовенства,- это тогда всем было известно, и от того его имя с уважением произносилось не только обер-прокурором Св[ятейшего] Синода Вл[адимиром] К[арловичем] Саблером, но и всеми преданными Церкви и, в первую очередь, служителями ея.
С наступлением Октябрьской революции гр[аф] Бобринский удалился за границу, и нынешнее наше духовенство, возможно, уже не знает о его великих заслугах Церкви за означенный период времени. Мой долг - довести об этом до сведения современников. Жив ли ныне гр[аф] В[ладимир] А[лексеевич] Б[обрин]ский, где проживает и на каком поприще подвизается, где и как живет его семья, мне не известно.
Эпилог (Pro domo sua)
Считаю не лишним в заключении добавить, что моя близость к гр[афу] Вл[адимиру] Ал[ексеевичу] Бобринскому внесла мое скромное имя в послереволюционную летопись, хотя и в неверном освещении. Дело в том, что в 1905 году, в период волнений крестьян и захвата ими помещичьих усадеб, в один прекрасный осенний вечер, когда я был во дворце графа, последнему дали знать о поджоге крестьянами одного из его 11-ти хуторов [26]. Тотчас же прибыв на место происшествия, мы увидели горящий стог пшеницы, большую толпу шумевших около него крестьян и станового пристава. Мы приблизились к этому стогу, и я обратился к крестьянам со словами упрека за безрассудное уничтожение хлебных запасов, нужных одинаково для всех граждан, без различия сословий. Тогда один из слушателей, в свою очередь осуждая меня за выступление в пользу "бар", схватил меня и ввергнул в горящий стог. Однако становой пристав в тот же момент извлек меня оттуда целым и невредимым. Этот факт сделался достоянием печати. И вот Михаил Ив[анович] Калинин в своей летописи предреволюционных событий из крестьянской жизни поместил оный в доказательство общности классовых интересов помещиков и духовенства. На сей раз Мих[аил] Ив[анович] ошибался, ибо не общие классовые интересы сблизили меня с гр[афом] В[ладимиром] А[лексеевичем] Б[обрин]ским, а общая любовь к церковной школе, общая вера в ее благотворное значение для народа, вытекающее отсюда общее служение ей. Но и не эта собственно близость к графу вызвала мое обращение к крестьянам, а лишь естественное нравственное чувство, возмущенное проявлением варварства.
Что я не был принципиальным сторонником дворян-помещиков и врагом трудового народа, это видно из следующего факта, имевшего место 13 лет спустя после описанного события. 8 июня 1918 г., когда г. Самару заняли с боями белые (чехословаки), коих торжественно встречала вся самарская буржуазия, разряженная в пух и прах, как избавителей от чужеземного ига, в присутствии некоторых из духовенства в блестящих ризах, в преднесении хоругвей, крестов и св[ятых] икон, при оглушительном звоне городских церквей [Был чудесный летний день. Солнце сияло.- Авт.]. Когда озверелые толпы белых во главе с офицерами преследовали по пятам защитников красной Самары и тут же на месте расстреливали их, в это время квартировавшие в здании Духовного училища (в коем я был тогда смотрителем) матросы 2-й воздушной бригады Балтийского Флота, главные бойцы с белыми, бросились ко мне в квартиру, умоляя спасти их от настигавших их белых. И я тайными переходами тотчас же провел их на хоры училищной церкви, где было тогда сложено имущество ученического общежития, затворил в одежных шкафах с помощью подоспевшей училищной прислуги разным скарбом общежития. Во-рвавшиеся вслед за тем в церковь белые во главе с офицером [Счастье наше, что они сначала бросились осматривать наши спальни.- Авт.] тщетно заглядывали под престол и жертвенник, всходили и на хоры и, не найдя беглецов, удалились и побежали за ними дальше. В шкафах мною были спрятаны председатель [Аникиев Вас. Прокофьевич, кандидат партии ВКП(б), впоследствии врач в г. Угличе, ныне уже умерший (но жена его здравствует).- Авт.] и 10 человек - членов бригадного комитета. В течение трех суток я носил заключенным пищу и питие, а затем, когда террор прекратился, они все благополучно растаяли в пространстве.
Ровно через 4 месяца после описанного происшествия (8 октября 1918 г.) красные взяли обратно Самару без боя (ибо белые отступили). Мои матросы, вернувшись в училище, провели меня в губ[ернский] отдел нар[одного] образования с требованием допустить меня к продолжению педагогической работы в советской школе в существ[ующем] сане. Отдел сообщил обо всем вышеизложенном в центр. Москва дала разрешение на мое преподавание в Единой трудовой школе без сложения духовного сана. Отдел предложил мне место преподавателя литературы и языков - русского и немецкого - в одной из школ 2-й ступени г. Самары. И вот я с тех пор невозбранно работал, иногда даже совместно, а большею частию попеременно, на обоих, казавшихся непримиримыми, фронтах: и служителя Церкви, и преподавателя советской школы. Лишь потеря мною охранной грамоты, данной мне на таковое совмещение, вместе с прочими моими документами лишила меня привилегии быть работником советской школы с сохранением духовного сана, и я оставил школу.
После всего сказанного можно ли видеть общность классовых интересов помещиков и духовенства в вышеописанном деянии моем, имевшем место в 1905 году?
Протоиерей Н. Князев.
С. Ново-Дашково, Некрасовского района, Ярославской обл., п/о Красный Профинтерн
Примечания:
[1] Димитрий (Градусов), архиепископ. 24 января 1943 г. хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии. С 24 августа 1943 г.- епископ Ульяновский, с 1944 г.- епископ Рязанский и Шацкий, с 1945 г.- в сане архиепископа; с 13 января 1947 г.- архиепископ Ярославский и Ростовский. С 31 июля 1954 г.- на покое. 4 апреля 1956 г. принял схиму с именем Лазарь. Скончался 10 апреля 1956 г.
[2] Григорий (Чуков Николай Кириллович) (1870-1955), митрополит. С 1945 г.- митрополит Ленинградский и Новгородский.
[3] См.: Центральный исторический архив Москвы, ф. 829, оп. 4, д. 1728.
[4] Священномученик Петр (Полянский) (28 июня 1862 - 10 октября 1937), митрополит. В сентябре 1920 г. хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской епархии. С 1923 г.- архиепископ Крутицкий. В 1924 г. возведен в сан митрополита, член Священного Синода. По завещательному распоряжению Святейшего Патриарха Тихона от 7 января 1925 г. назначен 3-м кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего Престола. 12 апреля 1925 г. Собором 45 епископов утвержден в должности Местоблюстителя Патриаршего Престола. С декабря 1925 г.- в заключении. В 1997 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви причислен к лику святых.
[5] Павел (Борисовский Павел Петрович) (29 октября 1867 - 6 октября 1938), митрополит. В 1916 г. хиротонисан во епископа. С 1921 г.- епископ Вятский и Слободской. В 1922-1927 гг.- в заключении и ссылке. В 1924 г. возведен в сан архиепископа. В мае 1924 г.- член Священного Синода. С 1927 г.- член Временного Патриаршего Священного Синода. С 1929 г.- архиепископ Ярославский и Ростовский, возведен в сан митрополита. 6 октября 1938 г. расстрелян.
[6] Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (10 апреля 1868 - 8 августа 1946), митрополит. 12 января 1903 г. хиротонисан во епископа Люблинского, викария Холмской епархии. Депутат II и III Государственной Думы. С 1914 г.- архиепископ Волынский и Житомирский. Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. В 1918 г. арестован по распоряжению правительства С. В. Петлюры. До лета 1919 г. находился в заключении на территории Польши. С 1920 г. в эмиграции. С 1921 г.- управляющий русскими приходами в Западной Европе, участник Русского всезаграничного церковного Собора 1921 г. в Сремски-Карловцах. С 1922 г.- митрополит. С осени 1922 г. жил во Франции. Принимал участие в создании Русского православного Богословского института. Возглавлял Комитет по строительству церкви Успения Божией Матери в Сен-Женевьев-де-Буа. В 1931 г. перешел под юрисдикцию Константинопольского Патриарха. После начала Великой Отечест-венной войны 1941-1945 гг. выступал с патриотических позиций. В 1945 г. ходатайствовал о переходе под юрисдикцию Московской Патриархии и был на-значен патриаршим Экзархом Русской Православной Церкви в Западной Европе. В 1945 г. получил советское гражданство. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже.
[7] Бобринский Владимир Алексеевич (1868 - после 1931), граф, политический деятель, крупный тульский землевладелец. В 1895-1898 гг.- председатель Богородицкой земской управы, считался либералом. В 1907 г. избран в Тульской губернии во II Государственную думу, где принадлежал к одной из фракций Союза 17 октября и "умеренным". В том же 1903 г. избран в III Государственную Думу, где сначала был одним из видных деятелей партии умеренно-правых. Энергично поддерживал политику П. А. Столыпина. Один из признанных лидеров так называемого Неославянского движения, в котором принимали участие В. А. Маклаков, П. Н. Милюков и др. Весной 1909 г. Бобринский вышел из фракции умеренно-правых, разойдясь с ней по национальному вопросу. После Октябрьского переворота 1917 г. эмигрировал в Константинополь.
[8] Питирим (Окнов) (1858 - 25 марта 1919), митрополит. С 1894 г.- епископ Новгород-Северский, с 1896 г.- епископ Тульский, с 1904 г.- епископ Курский, с 1909 г.- архиепископ Самарский, с 1914 г.- архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии, член Синода. С 1915 г.- митрополит Петроградский и Ладожский. С 6 марта 1917 г. на покое.
[9] ГА РФ, ф. Р-6991, оп. 7, д. 143, л. 111-111 об., 114, 116-117 об., 112-112 об., 114-115 об., 105-106, 109-110 об., 106-108, 94-95, 98-104 об., 87-92. Подлинник. Рукопись.
[10] Имеется в виду священномученик Арсений (Стадницкий Авксентий Геор-гиевич) (22 января 1862 - 10 февраля 1936), митрополит. Занимал пост рек-тора Московской Духовной академии в 1898-1903 гг. С 1910 г.- архиепископ Новгородский и Старорусский.
[11] Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич) (6 августа 1873 - 22 мая 1965), митрополит. В 1919 г. эмигрировал в Константинополь. Член Всезаграничного Карловацкого церковного Собора 1921 г., товарищ председателя Собора. В 1938-1964 гг.- глава Русской Православной Церкви за границей.
[12] Комментарий о Ионафане.
[13] Ириней (Орда) (Харисим Михайлович Орда) (1837-1904) - епископ Екатеринбургский, затем Орловский и Севский.
[14] О трех архиереях.
[15] Саблер Владимир Карлович (1847-1929), российский государственный деятель, юрист, статс-секретарь, сенатор, камердинер, член Государственного совета с 1883 г., управляющий канцелярией Святейшего Синода - 1883-1892 гг., с 1887 г.- личный секретарь великой княгини Екатерины Михайловны, в 1892-1905 гг.- Товарищ обер-прокурора Святейшего Синода; в 1911-1915 гг.- обер-прокурор Святейшего Синода. В 1925 г. был арестован, в 1926-1929 гг. находился в ссылке в Твери.
[16] Имеется в виду сказка В. А. Жуковского "Война мышей и лягушек" (1831 г.) (см.: Жуковский В. А. Сочинения. М., 1954. С. 204-209).
[17] Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (17 марта 1863 - 10 августа 1936), митрополит, в 1906-1907 гг.- член Государственного совета, в 1912-1917 гг.- член Святейшего Синода. Занимал пост ректора Московской Духовной академии с 1891 г.
[18] Жизнеописание, краткая биография (пер. с лат. яз.).
[19] Помета к данному разделу: "Назидательные для теперешних", неустановленного лица.
[20] Открытие мощей свт. Феодосия Черниговского состоялось 9 сентября 1896 г.
[21] В Чулковской слободе в Заречье г. Тулы с конца XVI в. селились ремесленники и работный люд, связанный с патронным, самоварным, гармонным, частично и оружейным и другими видами кустарного, а позднее - фабричного производства (см.: Край наш Тульский. Путеводитель. Тула, 2002. С. 31).
[22] Антоний (Вадковский Александр Васильевич) (3 августа 1846 - 2 ноября 1912), митрополит. 3 мая 1887 г. хиротонисан во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии. С 1892 г.- архиепископ Финляндский, с 1898 г.- митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. С 1900 г.- первенствующий член Святейшего Синода.
[23] Елизавета Феодоровна (1864-1918), великая княгиня, урожденная принцесса Гессенская и Рейнская, супруга (вдова) великого князя Сергея Александровича, сестра императрицы Александры Феодоровны. Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве. В апреле 1918 г. по распоряжению ВЧК арестована, выслана в Пермь, затем - в Екатеринбург. Убита 18 июля 1918 г. под Алапаевском. В апреле 1992 г. причислена Русской Православной Церковью к лику святых преподобномучениц.
[24] Имеются в виду последний российский император Николай II и его жена императрица Александра Феодоровна.
[25] Помета неустановленного лица: "Летом 1917 г. митрополитом Петроградским был уже Платон, а затем Вениамин".
[26] В действительности описываемые в воспоминаниях Н. Князева события происходили в апреле 1905 г. в дер. Жданки Богородицкого уезда Тульской губернии. См. Отношение N 161 тульского губернатора В. Шлиппе министру внутренних дел А. Г. Булыгину о волнениях среди крестьян в дер. Жданки Богородицкого уезда на хуторах графов Бобринских от 22 апреля 1905 г. (см.: Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. Ч. 1. Революционное движение в России весной и летом 1905 года. М., 1957. С. 609-611). В упомянутом документе прямо говорится: "Толпа крестьян снова стала неистовствовать: глумилась над приставом, заставляя его с вилами лезть на стог, угрожала ему оторвать голову, ругала графа, угрожая расправиться с ним. Находившийся здесь священник г. Ефремова Князев пробовал уговаривать крестьян образумиться, но они стали глумиться и над ним..." (с. 610). Этот факт был использован М. И. Калининым при составлении летописи крестьянского революционного движения (см.: 1905 г. Аграрное движение в 1905-1907 гг. Т. 1. место издания С. 126-128).
О. Н. Копылова,кандидат исторических наук
http://www.sedmitza.ru/index.html?sid=77&did=38873&p_comment=belief&call_action=print1(sedmiza)