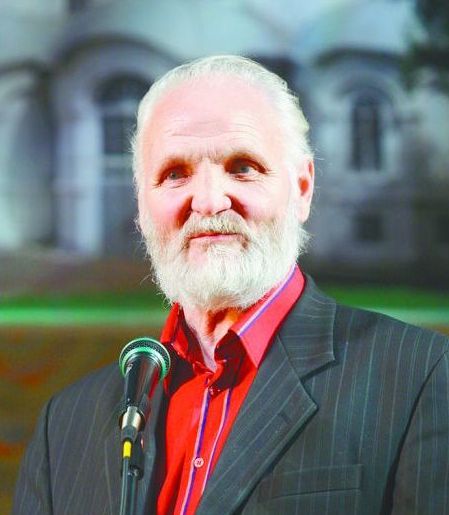
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Девяностые. Павелецкий вокзал. Уличная пивная. Подошел, молодой мужчина в телогрейке. Озирается:
- Тут можно постоять?
- А почему нельзя?
- Кто знает. Боюсь. Я, между нами говоря, неделю только, как со срока. Оттянул три года. Три года за ведро яблок. - Оглянулся пугливо, достал четвертинку: - Будете? Нет? Не самопальная. – Отпил, глубоко вздохнул и закурил. – Хоть отдохну.
- Как же так, за ведро яблок?
- Как? Да так. Я сам с Липецкой области. Как пошел этот бардак, как стали коммунисты задницу доллару лизать, всё захирело, сады побросали, дичают. Мы с парнями прошли по полосе, собрали паданцев, вынесли на дорогу, хоть на бутылку продадим. Тут «бобик» милицейский, зондер-команда.
- Откуда яблоки?
Мы по дурости честно:
- С полосы.
- Залезай, садись.
И опять, дураки, сели. И чего сели? Привезли. «Ну, всех оформлять не будем, бери кто-нибудь на себя. Я и высунулся: «Пишите на меня». Записали, отпустили. Через месяц повестка: суд. Ни хрена себе, заявочка. Это ж паданцы, яблоки-то, полоса ничейная. Там и адвокат. «Что ж мне шьют-то?» Он, будто и никто, пришел посидеть, морда утюгом, в зубах ковыряется. «Принеси справку, что яблоки ничьи». А кто мне такую справку даст? Уже ни сельсовета, ни колхоза. Так и заткнули на три года. Будто опять в армии отслужил. Только кормёжка хуже. Сечка и картошка. У кого родственники, легче. Передачу притаранят, охранники сумки перетрясут, что получше – себе, но что-то же и оставят. Еще кому-то нужным сунут, тому-другому, отряднику, конечно, и живут. А туберкулёз там гуляет! Я на вас кашлять не буду. – Он опять немного отпил. – Выпустили, а куда идти? Кантуюсь тут. Прошу денег, но на билет же все равно не собрать, хоть на пузырёк нацыганю, и то. Да и к кому я туда приеду? Родители умерли, дом заняли чужие, меня выписали. Иди, докажи. А что зэк докажет? Мне сейчас главное - к ночи напиться, меня и заберут в ментовку. Хоть отосплюсь. Напинают, конечно. Да ничего, дело привычное. Обшарят, а чего у меня красть? Боюсь, что и забирать не будут. Вывезут на свалку и пристрелят.
- Да ты что?
- А ты не знал? Ну, наивняк. – Мужчина ещё отпил. – Так-то я даже и рисовал, и в художественное хотел поступать. Нет бумажки?
Бумажка нашлась. Мужчина ловко извлёк из телогрейки карандаш и быстро начертал довольно сложный узор.
- Не понял, чего?
- Орнамент какой?
- Кельтская тематика. Для татуировки. Этим и зарабатывал. Может, и тут кого найду, ты не знаешь мастеров?
- Но это же дикость, это ж для дикарей, для уголовников.
- Я и есть уголовник. А дикарей среди пацанвы через одного.
- Что, и у тебя есть татуировка? – Я посмотрел на его руки – чистые, без следов иглы.
- Немножко. Показать? – Он снял телогрейку с одного плеча, закатал клетчатую рубаху. У локтя открылась татуировка – красивая девичья головка. – Я ж любил одну. Вот.
- И поезжай к ней.
Мужчина засунул руку в рукав.
- Нет, - он тяжко вздохнул, - тут не проханже, шансов нет.
- Замуж вышла?
- Да хоть и не вышла. Я ж не гад какой человека делать несчастным. Я ж пью.
Тут и я вздохнул.
- Иди в церковь. В сторожа. Двор подметать.
- Думал уже, думал. У нас и батюшка в зону приходил. Утешал. Верили, молились. Молились, а как же, на свободу рвались. Бог помог, вышли, и про Бога забыли. Ну, пойду я в сторожа, а как выпью, да что сворую?
- Тебя как зовут?
- Дима. Кликуха Димон.
- Чего тебе советовать? Крещёный?
- А ты как думал? Я же русский. В том и дело, что русский, а нас за людей не считают.
- Но ты сам-то себя считаешь человеком?
- Я-то считаю, а всякая сволота на нас тянет.
- Что тебе до них? И не Димон ты, а Митя.
Он достал извнутри телогрейки пузырёк, взболтнул.
- Ну, чего, давай прощаться, - я протянул руку.
- Спасибо, хоть поговорили, - сказал он. – Может, когда и встренемся?
- Может, и встретимся.
- Анекдот хочешь на прощанье? Как мента хоронили?
- Как?
- Три раза на бис.
Нет, не встретились мы больше. И никакой сюжетной закругленности не получается. Да тут и никакая не литература. Пропал ты, Митя? Жив? Убило тебя государство.
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
В этом году была такая длинная и такая теплая осень, что, казалось, и зима не наступит. Нет, наступила. Уже и приходила несколько раз, были даже метели, заморозки, но все потом таяло, хлюпало под ногами. Московские мостовые были как лотки с грязной снежной жижей. Воздух города и без того тяжелый прессовался еще и выхлопными газами, которых зимой становилось больше. Моторы, остывшие за ночь, подолгу грели. Также много выхлопа копилось на перекрестках у светофоров.
Все поверили, что наступила зима, когда однажды утром город покрыл пушистый снег. Он шел тихо и празднично. Дети вытаскивали ладошки из варежек и ловили снежинки. Снег все шел и шел, будто небо так долго копило его запасы, именно такого, легкого узорного, копило до тех пор, пока не увидело, что земля готова его принять и сохранить.
Бездомная старуха, которая питалась, собирая пищу из помоек и мусорных баков, тоже когда-то была девочкой, и в ее жизни были такие радостные снега, но уже за такими занесенными снегом стеклами, что уже было и не разглядеть и не вспомнить. Снег для старухи означал одно: окончательно пришла зима и как-то надо было пережить пять месяцев до следующего тепла. Все-таки главное в холода - ночлег - у старухи был. Ее пускал в кочегарку тоже уже пенсионер Николай. Когда-то она учила его детей. Он узнал ее на улице, сразу понял по ее виду ее состояние и привел в кочегарку. Кочегарка уже была не на мазуте, не на угле, на газе, там было чистенько, даже уютно, и старуха молилась Богу, чтобы Николай не заболел, не запил.
Кочегарка была в полуокраинном районе, а искать еду старуха уезжала в центр, в один из дворов, рядом с Госдумой. Там было много баков для мусора, много и таких, как старуха. Ее не гоняла другие бомжи, не трогала милиция. Может быть, оттого, что старуха молилась за всех.
Она не могла сказать о себе, что очень набожна. Но ведь и у любого из нас в минуту, внезапную или тревожную, вырывается невольный возглас: "Господи!" Вырывается из глубины сердечной. Что-то же есть в нас, помимо нашего разума, управляющее нами в беде. Старуха давно не была в церкви. Куда она пойдет, такая? С ней рядом и стоять-то, наверное, стыдно. Наверное, и запах от нее нехороший. Вот чего больше всего боялась старуха, того, что ее будут сторониться. Конечно, она как могла держала чистоту. Даже ухитрилась стирать у Николая в кочегарке. В старом ведре, стараясь не касаться стенок. Сушила на горячих трубах. Но вот самой было вымыться негде. И для нее, бывшей необыкновенной чистюлей в прошлой жизни, телесная нечистота была самым ужасным испытанием.
Из всего Писания старуха помнила и часто повторяла для своего утешения два места, это то, что и Спаситель не имел места, где голову приклонить. Он сказал, что и лисицы имеют убежища, и птицы имеют гнезда, а его гонят отовсюду. Ученики сказали: "Господи, давай пошлем на это селение, где нас не приняли, огонь. Его сведет с небес пророк Илья". Но Христос ответил, что Он пришел не губить, а спасать. И еще она запомнила о нищих, что Господь их любит, что нищие ничего не имеют, но всем обладают. Чем всем, старуха не очень понимала. Да ей уже и ничего почти не надо было. Одежда и пища. А и того и другого в нынешних помойках было много. Например, хлеба она совсем не покупала, хлеба выбрасывали много, иногда целые батоны. Зная, что живые люди есть и на загородных свалках, куда везут тонны московских отходов, старуха радовалась за "свалочников", как их называли, в отличие от "помоечников", что и им будет, что поесть.
Одна ежедневная забота была у старухи: как к вечеру набрать Николаю на бутылку. Это было как пропуск на ночлег. Николай, конечно, никогда бы не потребовал такой платы, но старуха считала себя обязанной принести к вечеру бутылку. Сама она капли в рот не брала, а у Николая насчет спиртного была целая теория. Водки он не пил, чтобы не одуреть и не лишиться места. Но постоянно пил красненькое. Теория была в том, что на юге тепло и солнце превращаются в виноградные кисти, из которых делают вино, а у нас тепла и солнца мало, значит, надо потреблять их в виде вина, куда солнце и тепло вошли в жидком виде.
Сумма на бутылку была вроде не очень велика: Николай был не привередлив и пил любую бормотуху, но и маленькую сумму надо было набрать. С этим старуха натерпелась. Даже при ее ангельском характере ей было трудно вынести побои и гонения от переходов в станциях метро, где промышляли просители покрепче. Даже и в деле прошения милостыни была отлаженная система изымания части дохода. И куда более эффективная, чем налоговая полиция. Подходили пара парней в черных куртках, с голыми головами, говорили: "Тетка, отстегивай. Нечего? Вали отсюда. В следующий раз шею сломаем". Говорили так, что не верить было нельзя. Старуху не гнали только от молочного магазина, она стояла внутри при входе, прижавшись к стене и греясь теплом от калориферов. Намерзшись у баков, она прямо засыпала от тепла. Подавали мало и редко, но и за то спасибо. Хотя никто не говорил, что шла бы, мол, работать. Иногда даже бывало, что иной мужчина, обычно подвыпивший, давал бумажку. Тогда старуха сразу переставала стоять и отправлялась на свой любимый трамвай, шестой номер. Почему? Потому что до него надо было очень долго ехать в метро, значит, время шло, и потом этот район, был совсем на другой стороне Москвы от ее бывшего жительства. То есть встретить знакомых было маловероятно.
Трамвай шел по зеленым, а зимой по белым местам, проходил остановки с дивными названиями "Западный мост", "Восточный мост", потом разворот - и обратный долгий путь на "сходненскую". У церкви Всех святых старуха иногда выходила, но никогда не просила, ей самой хотелось подавать милостыню у церкви. Но и в церковь не заходила, стеснялась.
Супруги Кожемякины жили именно около тех мусорных баков, которые кормили старуху. От того, что супруга Лора много смотрела телевизор, она была прочно зомбирована и говорила по поводу всех происходящих событий слова, которые казались ей своими. А на самом деле были внушены каким-нибудь Познером. А муж Сергей Николаевич, телевизор не смотрел, поэтому мыслил самостоятельно.
Они стояли у окна и смотрели на то, как у мусорных баков шевелятся люди.
- Довели демократы страну, - говорил супруг. - Вот тебе знаковые фигуры демократии.
- Это коммуняки нам ее такой оставили, - отвечала супруга. - Они работать не хотят. Развращены свободой. Вон какие еще все здоровые. Взяли бы в руки по метле, Москва бы сразу стала чище. А Лужкову бы надо подсказать этот резерв.
- Какие они в силе! Ты посмотри на ту старуху, ветром шатает.
- Небось, допилась, - отвечала супруга. - Конечно, такие, элементы тоже члены общества. Многие в прошлом труженики, хотя в основном это деклассированные элементы
- Как большевик выражаешься: деклассированные.
- Не лови на слове. Элементы. Государство обязано создать целую сеть социальной защищенности от подобного явления. Собирать, вывозить, лечить. Они, конечно, все обовшивели, все в заразе, они опасны как источник туберкулеза.
- С которым покончили, было, коммунисты, - вставлял супруг. В общем, они никогда ни до чего не договаривались и расходились по своим комнатам: она к телевизору, он к книгам.
Старуха у мусорных баков мучительно напоминала ему его бабушку. Она так же, он помнил, тихонько и незаметно двигалась, была такая же худенькая, так же низко, по самые брови, повязывала платок, так же смотрела вниз, так же стеснялась внимания. Когда у них с супругой родились подряд два ребенка, старуха их вынянчила, а потом незаметно уехала. А потом из деревни сообщили, что умерла, что уже похоронили, а перед смертью, передали, просила никому не сообщать, что умирает, чтоб никого не беспокоить. Даже и такая у него мысль была, а уж не есть ли эта бомжиха его бабушка? Он все пытался, проходя мимо, заглянуть старухе в лицо, но та всегда отворачивалась.
У Николая в кочегарке появилась новая теория. Он всегда забывал как зовут старуху, бывшую учительницу его детей, но никогда не переходил на ты.
- Вы мне помогите оформить мою мысль, - просил он, выпив красненького и поглядев на просвет на остаток. - Мысль такая, что надо собак и кошек называть американскими именами. Гор и Буш - это же готовые клички. Или Мадлен - это же для красивой лохматой суки, а Олбрайт - это кобель. Это же предложение мое - оно же - целое открытие. Никсон - доберман, да? Или не походит? Ну, Клинтон - это бультерьер. Вы согласны?
Старуха робко говорила, что нехорошо называть даже и собак человеческими именами.
- Кабы это были имена, - возражал Николай, это клички. Кликухи, вроде уголовных. Я как узнал, что у американцев отчества нет, думаю, ну это разве люди? Как это - без отчества? Ничего себе, нация называется. А претензий, а разговоров. Наши Горбачев и Ельцин были до того рады, что они Боб и Майкл, то есть от отцов отказались.
- Ах, Николай, не будем судить.
- А я бы лично хотел судить, - сурово заявил Николай, взбалтывая бутылку и глядя сквозь нее на показания приборов. - Лично. И лично руководить расстрелом.
- Бог с вами, Николай, - пугалась старуха.
- Я так думаю очень далеко не один, - говорил Николай. - Мнение народа - это голос Божий, я так слыхал.
Новогодняя ночь в кочегарке прошла быстро. Старуха даже не ощутила момента полуночи, так как ни радио, ни телевидения у Николая не водилось. По случаю перехода в Новый год Николай принял больше, против привычного, количество южного солнца. Старуха и тут ничего не употребила и только радовалась теплу и сухости кочегарки. Намерзлась за день. Хотя, надо сказать, подавали в канун Нового года хорошо. Николай философствовал:
- Ежели бы все подлецы передохли к утру, это был бы праздник. Атак - праздник вполовину. Ну ничего, подождем. Мы их, подлецов, измором возьмем, мы их перетерпим.
Николай успешно терпел всю ночь, а старуха хорошо выспалась. День наступил солнечный и не очень морозный. Но у старухи были крепкие зимние сапоги, кем-то вынесенные к бакам, теплое пальто, тоже кем-то выброшенное, а может, из жалости будто бы специально ей подаренное, так что старуха не мерзла. Около баков было пусто, но баки были полнехоньки отходами, отброса-ми или, лучше сказать, приношениями с праздничных столов. Сильно пахло мандаринами. Старуха набрала всего, даже отдельный пакетик заполнила для собак, которые паслись около кочегарки и всегда ее ждали.
Началась последняя неделя перед Рождеством Христовым.
Сергей Николаевич решился заговорить со старухой. Увидев ее в окно, он вышел, прихватив пакет с мусором. Старуха, заметив его, пошла как-то боком в сторону. Швырнув в бак звякнувший пакет, Кожемякин догнал старуху и сказал:
- Здравствуйте.
Старуха оглянулась, ища того, с кем поздоровался мужчина.
- Нет, это я вам, вам, - сказал Кожемякин. - Не сердитесь, вы можете принять немножко денег? Новый год все-таки. Старуха просто и спокойно сказала:
- Приму.
- Может быть, вам вынести еды?
- Нет, нет, спасибо, я ни в чем не нуждаюсь. За деньги спасибо. Это у меня своеобразный взнос за ночлег.
Сергей Николаевич вспомнил про третью комнату в их квартире на двоих. Мысль мелькнула и погасла - приютить старуху. Разве это возможно с его супругой? Они помолчали.
- Все-таки, может быть, я чем-то могу помочь? И тут, краснея и запинаясь, старуха выговорила то, о чем все время думала:
- Вот если бы, если бы вот, если бы можно, я бы всего за десять минут, так-то у меня все чистое, вот бы самой, самой бы помыться, - почти прошептала она, и даже слезы выступили.
- Конечно, конечно, - торопливо сказал Сергей Николаевич, соображая, что супруга не должна прийти в это время. - Конечно. Поднимемся. Третий этаж. Лифт работает. Да даже и без лифта. Идемте.
Старуха покорно отдала ему свою большую сумку. Они пошли. В подъезде им никто не встретился. Лифт работал. В квартире Сергей Николаевич суетливо побежал в ванную, включил горячую воду. Мерзкая мысль, что у старухи может быть какая-либо зараза, никак не отступала.
Не снимая пальто, старуха стояла в прихожей. Только разулась. От домашних тапочек отказалась, была в шерстяных носках.
- Пожалуйста, - сказал Сергей Николаевич. - Полотенце, мыло, шампунь, все берите. Не стесняйтесь. Давайте пальто.
- Ой, может, я уйду? - еще раз стала извиняться старуха. Но саму прямо-таки тянуло на шум воды, в сверкающую зеркалами ванную.
- Давайте, давайте, - поторопил Николай. И старуха решилась. Отдала пальто, перешагнула порог ванной. Дверь закрылась за ней сама. Обилие флаконов, бутылочек, тюбиков, тяжелые махровые халаты, висящие на бронзовых крючках, прозрачная, сияющая занавесь, электрические зайчики на узорных плитках стены и потолка из рифленого белого металла - все было таким сказочным.
Старуха стала мыться. Только никакого шампуня не взяла, боясь, что выльет на себя что-то не то. Взяла кусок мыла, старалась его поменьше расходовать. Полотенцем не осмелилась вытереться, вытерлась своей рубашкой. Стала мыть ванную. Сергей Николаевич услышал звуки, ею производимые, и громко сказал:
- Не надо мыть, не надо, что вы, я сам.
Но старуха все-таки все прибрала чисто-начисто, оглядела все придирчиво и тогда только вышла. Она даже в зеркало не погляделась: боялась, что морщины после мытья обозначатся еще сильнее. Взялась сразу за пальто.
- Бога буду за вас молить, как ваше имя?
- Сергей. Сергей Николаевич. А вас как по имени-отчеству?
- Да я-то, уж я-то что. Я Мария Сергеевна.
- Не обувайтесь, сразу на улицу после ванны нельзя. Нет, не отпущу. Идемте на кухню. Я чай приготовил.
Старуха присела на краешек кухонного углом дивана. Из всех сластей взяла только карамельку, с нею выпила чашку встала:
- Можно я посмотрю в окно? - Она подошла к окну, увидела сверху мусорные баки, у которых кормилась.
- Пойду. Спасибо, Сергей Николаевич. Вы не подумайте, чего на моих детей, я от них сама попросилась в дом престарелых. И оттуда сама ушла. Меня оформили, я сдала все: и паспорт и пенсионное. Велели идти в столовую, а там подавальщица шваркнула мне в грязную тарелку жидкой каши, прямо брызги полетели. Я говорю: "Хотя бы вы чистую мне дали тарелку, давайте я сама помою". А она, она, ну, может, я сама виновата, могла бы и потерпеть, она прямо нехорошими словами, матом прямо: "Подыхать пришла, ну и подыхай. И с чистой будешь жрать - сдохнешь, и с грязной - сдохнешь". Я даже повторять не могу. Говорит: "Вы все тут - тюремщики с пожизненным сроком и не...", - старуха потупилась: - Не выламывайтесь, говорит. Вот. И я тогда же и ушла. Не задержали, потому что сказала, что навещала сестру.
- Давайте, я туда съезжу, - вызвался Сергей Николаевич.
- Нет, нет. Ни за что. Мне хорошо, не волнуйтесь. Я и нагляделась всего и в газетах читаю. Очень много газет выбрасывают, я на них даже сплю, в основном "Московский Комсомолец", всякие коммерческие, иностранные, журналов полно, там все время про убийства Ну все-все, я пойду. Я теперь обязательно в церковь пойду на Рождество и там за вас свечку поставлю. И за супругу, как ее святое имя?
- Лариса, - Сергей Николаевич решил про себя ничего Ларисе не говорить. - А можно вам хотя бы одеяло подарить?
- Все есть, - с усилием сказала старуха. - Все. Мне уже ничего не надо. Вот главное вы мне помогли, я прямо как родилась, ожила, легко как, радостно прямо. А то в баню же не попасть. И не то что дорого, я бы за неделю на билет собрала, но там все бани поделены между своими. И таких, как мы, никто не пустит. Но вы не думайте, я не заразная. Я слежу очень, я такая чистюля была, я и сейчас все стираю.
Ушла старуха. Прошла мимо мусорных баков, поглядела на них, оглянулась. Увидела или нет, что Сергей Николаевич смотрит на нее из своего окна? Он смотрел. Сердце его сжималось от жалости к старухе и от радости, что хоть чем-то он послужил ей. И в последующие дни он надеялся встретить ее, пригласить, напоить чаем. Но она больше не приходила.
Но теперь он уже всегда вспоминал ее, и особенно вспоминал, когда шел снег. Новогодний, легкий, кружевной снег, снежинки которого дети ловили своими маленькими ладошками.
Сено в стогу
В случае, о котором я рассказываю, участвовали люди, которые живы-здоровы и могут подтвердить мои слова. Да и с чего бы мне врать.
В июле, после Крестного хода, я был в Советске, это город в Вятской земле, районный центр, бывшая слобода Кукарка. Можно было бы в демократическом экстазе вернуть имя Кукарки, а жители сказали: нет, Советск - хорошее, русское слово, будем советскими, а Кукаркой назовем ресторан на рынке. Раньше в Советске была шутка - приезжим говорили: «Вы находитесь на дважды советской земле».
Там я остановился у давнего знакомого, врача Леонида Григорьевича. Большое хозяйство, которое он держал, поднимало его с солнышком и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида Григорьевича больше всего тревожило, что на лугах в пойме Вятки лежит скошенное сено, плохо сохнет, может пропасть.
Назавтра, к вечеру, я собирался уезжать. Это, конечно, огорчало Леонида, всё-таки я бы помог. На сенокосе, особенно на гребле, лишней пары рук не бывает. Дети Леонида рвения к метанию стога не проявляли. А мне, сохранившему воспоминания о счастливой поре сенокоса в большой семье, хотелось ощутить в руках и грабли, и вилы. Но что будешь делать - не метать же влажное сено: сгорит, сопреет.
После обеда, накануне, дождь перестал. И хотя солнышко явно загостилось в заоблачном доме ненастья и нас не вспомнило в тот день, потянуло спасительным, проветривающим ветерком. И ночью обошлось без дождя. И утро стояло ясное. Но, по всем приметам, дождь надвигался. Леонид глядел и на север - тучи, и на запад - тучи, вздыхал.
- А на день не можешь еще остаться? - спросил он меня.
- Никак, Леонид, никак. Остаётся жить мне тута один час, одна минута. Но давай съездим, хотя бы пошевелим, перевернём.
- Бесполезно. Смотри. - Он показал на небо. - Может, помолишься?
А до этого, именуя себя материалистом, Леонид часто втягивал меня в разговоры о религии. Тут я не стал ничего говорить, ушёл в дом. В доме у него были иконы, которые остались от матери Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у него, по его словам, была набожной.
Вздохнувши, я перекрестился и прочёл «Отче наш». Кто я такой, великий грешник, чтобы Господь меня услышал! Но так хотелось помочь хозяевам, особенно Лилии Андреевне, которая по болезни не могла уже быть на гребле, но прямо слезами плакала, что если не будет сена, то придётся телочку Майку пустить под нож. «Не переживу, - говорила она, - не переживу, если будем убивать Майку, такая ласковая, только что не говорит».
Во дворе Леонид возился у своей трижды бывшей и четырежды списанной «скорой помощи».
- А кто ещё поможет метать?
- Брат двоюродный Николай Петрович, жена его Нина, ты, я - четверо на стог. Нормально?
- Нормально. Поехали. Не будет дождя.
Леонид расстегнул куртку, перетянул широкий ремень-бандаж на животе - мучился с грыжей, поглядел на меня, на небо и пошел звать Николая Петровича с женой.
Николай Петрович много не рассуждал. Сел в кабину рядом с Леонидом и скомандовал:
- Заводи... глаза под лоб.
Когда спустились к Вятке, проехали вдоль её прекрасных берегов и достигли огромной поляны, которая была выкошена тракторной косилкой, когда я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать, сметать, то подумал, что пришёл последний день моей жизни. Надо запомнить напоследок красоту вятской родины, подумал я.
Молчаливая жена Николая Нина уже тихонько шла впереди, сгребая первую волну влажноватого сена. Но я заметил, что двигалась она хоть и медленно, но непрерывно. Глядишь - она тут, а посмотришь - уже там. Николай, её муж, человек огромного роста, работник был невероятной мощи и производительности. Он орудовал граблями почти в метр шириной и с ручкой метра в три. Моё восхищение им его подстёгивало. Обошли поляну раз. Обошли, под запал, и два раза. Солнце наяривало во всю мощь. Но жара была тревожной, душной, земля парила.
- Бесполезно, - в отчаянии говорил Леонид. - И нечего даже мечтать, смотрите, со всех сторон затаскивает.
И точно. Уже и солнце с трудом стало прорываться сквозь рваные темные тучи, уже мелкие капли упали на запрокинутые лица.
- Копнить! - скомандовал Николай и побежал к машине за вилами.
Бегом-бегом скопнили. Надо ли говорить, что я всё это время творил про себя Иисусову молитву попеременно с тропарем святителю Николаю «Правило веры и образ кротости». Дождика не было, но и солнца тоже.
- Поехали, - обречённо сказал Леонид. – Дождя когда не будет потом, копны развалим, просушим…
- Как Бог даст, - впервые подала голос Нина.
- Леонид, - спросил я, - вот мы в эти дни всё вели богословские диспуты. А вот конкретно: если сегодня поставим стог сухого сена, ты поверишь в Бога?
- Да как же ты поставишь? - Леонид прямо вытаращился на меня.
- Не я, а мы все вместе. Так как?
- Смечем - поверю.
Сверкала водяными жемчугами наша поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны. Небо вокруг хмурилось. Над нами еле-еле расчистилось светлое высокое пространство. Пришёл ветерок, стало выглядывать и греть солнышко. Для начала мы не стали раскидывать копны, а сгребали остальное сено. Потом развалили, разбросали и копны. Мы с женой Николая черенками грабель шевелили сено, растеребливали его сгустки. Леонид и Николай готовили остожье, ставили стожар.
Пообедали. На небо боялись даже поглядывать. Громыхало на западе и слегка посвечивало отсверками далёких пока молний.
Стали метать, выбирая просохшее сено. Потом неожиданно обнаружили, что оно всё сухое, можно грести подряд. Сено уже не шумело, а шуршало под граблями. Носилками мы стаскали сено с дальних краёв поляны, валили под стожар. Стог настаивал Леонид. Нина подтаскивала сено и подгребала.
Как только у Николая терпели вилы, непонятно. Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе с сеном, но Леонид, несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши навильники равномерно по окружности растущего на глазах стога.
Пошли на вторую его половину. Гремело всё сильнее. Забегали бегом. Я всё читал и читал про себя молитву. Кажется, что и Николай, и Леонид тоже, пусть по-своему, молились. Однажды, внезапно оглянувшись на Нину, я увидел, что она торопливо перекрестилась.
Стали очёсывать, равнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог становился огромен. Чисто выгребенная поляна светилась под лихорадочным, торопливым солнцем, как отражение чего-то небесного.
Дождь, было видно, шёл везде - и у Вятки, и за Вяткой, и на горе, в деревне. Не было дождя только над нами.
Николай подал Леониду вицы - заплетенные петлёй берёзки, которые Леонид надел на стожар и по одной из них спустился. Он даже не смог стоять на ногах, так и сел у стога. Сели и мы.
И только тут пошёл дождь.
- Ну, крестись, - сказал я.
Леонид только судорожно хватал воздух, растирал ладонью заливаемое дождём лицо и всё кивал и кивал. Наконец прорезался и голос.
- Да, - говорил он, - да, да, да!
Церковная завеса
Сбылась моя мечта — я в Карфагене. Остатки ступеней античного театра, пустырь, ветер, берег моря, ноябрь. Мальчишки играют в футбол.
— Там Европа, Сицилия, — показывает работник посольства в Тунисе Николай Иванович. — В ясную погоду видно.
— Да, — я вспоминаю, что именно из сицилийского города Монреаля видел в бинокль африканский берег и мне говорили: «Там Тунис, Карфаген, Бизерта».
Мы приехали в Тунис вдвоем с товарищем. В России осень, затяжные дожди, здесь сухо, солнечно, безмятежно. Еще и оттого тянет на юг, что хотя бы на время отступают дела и заботы.
— Как же хорошо! — говорю я и отпрашиваюсь сходить на берег моря. У меня есть тайная надежда — выкупаться в Средиземном море. Ведь тепло. А мы в детстве уже первого мая отважно кидались в ледяные воды Поповского озера, еле-еле прогретые сверху.
Тишина обступает меня. Даже плеск мелкого прибоя и отдалившиеся крики мальчишек не пугают ее, а дополняют.
Карфаген, думаю я. Какое гордое имя — Карфаген, город — властелин Африканского побережья. Мысленно переношусь в Рим, в Колизей, в его тоже уже обветшалые камни, и слышу крики римского сената, выступления Катона, который повторял всегда только одно в конце любого своего выступления:
— Карфаген должен быть разрушен.
И повторял так громко, что пробил толщу веков и заставил даже нерадивых студентов повторять вслед за собой: «Карфаген должен быть разрушен».
Разрушили. Вот они, остатки, объект туризма. Да ведь и Колизей объект, ведь и пословицы «Все дороги ведут в Рим», «Нет нигде жизни, кроме Рима» тоже загасли.
Мы ехали в Бизерту, место гибели русского флота. Там, нам сказал Николай Иванович, есть русская церковь и ее хранительница — Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн, дочь флотского офицера.
— У нас не было с ней общения. То есть официально. Но тайком бывали у неё, привозили продукты, помогали выжить. В перестройку кадры посольства перетряхнули, пришли лизоблюды перед Западом, но единственное, что жены наши стали делать открыто, — ездить в Бизерту к Анастасии Александровне.
— Жены? А вы?
Николай Иванович помолчал, глядя на пустые места за окном, и улыбнулся:
— Они ж и за нас свечки ставили.
Бизерта — тяжелое слово для русской души. Как погибал русский флот, как нас предавали бывшие союзники, об этом сказано достаточно. А сегодня важным было то, что в Бизерте русская церковь, выстроенная моряками на их скудные средства.
Мы посидели у Анастасии Александровны. В темном платье и светленьком платочке она была совсем-совсем нашей, будто мы сидели на окраине Вятки, или Костромы, или в Москве, в деревянном доме в Сокольниках, и пили чай. Был Великий пост. Привезенное Николаем Ивановичем съестное, кроме печенья и карамели, было унесено до пасхального дня.
— Моя главная мечта, — сказала Анастасия Александровна, — побывать в России, в сельской церкви, в Великий Страстной четверг на службе «Двенадцать Евангелий», а потом умереть.
— Вам жить надо долго-долго, — сказал Николай Иванович. — Видите, уже из России едут, и будут приезжать все больше. Кто встретит, кто расскажет?
— Это всё уже описано, — ответила Анастасия Александровна. — А у меня нет сил говорить о гибели цвета русской нации. Как я жила, куда и на что ушла жизнь, не помню. Вот сейчас себя ощущаю и маленькой девочкой, когда мы жили на кораблях. Несколько лет. Была школа, оркестр, иногда объявляли вечер танцев. На эсминце, я уже забываю название, на палубе, я стояла в белом платьице. И ко мне подошел Врангель и поклонился, и сказал: «Вы позволите пригласить вас на вальс?» Вот и вся моя жизнь.
Мы шли по улице Бизерты, совершенно безлюдной. Анастасия Александровна заранее достала из ридикюля большие ключи от замка и двери храма:
— Только очень извините меня, что внутри стоят стулья. Это я, чтобы как-то выжить, платить за свет, воду, пускала христиан-католиков для службы. Они же не могут, как мы, стоять всю службу. Даже короткую свою сидят. Бог им судья.
— Приедет и к вам батюшка, — бодро сказал Николай Иванович.
— Дай Бог, — она перекрестилась.
Мы остановились на паперти. Анастасия Александровна показала в сторону моря:
— Еще в шестидесятые годы были отсюда видны мачты кораблей. Но это был металлолом. Моряки разошлись еще в конце двадцатых годов. Кто уехал во Францию, кто здесь пошел в услужение. А я — куда я от церкви? — Она вздохнула. — Поэт написал об исходе из России: «И запомнил, и помню доныне наш последний российский ночлег, эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий свет. Стерегло нас последнее горе, — после снежных татарских полей, — ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей».
Мы вошли в холод каменного храма. Развели шторы на боковых окнах и увидели, что Царские врата, центральная завеса храма — это боевой Андреевский флаг. Да, настоящий морской стяг.
— Но с какого эсминца, уже тоже не помню, виновата, — сказала Анастасия Александровна. — Можно сказать: с любого. Молитвы читаю, Псалтырь. Пыль вытираю, пол мою. А в алтарь не вхожу, нет благословения. Да, с батюшкой бы тут всё оживилось.
— Будет! — твердо сказал Николай Иванович.
Мы поставили свечи у алтаря и перед Распятием. И долго стояли молча, слыша, как в тишине слабо потрескивает сгорающий стеарин.
Хотели закрывать шторы на окнах, но Анастасия Александровна воспротивилась.
— Еще не зима, всё-таки внутри посветлее, не так мрачно.
Мы проводили её до дома и вышли на набережную. Недалеко от берега, в воде, лежали огромные остатки корабля. Ржавеющий корпус, гниющие шпангоуты, черные иллюминаторы с остатками стекла.
— Как скелет динозавра, — осмелился я прервать молчание. — У нас по Вятке и Каме и средней Волге обнажаются откосы и находят скелеты допотопных животных. Потом потоп, потом еще потопы. И вот — пусто в Карфагене, и здесь кладбище. Всё умерло, а церковь стоит, Анастасия Александровна молится, Андреевский флаг на страже алтаря.
— Так и запомнится Бизерта, — сказал товарищ, — как город без людей, и только церковь да эта женщина.
Надо было возвращаться. Мы даже забыли сфотографировать и храм, и Анастасию Александровну. Спохватились, когда отъехали далеко. Но утешали себя тем, что память о Бизерте будет прочнее снимка.
Так оно и оказалось.






















