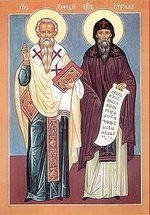Африка ещё с детства привлекала Гумилёва,
его вдохновляли подвиги русских офицеров-добровольцев в Абиссинии
(позднее он даже повторит маршрут Александра Булатовича…)
Википедия
Нельзя нам забывать о Булатовиче!
Валентин Пикуль
Года три-четыре назад на одном из литературных сайтов встретилась мне публикация одного известного критика «Африканский рай Гумилёва. Фрагменты новой книги из серии ЖЗЛ». Дважды перечитав текст об эфиопских странствиях поэта, так и не встретила там фамилии знаменитого русского путешественника, по следам которого и прошёл Николай Гумилёв.
Может, и нет необходимости писать заново о том, что можно прочесть в интернетовской биографии поэта, но чтобы совсем не упоминать, для этого должны быть какие-то веские основания…
Ведь так повелось уже, что в биографии поэта обязательно присутствует отсылка к личности А.К. Булатовича как одного из первых вдохновителей Гумилёва в его африканских странствиях, а в биографии Булатовича обязательно будет упомянуто о том, что большой русский поэт Николай Гумилёв первый сумел повторить эфиопский маршрут знаменитого путешественника.
То есть в заслугу поэту вменяется его восхищение личностью Александра Булатовича, а в заслугу путешественнику – его героический пример, достойный подражания для русского поэта.
Так что отсутствие одного из двух упомянутых фигурантов на страницах книги, посвящённой африканской теме в биографии Гумилёва, не может не удивить. Потому решила покопаться в этой теме сама. Тем более что когда-то она уже становилась предметом моего читательского интереса.
***
Начну с цитаты журналиста Игоря Попова, взятой из его статьи «Африканская миссия Николая Гумилёва» (журнал «Живописная Россия»):
«Далёкая Абиссиния (так во времена Гумилёва называли Эфиопию) вызывала живой интерес в России, особенно у романтически настроенных представителей российской культуры. Начиная с середины XIX в. поэты, писатели, художники все чаще стали бывать в экзотических странах. Для Гумилёва же это было не просто увлечение, а настоящая страсть. Она помогала ему создать свой собственный мир – «волнующий и странный», помогала «в новой обстановке найти новые слова». Для своих странствий Гумилёв выбрал именно Абиссинию и назвал её «колдовской страной», и вскоре страна, которая манила романтической экзотикой, стала предметом серьёзных исследований поэта.
Гумилёв был вдохновлён подвигами русских офицеров-добровольцев в Абиссинии. Особенно его восхищали Александр Булатович и Николай Леонтьев, чьи маршруты он повторил в своих скитаниях по Абиссинии. И было ведь чему восхищаться! Александр Булатович был личностью выдающейся. В 1896 г. Булатович добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии, где он стал доверенным лицом негуса (императора Эфиопии) Менелика II. Совершил в апреле 1896 г. в качестве курьера легендарный пробег на верблюдах из Джибути в Харар, преодолев расстояние свыше 350 верст по гористой пустыне за 3 суток и 18 часов, что на 6–18 часов быстрее, чем профессиональные курьеры. В 1897–1899 гг. стал военным помощником Менелика II в его войне с Италией и южными племенами. Булатович – первый европеец, который пересёк из конца в конец Каффу (сейчас – провинция Эфиопии). Впоследствии составил первое научное описание Каффы. Он также стал вторым европейцем, который обнаружил устье реки Омо. В России миссия Булатовича была высоко оценена: он получил серебряную медаль от Русского географического общества за работы по Эфиопии (1899). Ему также было присвоено звание поручика лейб-гвардии Гусарского полка».
Въедливый интерес мой к этой теме не случаен. Полюбила поэзию Гумилёва давно, будучи аспиранткой филфака, и вообще была восхищена личностью поэта, романтическим и вместе трагическим пафосом его жизненного пути. Позднее написала большую статью о его стихотворении «Андрей Рублёв», ввязавшись в спор с православным автором, усомнившимся в чистоте религиозного взгляда поэта.
Сегодня не буду спорить с автором книги о Гумилёве, но возникшие недоумения хотелось бы разрешить.
Африканская тема нечаянно возникла в моих литературных исследованиях, когда изучала книгу одного церковного иерарха, посвящённую проблеме имяславия в истории Русской Православной Церкви. Попутно записывала в дневник свои мысли «по поводу». Было это в 2005 году, потому суждения мои передают реальность именно тех лет.
Чтобы не погасить эмоциональную остроту тогдашнего взгляда, сошлюсь на страницы своего читательского дневника. Пусть прямота суждений и категоричность непродуманных выводов послужат доказательством искренности увлечённого читателя. А когда встретится на страницах этого дневника имя поэта, тогда и станет понятно, к чему я веду речь.
Итак, читательский дневник 2005 года.
«Вчера целый день читала книгу епископа Илариона «Священная тайна Церкви» (введение в историю и проблематику имяславских споров). Естественно, напрашивается свой комментарий. Но я лучше помолчу…
Да нет! Не могу молчать…
Единственное, чего никак не могу понять – почему об этом вообще стали спорить всерьёз? Веками молились тихонько, и спорить не о чем было, а тут вдруг у кого-то в голове «мысля» одна поперечная возникла… Он и вцепился в неё, и повис на ней, на перекладине этой...
Откуда у меня это негодование?
Да вот читаю нынче правило, как обычно, ничего дурного не ожидая во время молитвы, а тут вдруг подбородок-то и зацепился за эту перекладину…
Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится ИМЯ ТВОЕ…
Тысячу раз читала эти слова – и никогда не приходило в голову, что ИМЯ ТВОЕ – это что-то особенное, отдельное от Бога, о чём можно рассуждать обособленно, о чём можно спорить до ненависти и рукоприкладства…
Ведь парадокс-то в чём?
Тот, кто действительно почитал это имя, и не думал отделять его от Бога и как-то обособленно почитать (да ещё рассуждать об этом, формулы строить). Имею в виду книгу «На горах Кавказа», которую я в своё время преспокойно прочитала, не заметив никакого соблазна.
Мне никогда не приходило в голову, что при словах «ИМЯ ТВОЕ» можно думать о каком-то отдельном имени, а не о БОГЕ вообще.
…Но однажды кто-то запнулся, как за перекладину шлагбаума, за эту мысль. И остановился…
И получилось, что те, кто пытался возвести в «новый догмат» равенство, равнозначность обращений «Ты, ГОСПОДИ» и «ИМЯ Твое», – сделали обратное: оторвали имя от Бога, декларативно при этом доказывая, что ИМЯ БОЖИЕ и есть БОГ.
То, что было органически заложено в языке и пребывало в нём как само собой разумеющееся (каждым носителем языка внутренне разумеемое), вдруг было грубо вырвано из этой живой языковой ткани и сделано объектом умственных упражнений.
Мне отчего-то кажется, что люди здесь запнулись о какую-то придуманную преграду, не более. Язык и отомстил человеческому сознанию за грубость и бесцеремонность вторжения в свой живой организм.
…А теперь скажу о некоторых впечатлениях.
Более всего меня взволновала третья часть доклада митрополита Вениамина (Федченкова), написанного им для митрополита Сергия (Страгородского).
Читая всю книгу молча, только изредка морща лоб и сокрушенно вздыхая, тут я вдруг громко вскрикнула, напугав своего кота, спящего рядом:
– Да ведь у него потрясающий литературный талант!
У митрополита Вениамина оказался не интеллектуальный, не логический, а художественный склад ума. То, что он написал, – это не доклад, не отчёт на заданную тему, – это живая поэма, это любовная, внимательная и бережная работа со словом. Язык он сделал не объектом, а участником своей умственной, или лучше сказать художественной, игры. Я говорю о той части доклада, которая называется «Живое предание». Другие части – обычные, богословские, не лирические (впрочем, сколько у нас примеров лирически прекрасного и при этом убедительного богословия). Хотя и тут у него логика не довлеет над живой подвижностью смысла. Он очень аккуратен и вежлив со словами и смыслами, даже изысканно предупредителен в общении с каждой приходящей к нему мыслью. Однако, даже любуясь этой скромной и талантливой игрой, заметила, что он тоже начинает топтаться на месте, делать ненужные реверансы в сторону логической прямолинейности смыслов.
Что я имею в виду?
А вот возникло странное впечатление… Читая иные доказательства владыки Вениамина, ловишь себя на чувстве недоумения: разве это нужно ещё доказывать, разве это не абсолютно очевидно? разве слова здесь не вносят путаницу в многозначный, но абсолютно прозрачный контекст?
В познавательном отношении другие части доклада мне очень пригодились, как и вся эта книга, вся эта история с «имябожниками». Но сущность их спора вызывает оторопь…
Спор этот кажется мне какой-то бессмысленной инерцией, затянувшимся рефлективным жестом после случайного соприкосновения-противоборства двух «сильных личностей».
Мне важен факт, что в Курске в 1916 году были люди, оценившие эти события именно так, а не иначе, именно – как простое недоразумение, как случайные последствия чьего-то неаккуратного мыслительного жеста.
Вот цитата из книги епископа Илариона:
«Характерное высказывание зафиксировал в своих воспоминаниях Товарищ обер-прокурора Синода князь Н.Д. Жевахов. Осенью 1916 года, будучи в Курске, он разговаривал о “ереси имябожников” с местным архиереем архиепископом Тихоном (Василевским). Последний заявил князю, что весь шум вокруг названного дела поднял своими газетными статьями именно архиепископ Антоний (Храповицкий. – М.М.). “Если бы не это, то не было бы и вздутия дела”, – сказал архиепископ Тихон».
Современный православный автор архимандрит Рафаил (Карелин) выразил своё мнение словами, с которыми я согласна: «Можно сказать, что перевод определенных моментов субъективного молитвенного опыта в область богословских суждений породил несоответствие, принявшее форму раскола, а в некоторых случаях – и ереси. Старцы были не богословами, а молитвенниками, и, дорожа молитвой как своим духовным сокровищем, они избегали каких-либо отвлеченных рассуждений и оценок, боясь, что неправильное мнение может помешать их внутренней молитве и посеять в сердце сомнение».
Сказано о глинских старцах, но то же самое можно сказать и об афонских иноках, не пошедших за Булатовичем.
И епископ Иларион (Алфеев), автор «Священной тайны Церкви», в завершение своего двухтомного исследования всё-таки написал те верные слова, которые мог бы сказать каждый честный с самим собой христианин:
«Нужно сказать также о том, что, как и во многих подобного рода ситуациях, столкновение между имяславцами и их противниками в 1910-х годах было конфликтом нескольких сильных личностей (так что истина веры тут ни при чём. – М.М.): со стороны противников имяславия таковой был прежде всего архиепископ Антоний (Храповицкий), со стороны имяславцев – иеросхимонах Антоний (Булатович)».
Митрополит Сергий (Страгородский) в письме к митрополиту Вениамину (Федченкову) назвал этого иеромонаха «иерогусаром», т.к. в прошлом он был офицером Гусарского лейб-гвардии Императорского полка.
И я подумала: а действительно! каким мощным обаянием мог обладать человек, имеющий за плечами такую яркую биографию. Гусарский офицер (очень лихой, как вспоминали современники), авантюрист-путешественник, публикующий отчёты в Известиях Русского Географического Общества. Когда читала заголовки его статей, мелькнула мысль о Гумилёве – они могли быть знакомы, эти неугомонные офицеры-поэты! Лексика и стиль его заголовков напомнили мне стихи Гумилёва. «От Энтото до реки Баро», «Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа», «С войсками Менелика Второго», «Третье путешествие по Эфиопии» и т.п.
Нет сомнения, что заголовки эти продуманно эмпатические, то есть имеют целью воздействие на воображение, на чувства читателя. Булатовичу надо было стать поэтом, как Гумилёв! Но он, видимо, стремясь пойти дальше наших поэтов, подойти вплотную к той двери, которую искал в Африке и Гумилёв, нашел кратчайший путь к «тайному знанию», к «золотой двери» – через священство и схиму.
Люди, которые пошли за ним, за его учением, были простые неграмотные крестьяне (двое из них – родом из Курской губернии); что стоило этому блестящему гвардейцу очаровать и увлечь умы, не искушенные ни философией, ни географической экзотикой, ни яркой светской жизнью! Они и обычной-то жизни не видели в своих губерниях. Если же они пошли не за человеком, а за Богом, то зачем было противопоставлять себя всем другим, кто молился иначе? Зачем был нужен этот стихийный бунт, «бессмысленный и беспощадный»? Не человеческая ли воля покорила их?
В отличие от Николая Гумилёва, продолжающего искать совершенную любовь в сердце земной женщины (Анны Ахматовой), гусар Булатович вовремя догадался (Гумилев не успел, оказался расстрелян), где нужно искать эту совершенную любовь. И, видимо, не без философии Владимира Соловьева он это понял…
Соловьёвская софиология нашла в нём благодатную для себя почву; живущий в нём дух авантюризма (а кто же без этого духа поедет в Африку!) немедленно повлёк его на Афон. (Господи, прости меня, если было иначе. Сейчас я фантазирую, не зная подробностей его биографии. Но эту реконструкцию я позволяю себе не на пустом месте. Опираюсь на «плоды» жизненного пути этого человека, как они открылись мне в книге епископа Илариона).
Он уже понял: тайная «золотая дверь» находится не в Африке, не в Абиссинии (где искал её поэт Гумилёв), а в нём самом, в его собственной груди. Только ключи к этой двери надежнее всего подобрать на Афоне.
Гумилёв искал ту же дверь, и уже нащупал её, как мне думается, нашёл ту ручку, за которую осталось потянуть и открыть, да в тёмных сенях литературного символизма запнулся о какие-то хрустящие под ногами черепки, которые оказались осколками разбитого им глиняного горшка с надписью «ОККУЛЬТИЗМ»...
Впрочем, то, что многие исследователи сочли в поэзии Гумилёва оккультизмом (например, Н. Богомолов), сегодня переосмысливается уже в качестве предпосылок для православного мировидения поэта.
…Антоний Булатович был убит за два года до расстрела Николая Гумилёва, в декабре 1919-го, в имении матери, защищая от грабителей «нажитое добро», как сказано в книге епископа Илариона (по иной версии, он был зверски убит бандитами, когда защищал от их нападения молодую девушку). Он не стал поэтом. Но ведь и настоящим монахом не стал. Не изжил он тот дух авантюризма, который запнул его на самом пике монашеского пути (если схиму считать венцом земного отрезка этого пути).
Я веду к тому, что и Гумилёв, быть может, догадался бы поехать на Афон (раз уж искал эту чудесную дверь), если бы через два года (после смерти Булатовича) его не расстреляли большевики в подвале ЧК.
В первую минуту эта мысль показалась слишком нелепой: Гумилёв на Афоне... Но мне пришло в голову заново просмотреть его биографию. Да, детство поэта говорит о том, что монашество могло состояться в его жизни, но не состоялось по каким-то причинам:
«…Живя в Березках, он стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье…»
Разве можно представить, чтобы он напрочь забыл этот свой опыт «отшельничества»?
Думается, любой афонский имяславец подписался бы под такими стихами Гумилёва:
СЛОВО
В оный день, когда над миром новым
БОГ склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
-----------
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что СЛОВО – это БОГ.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.
Написано летом 1919 года. Когда читаешь эти строки, особенно две последние строфы, то перехватывает дыхание, будто и вправду вдруг натыкаешься на некий «предел естества», предостерегающий тебя от произнесения «мёртвых» слов…
Когда работала в университете с иностранными студентами, на уроках русского языка читала им эти стихи. Они, видимо, мало что понимали, но в моей интонации улавливали что-то такое, что заставляло их затаить дыхание и с суеверным страхом взирать на портрет поэта, который я приносила с собой...
…Разве Гумилёв, живя в Петербурге и в Царском Селе, мог не знать, не слышать о деле имяславцев, всколыхнувшем всю православную Россию?
Когда я думаю, почему Гумилёв не пошёл дальше этих романтических авантюрных поисков оккультной «золотой двери», не стряхнул с себя эту глухо шуршащую теософскую мишуру, мне кажется, что нахожу ответ в его стихах. То, что он назвал «творчеством», признаваясь попутно: «О, если б кровь мою пили, /Я меньше бы изнемог…» – это измождающее «творчество» было крепче всех земных оков –
Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать
Мою заветную эту
Ночных видений тетрадь…
-------------
И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времён,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещён…
Да не запрещён же, Николай Степанович! Никому не запрещён! Только в слепых сенях символизма-то зачем было долго стоять?!
…Живёт во мне чувство какой-то щемящей жалости к поэту, какая-то сестринская любовь, «утробная жалость», по выражению Цветаевой. Особенно когда смотришь на его фото в форме офицера русской армии и с эфесом сабли в руках. Он держит эту саблю острием книзу, как Александр Невский свой победный меч…
…Написана книга «Оккультные мотивы в поэзии Гумилёва». Радуется ли он там такому вниманию к своей персоне? Не ждёт ли он, что кто-нибудь напишет о нём другую книгу. Скажем, «Православные мотивы в поэзии Гумилёва»…
Кажется, для этого достаточно оснований. Не меньше, чем для первой книги. Только первая – хотя и справедлива по отношению к некой части творчества поэта – почему-то вызывает больший интерес у современного читателя. А вот если написать о православии романтического поэта, нынешнему читателю это будет что канифоль с уксусом, как говаривал Чехов…
Однако же не верю я, что оккультизм в Гумилёве был сильнее православия. Уж слишком лезет он в глаза, чтобы быть глубоким.
Глубоко в нём то, что покоится под спудом этого модного в то время теософского «тайного знания»; этого скопившегося по углам литературных гостиных (особенно «башни» Вяч. Иванова), как ядовитый болотный газ, удушливо нависшего над всеми оккультизма…
…Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать…
Да, будучи в таком тесном кругу литературного общения, зараженного духовной порчей, трудно порвать эту паучью сеть экзотического «поэтического материала». Из этого эзотерического материала многие писатели рождали то, что сегодня называется «литература эпохи модернизма», поэзия Серебряного века…
У кого было более строгое религиозное воспитание, тот сумел вырваться. Говорю о князе Дмитрии Шаховском, принявшем в 1920-е годы монашеский постриг на Афоне и ставшем впоследствии архиепископом Сан-Францисским. В юности он тоже писал стихи, издавал журнал, дружил с Мариной Цветаевой, мечтал о славе писателя. Но в решающую минуту рванулся вперёд безоглядно, «умчался вдогонку свету», отшатнувшись в святом испуге от этой устрашающей «КНИГИ книг соблазна» (представшей ему в духовном видении), списки которой пополняются изо дня в день сочинениями заблудившихся и не нашедших Света. И ведь нашла же его слава писателя. Не потерял он своего таланта, не закопал в землю, как лукавый раб, но возвратил Хозяину и Дарителю ещё большее, чем было ему дано...
Если ходишь по земным дорогам,
Светлый дух в тебе самом – награда.
Не молиться только Богу надо,
Но и жизнью целой петь пред Богом.
Он – Отец. Неси Ему все раны,
Все счастливые свои мгновенья, –
Слёзы человечества и пенье
Одинаково Ему желанны.
(«Песнь Назарета»)
Удивительно ещё то, что отец Иоанн, приняв постриг в августе 1926 года и поступив в Духовную Академию в Париже, прошёл через некое испытание, также связанное с проблемой имяславия. От отца Сергия Булгакова он получил благословение написать богословский доклад на тему «Об Именах Божьих».
«Тема была особенно близка о.Сергию, – писал позднее архиепископ Иоанн Сан-Францисский, – в связи с историей афонских имяславцев и их конфликта с Российским Синодом и Греческой Церковью в 1911 году. Мне самому такая богословская работа была интересна. И я начал готовиться к докладу, вооружась Дионисием Ареопагитом и прочими святоотеческими мистическими трудами, литературой вероучительной, а также и полемикой церковной начала века в связи с афонским делом. Привыкший рассуждать на разные темы и довольно бойко высказывать свои мнения о предметах, я не мог себе представить, что тема об «Именах Божьих» даже не на три, а на тридцать три головы выше моего духовного уровня, человека, только принявшего первый постриг и далеко ещё не вошедшего в глубину человеческого покаяния пред Богом, самосознания, самопознания и верности Богу. И отец Сергий, кажется, не отдавал себе тоже отчёта в этом. В нём ещё было немало, хотя и глубоко верующего и благочестивого, но – с в е т с к о г о ф и л о с о ф а. И он, видимо, был рад найти в моём лице ученика, могущего уже как-то высказываться даже по такому высочайшему вопросу…
Я жил тогда через улицу от Сергиева Подворья в домике, названном студентами «Еродиево жилище». И там меня посетило вразумление, указание и поучение. В т о н к о м с н е я увидел себя вступающим с берега в огромное море, расстилающееся предо мной. Я вошёл в него и шёл в нём… Но в о д а е г о б ы л а м е л к а, и мне, когда я отошёл от берега, она была только по щиколотку. Я входил в это необозримое мелкое море и – увидал, что навстречу мне, с т у п а я п о в о д е (не погружаясь в неё), быстро идут Ангелы. Лица их были прекрасны и очень строги, и держали они перед собой, в предупредительном, останавливающем жесте, обращенные ко мне ладони. Словно они грозно останавливали меня, предостерегали от дальнейшего ухода в т а к о е море… Я очнулся, взволнованный этим ярким, сразу ставшим мне понятным (разрядка автора. – М.М.) указанием. Мне надо было выходить из этого начавшегося своего м е л к о г о п о г р у ж е н и я в г л у б о ч а й ш и е Б о ж ь и т а й н ы. В умственном богословском спекулировании для меня была тогда огромная духовная опасность. Бог звал меня на путь слёзного, покаянного очищения и молитвенного служения Слову всею жизнью» («Установление единства»).
Ещё более удивительно, что сразу после этого видения духовник, благословивший отца Иоанна на постриг и на поступление в Академию, отозвал его из Парижа в Югославию, где и начался «новый путь» будущего архиепископа.
Судя по всему, иеросхимонаху Антонию (Булатовичу), за пятнадцать лет до того, от той же «духовной опасности» оградиться не удалось…
…Меня втянуло в воронку имяславских споров, и теперь в руки плывет разная информация о них. Встретила стихи Осипа Мандельштама под названием «Имя Божие». 1915 год.
И поныне на Афоне
Древо чудное растёт,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поёт.
В каждой радуются келье
Имяславцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в неё впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.
Это по книге, изданной в Мюнхене в 1967 году. А в моём двухтомнике 1990 года вместо «имяславцы» напечатано «имябожцы». Верен, я думаю, второй вариант: «имябожцы-мужики». Здесь присутствует аллитерация «бож»/«муж», которая могла увлечь поэта. А когда читаешь первый текст, даже не сразу соображаешь: а почему это они именно «мужики»? ведь они монахи, а не мужики. Мандельштам не мог не знать, что это слово на Руси означает крестьянина. И если бы я не знала, что в группу имяславцев вошли почти одни крестьяне, судя по спискам в книге епископа Илариона, то не поняла бы этого стихотворения. Этот вопрос неизбежен у всякого неосведомленного читателя: почему монахи названы «мужиками»? Мандельштам, видимо, знал, что среди них было больше всего крестьян. Поэтому и не мог он написать «имяславцы-мужики», поэт так не скажет. Это, видимо, в Мюнхене внесли «интеллигентскую» правку в его текст. «Мужик» может быть только «имябожцем», а вот интеллигент – «имяславец». Это же звучит в самом языке…
Не знаю, читал ли Мандельштам киевские «Университетские известия» за 1898 год, но сдаётся мне, что ландшафт его стихотворения весьма напоминает это описание: «…Афон достоин …удивления, так как отличается благорастворимым воздухом и украшен изобильной разнообразной растительностью. Он украшен разновидными деревьями, изобилует рощами и пестреет лугами, служит согласно усладе человеческих чувств, особенно когда раздаётся из глубины рощи музыка соловья вместе с монашеским пением, воспевающая и прославляющая Господа»...
Конечно, русских мужиков не сравнить с соловьями (разве что тех двоих, что были из Курской «соловьиной» губернии), но откуда у Мандельштама это «чудное дерево» и «зелёный склон»?..
Помимо всего прочего в примечании к стихотворению сказано: «С главой имябожцев, иеромонахом Антонием Булатовичем, бывшим гусарским офицером в Царском Селе, был знаком Вл. Нарбут».
Гумилёв был знаком с Нарбутом. Следовательно, мог знать и Булатовича. Так что формируется какая-то цепь фактов. Но я не вполне уверена, что мне надо этим увлекаться…»
На этом мой читательский дневник 2005 года обрывается. В 2018 году к этой записи мною сделано добавление, звучащее ныне, в эпоху СВО, как-то особенно актуально, потому что здесь явна роль русской культуры, русского интеллекта в развитии мировой космонавтики, очевиден и духовный приоритет России перед нынешней самодовольной Америкой:
«Что касается судьбы отца Иоанна, можно вспомнить сегодня один замечательный факт, обозначенный в статье современного философа Александра Казина «Русский космос»: «Истинно христианская версия космической темы дана в ХХ веке в трудах выдающего авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. Этот «отец» русской (и во многом американской) авиации, награжденный Государем Николаем Вторым почетным орденом Империи, был глубоко верующим православным человеком. Более того, он был духовным сыном архиепископа Иоанна (Шаховского). Именно по приглашению Сикорского будущий архиепископ Иоанн прибыл в Америку, где занял архиерейскую кафедру. В дальнейшем из-под пера Сикорского выходят несколько замечательных религиозно-философских православных книг, где глубинное проникновение в метафизику бытия сочетается с профессиональным знанием в области естественных наук: «Молитва Господня», «Невидимая встреча», «Эволюция души». (…) Итак, в лице архиепископа Иоанна (Шаховского) и Игоря Сикорского русская православная цивилизация ХХ века имеет своих выдающихся представителей в сфере духовной космологии. Быть может, как раз по их молитвам именно с русской земли был выведен на орбиту первый искусственный спутник, а первым человеком в космосе оказался смоленский паренек Юрий Алексеевич Гагарин, воплотивший в своей личности лучшие качества православно-русского духовного типа».
…И всё-таки в этих старых записях нет ответа на вопрос: знакомы ли были друг с другом поэт Гумилёв и путешественник Булатович?
Тогда, в период своего церковного неофитства (2004-2005 годы), я не озадачилась тщательным изучением биографии опального монаха. Заглянула в неё теперь. И сразу обнаружилось, что Николай Гумилёв не только «с детства восхищался эфиопскими экспедициями» Александра Булатовича, но и «был первым, кто смог повторить» его эфиопский маршрут!
Собственно, об этом маршруте и пишет упомянутый известный критик. Только имя Александра Булатовича он почему-то не упоминает. Может, потому, что имя это присутствует не во всех воспоминаниях об увлечении Гумилёва Африкой…
«Николай Гумилёв открыл для русской поэзии Африку, и откровенно ввел её в русскую поэзию, тем более, он не просто фантазировал об Африке, но побывал там четыре или более раз, по несколько месяцев. В представлении многих читателей и знакомых поэта весь Гумилёв был неким “открывателем Африки”. Его абиссинские поездки стали символом Гумилёва, его опознавательным знаком – в сознании читателей-современников, в критических отзывах, в самом облике поэта, в восприятии его стихов, в его литературном и окололитературном быту. “Гумилёв перешел в африканское подданство”, – иронизировал Александр Блок. Но ведь и на самом деле, Африка изменила и его поэзию, и его отношение к жизни. “Русско-эфиопским поэтом Гумилёвым” называли его друзья-поэты. Некий путешественник по Африке появился и в рассказе Владимира Набокова (“Звонок”), написанном много лет спустя после африканских путешествий Гумилёва, но случайно ли имя путешественника было – Николай Степанович? Миф о Николае Гумилёве, как первооткрывателе Африки в русской литературе держится стойко и до сих пор. Да и миф ли это? Его Африка оказала влияние и на всю русскую литературу» (В.Г. Бондаренко «Африканский рай Гумилёва»).
Разумеется, если речь идёт о литературе, то тут всё верно – Гумилёв первооткрыватель. На русскую литературу оказала влияние именно «его Африка», его доклады среди поэтов, а не отчёты Александра Булатовича в Русском Географическом Обществе.
И всё-таки странно, что Евгений Сенигов упомянут, а Булатович – нет. Столько предположений выстроено вокруг фигуры Сенигова, с которым дружил Булатович, а о том, что Гумилёв восхищался последним и поехал в Африку в том числе потому, что хотел повторить его маршрут, – ни слова… Невозможно же поверить, чтобы Гумилёв не говорил с Сениговым о Булатовиче. Если возникает в гипотезе фигура Сенигова, то вспомнить о Булатовиче для подтверждения этой гипотезы, как говорится, сам Бог велел… Оба были помощниками императора Менелика II, оба командовали отрядом у Вальде Георгиса, оба пытались создать православную общину («демократическую коммуну») в Каффе.
Почему же автор уклоняется от упоминания имени знаменитого путешественника Александра Ксаверьевича Булатовича (впоследствии иеросхимонаха Антония)?
Размышляя над этим, приведу здесь фрагмент из книги Валентина Пикуля «Гусар на верблюде». Это небольшой рассказ из серии исторических миниатюр писателя, способный подвести нас к догадке о причине молчания литературного критика:
«…Шли годы, но я не забывал о Булатовиче, не в силах совместить воедино баловня аристократического Петербурга с его распрями на святой Горе. Наконец, выяснил, что за год до революции Булатовича нашли убитым выстрелом в спину (!) в своём имении на Украине. Но… опять «но», все запутывающее. По другим известиям, Булатовича видели в Одессе 1918 года, живым и невредимым, а куда он потом делся – это вы можете гадать, сколько вашей душеньке угодно.
– Не человек, а какая-то загадка, – говорил я тогда.
Догадываетесь, как я обрадовался, раздобыв солидную книгу самого А. К. Булатовича «С войсками Менелика II», изданную в Петербурге в 1900 году; на обороте титульного листа имелась отметка: «Печатано по распоряжению Военно-Учёного Комитета Главн. Штаба». Я мог бы на этом и смирить своё любопытство, если бы мне не подсказали, что имя Булатовича до сих пор пользуется народным почётом в Абиссинии, как тогда называли нынешнюю Эфиопию… Вот тут я возмутился! Почему, чёрт побери, русских людей помнят за рубежом, а у себя дома их позабыли столь прочно, будто их никогда не существовало? Я уж молчу о Европе, но вся Азия, даже Африка тоже наполнены русскими именами, произнося которые, тамошние жители с уважением снимают шляпы… Нельзя нам забывать о Булатовиче!»
Пересказав всю известную ему историю жизни этого «легендарного человека», Пикуль завершил свою историческую миниатюру в том же слегка ироничном тоне, в каком и начинал свой рассказ:
«В своем имении он успел только поправить могилу покойной матери, а рано утром Булатович был найден убитым выстрелом в спину – такова версия. Очевидно, кому-то было очень нужно, чтобы его на этом свете не стало. Все бумаги Булатовича свалили в сельскую церковь, а потом и сожгли вместе с церковью. Впрочем, как я уже писал вначале, Булатовича будто бы видели потом в Одессе, как будто бывал он замечен в форме полковника, и при ставке Деникина… Опять версия!
Как много домыслов вокруг этого незаурядного человека!
Неожиданно меня пронзила догадка: разве не мог Булатович вернуться в Абиссинию-Эфиопию, где его многие знали и уважали, где у него был сын Василий Александрович, получивший образование в России, как и очень многие эфиопы в ту давнюю пору.
Я извещён, что до недавнего времени, нам уже близкого, в Эфиопии еще проживало немало людей, получивших в России военное и университетское образование, и они, эти люди – совсем недавно! – рассказывали нашим журналистам:
– Честно говоря, нам ведь нелегко забыть прошлое! Особенно грустно зимою… Ваши курские соловьи перелетают каждый год из России зимовать в нашу страну, и, когда мы слышим их пение, невольно вспоминаются молодость, русская жизнь, широкие пиры в застольях, и нам… нам хочется говорить по-русски!
На этом я и желал бы закончить свой долгий рассказ, если бы не странное письмо от читателя Г. Г. Афанасьева из села Константиновки Николаевской области. Он прочел мою миниатюру о вольном казаке Ашинове и сообщил следующее: «В селе Васильевке Белогорского района Крымской области живет (если верить его словам, а я слышал это сам от него) потомок легендарного А. К. Булатовича, работает он вроде бы агрономом в колхозе имени XXII партсъезда…» (В.С. Пикуль «Гусар на верблюде»).
Думается, на фоне такой литературной анекдотичности портрета неуловимого гусара-монаха Булатовича упоминание его в ЖЗЛ-овской книге о Гумилёве было бы чревато снижением пафоса, коим окружена здесь личность поэта:
«Родное в гумилевской сакральной географии постигается через вселенское, Русь-Россия – через мировую культуру. Русская культура сосредоточила в себе модели различных культур, различные культурные парадигмы. Сердце России в стихотворении Н.С. Гумилёва «Наступление» названо золотым (Золотое сердце России / Мерно бьётся в груди моей). В записных книжках А.Ахматова отмечала: «Сколько раз он говорил мне о той золотой двери, которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 году, признался, что золотой двери нет. (См. «Пятистопные ямбы».) Это было страшным ударом для него». Золотая дверь как религиозный символ связана с мистическим посвящением и, одновременно, с вечно женственным началом мироздания. После насыщенных и ярких странствий под чужими небесами именно Россия оказалась для Гумилёва заветной золотой дверью, ведущей к Индии Духа. Россия понимается как пространство духовного змееборчества, небесными покровителями Руси-России в произведениях Гумилева предстают герои-змееборцы: Вольга, св. Георгий Победоносец, Михаил Архистратиг».
Ничуть не усомнившись в справедливости этих слов, всё-таки завершу свои заметки предположением, для которого не нашлось места в процитированной публикации известного критика: а не встречался ли Гумилёв с Булатовичем в Эфиопии как раз в то время, когда поэт, по гипотезе автора, путешествовал в компании с Евгением Сениговым?
Очень уж удивительно такое совпадение: в 1911 году, когда Гумилёв находился в Аддис-Абебе, в Африку внезапно отправился и отец Антоний Булатович.
«По совету Иоанна Кронштадтского он отправился в Грецию, на святую гору Афон, в русский скит. Вёл жизнь замкнутую, одинокую, по его собственным словам, "не зная, что делается на белом свете". А в самом начале 1911 года он неожиданно снова уехал в Эфиопию».
И ещё одно: Николай Гумилёв направляется в Африку в качестве руководителя экспедиции (состоящей из двух человек) именно в 1913 году, когда иеромонах Антоний уже был изгнан с Афона и больше не мог ни проповедовать, ни путешествовать. Таким образом, поэт становится единственным в России человеком, способным продолжить дело исследователей Эфиопии Булатовича и Леонтьева. К нему и обращается за помощью Академия наук (Музей антропологии и этнографии).
А жизненный путь Александра (Антония) Булатовича продолжал волновать его современников причудливой непредсказуемостью и противоречивостью.
«В архивах до сих пор не удалось найти документов, объясняющих, почему он летом 1900 года был направлен на Дальний Восток, в Порт-Артур, "для прикомандирования к одной из кавалеристских или казачьих частей". В то время в Китае шла война, вспыхнуло так называемое "боксёрское восстание". Булатович участвовал в 27 сражениях, проявляя чудеса храбрости. Перед Александром Булатовичем, уже ротмистром лейб-гвардии гусарского Его Величества полка, открылась великолепная перспектива по службе. Его называли "баловнем аристократического Петербурга". С его именем, как писал один из журналов тех лет "соединилось представление о безудержной удали и весёлой жизни богатого гвардейского офицера".
И вдруг произошло совершенно странное, необъяснимое. Булатович по "семейным обстоятельствам" увольняется в запас и… постригается в монахи. Толки об этом ходили разные. Говорили, что произошло это под влиянием проповедей знаменитого Иоанна Кронштадтского. Другие видели причину в неразделённой любви. Третьи – в психологическом срыве. После пострижения Булатович получил новое имя – отец Антоний».
Но и на Афоне он не нашёл покоя и умиротворения. Где бы он ни появлялся, он становился лидером, ведущим за собой. Однако на Афоне его лидерские способности оказались лишь соблазном для многих.
Уехав с Афона в Эфиопию в 1911 году, он, по свидетельствам исследователей его биографии, намеревался основать там русский православный монастырь, однако не получил должной поддержки от своего друга Менелика II, тяжело заболевшего, но сумел построить в Аддис-Абебе часовню на территории русского посольства. В середине ХХ века она была разрушена, совсем недавно её восстановил российский путешественник и писатель священник Фёдор Конюхов. На сайте «Православие.ру» о его путешествии в Эфиопию в 2011 году было сказано: «…отец Фёдор намерен повторить маршрут Александра Булатовича, который всегда был примером для отчаянных храбрецов. Этот легендарный офицер, дипломат, путешественник и религиозный деятель XIX века сыграл важную роль в отстаивании независимости Эфиопии».
Политкорректная формулировка («религиозный деятель XIX века») всё же противоречит истории, поскольку Булатович принял монашество в начале ХХ века и как религиозный проповедник стал известен лишь в начале 1910-х годов. И это ещё раз подтверждает, насколько неоднозначна роль его в религиозной и культурной жизни двух стран. Можно даже сказать, что для Эфиопии эта личность более значима, нежели для России…
«Еще в XII веке интересовались в России далекой африканской страной, а с середины XVIII века ее древний язык геэз стали изучать. В XIX веке эфиопский язык изучают в Петербургском университете, начинаются поездки в Эфиопию многих русских учёных и путешественников, отчёты об экспедициях которых, о жизни и культуре народов Эфиопии широко публиковались. Россия была заинтересована в существовании независимой Эфиопии, и в разгар итало-эфиопской войны Менелик II направляет в Петербург чрезвычайное посольство. Естественно, что передовая общественность целиком поддерживала борьбу эфиопского народа с захватчиками, и поэтому широкий отклик вызвала статья Льва Толстого «К итальянцам» – обличение преступлений итальянского правительства, пытающегося поработить Эфиопию. По всей России собирали средства, и на них был отправлен в Африку медицинский отряд» (В.Г. Бондаренко, «Африканский рай Гумилёва»).
Здесь критик как раз мог бы вспомнить о том, что именно в этом медицинском отряде находился и офицер Гусарского лейб-гвардии Императорского полка Александр Булатович, личностью которого впоследствии восхищался Николай Гумилёв. Ведь любовь поэта к Африке началась не только с разговоров с Вяч. Ивановым, но, может быть, в большей мере с интереса русских учёных и путешественников, в том числе Александра Булатовича и Николая Леонтьева, к культуре народов Эфиопии.
«О сражающейся Эфиопии знали, говорили все мыслящие люди, и она не могла не попасть в поле внимания Гумилева…», – пишет автор. И затем добавляет ещё одно из своих предположений: «И ещё: не связана ли тяга поэта-Гумилёва к Эфиопии с именем Пушкина? Как известно, прадед великого поэта, сын одного из правителей северных районов Эфиопии, был пленён турками, попал в Стамбул, а оттуда русским посланником был вывезен в Россию, где Пётр I нарек его Абрамом Петровичем Ганнибалом. Разве не тяготеет гумилевский стих к пушкинскому? Возможно, ему хотелось ступить на землю предков Александра Сергеевича?»
А я опять вспомню здесь, как в своё время Валентин Пикуль писал, что Булатович «усыновил» эфиопского мальчика, найденного израненным на берегу озера, и привёз его в Петербург, вполне допуская, что кто-то из его обрусевших потомков станет великим для России поэтом. Впрочем, для наглядности лучше привести этот фрагмент:
Булатович однажды поджаривал на ужин мясо на ослином жире, когда в палатку к нему воины раса внесли мальчика – всего в крови, жестоко истерзанного лесными дикарями.
– Мы нашли его в камышах, – сказали воины, – он лежал возле воды. Судя по всему, ни отца, ни матери он не знает…
С трудом залечив раны мальчика, Булатович испытал к нему трогательную нежность и сказал Залепукину:
– Я назову его Васькой… будет он Василием Александровичем, и пусть он станет для меня родным сыном.
На голове «сыночка» он остриг два вшивых пучка волос, снял с его шеи нитку глиняных бус, средь которых торчали два крокодиловых зуба. А на картах Африки, там, где находится залив Лабур, выступающий в синеву озера Рудольфа, вскоре появилось новое географическое название – Васькин мыс, знай наших!.. По возвращении Булатовича в Аддис-Абебу «царь царей» наградил его высшим отличием воина – золотым щитом и золотой саблей, а русский посол Власов, что-то хмыкнув, вручил телеграмму:
– Военное министерство спешно отзывает вас на берега Невы, и я подозреваю, что вас ожидают некоторые неприятности…
19 июля 1898 года Александр Ксаверьевич был уже в русской столице, одетый строго по форме, и, вызывая удивление прохожих на Невском проспекте, он вел за руку чернокожего мальчика. Знакомым он очень охотно представлял своего Ваську:
– А вдруг он станет Ганнибалом, и в его потомстве обнаружится новый великий поэт, каков был наш Пушкин?
Так что даже и здесь, в поле притяжения «солнца русской поэзии», гусар-монах и поэт-этнограф оказываются неизбежно рядом в сознании наших писателей и критиков.
***
И всё-таки мне удалось найти свидетельства о знакомстве Николая Гумилёва с Антонием Булатовичем!
Приведу обширную цитату из работы кандидата исторических наук Всеволода Абрамова. В статье «Три заслуги Николая Гумилёва» (имеются в виду слова поэта в письме к М. Лозинскому: «В жизни пока у меня три заслуги – мои стихи, путешествия и эта война...») учёный пишет:
«С историком Всеволодом Александровичем Борисовым я познакомился и подружился, когда мы учились на историческом факультете Ленинградского университета. Он был племянником двух писателей Катаевых – братьев Валентина и Евгения. Последний был больше известен как Евгений Петров – соавтор Ильи Ильфа в романах “Двенадцать стульев” и “Золотой телёнок”... У нас с Всеволодом было много общего: мы горячо любили русскую историю и армию. Всеволод собирал образцы армейской формы, знаки отличия, награды. Позже он написал и издал книгу о наградных знаках Советской армии. На втором курсе Всеволод подготовил исследование о неизвестном тогда русском путешественнике по Африке (Абиссинии) гусаре и монахе Александре Ксаверьевиче Булатовиче. Там он занимался не только географическими исследованиями и топографической съёмкой, но и военной разведкой, выполнял и дипломатические поручения. В связи с этим его лично принимал и инструктировал Николай II. Кстати, в романе “Двенадцать стульев” есть рассказ о гусаре-схимнике (монахе) “графе Буланове”, под которым явно подразумевался Булатович. Работу Всеволода Борисова хвалили преподаватели, да и мы, студенты, просили её почитать. Он пытался опубликовать труд о Булатовиче, рассылал его по редакциям, но безрезультатно: очерк не печатали. После этого Всеволод с разрешения начальства отправил его в парижский эмигрантский журнал “Военные будни”, и его там сразу же напечатали – в № 74 за 1965 год. После этого материалы о Булатовиче стали появляться и в СССР, причём иногда со ссылкой на “русского эмигранта В. Борисова”. Поиски наследия Булатовича привели Всеволода Борисова в Пушкин. Зная, что я оттуда, он как-то спросил меня: “Есть ли сейчас в Пушкине Гогелевская улица?”. Так её назвали в 1882 году в честь генерала Г.Ф. Гогеля, начальника Царскосельского дворцового правления в 1865–1877 годах. И хотя впоследствии она стала Гоголевской, первоначально к писателю никакого отношения не имела. Я знал эту улицу с раннего детства, ибо мы жили на соседней улице – Огородной. Там все дома были деревянные с красивыми верандами. После пожаров во время войны мало что осталось.
Всеволод предположил, что дом Булатовича мог уцелеть и там, где-нибудь на чердаке, могли сохраниться его бумаги. Мы отправились в Пушкин и увидели то, что и следовало ожидать: район бывшей Гогелевской улицы представлял собой большой пустырь, заросший высокой травой. Стоял только одинокий двухэтажный дом, весь в следах от осколков снарядов. От здания, в котором когда-то жил Булатович, оставался только фундамент. (...)
Вдруг из сохранившегося “покалеченного” дома вышел древний старик. Немного покачиваясь, он шел в магазин с авоськой. Оказалось, что этот дед был здешним старожилом. Всеволод спросил, не знал ли он офицера Булатовича. “Помилуйте, здесь столько офицеров жили в царское и советское время, что и не упомнишь”, – отвечал старик. Тогда Всеволод добавил, что тот офицер-гусар был известным путешественником и тогда его все здесь знали. Дед встрепенулся: “Так это тот, у которого был чёрный мальчик?”. Стало понятно, что старик помнил Булатовича и его приёмного сына – негритёнка Ваську. К сожалению, никаких иных подробностей старик не знал...
Интересен и еще один факт: имя Булатовича связано с поэтом Николаем Гумилёвым. Последний стал постоянно жить в Царском Селе с 1903 года, будучи еще гимназистом. Как раз в это время Булатович уволился из армии и жил с негритёнком Васькой на Гогелевской, а в 1906 году принял монашеский постриг. Трудно представить, что любознательный гимназист Коля Гумилёв, мечтавший о путешествиях и приключениях, не познакомился тогда со знаменитым путешественником. Жили они неподалёку друг от друга. Биографы Гумилёва на этот факт как-то не обращают внимания, хотя Анна Ахматова и поэт-царскосел Всеволод Рождественский прямо пишут, что Гумилёв лично знал Булатовича, и тот ориентировал его на поездки в Африку. Как и Булатович, Гумилёв путешествовал по Абиссинии верхом на лошадях или мулах. Во время своего четвёртого путешествия в 1910 году (уже после женитьбы на Ахматовой) Гумилёв был хорошо принят в Аддис-Абебе императором (негусом) Минеликом II. Когда-то с ним общался и Булатович...»
В заключение автор приводит известные самокритичные слова Гумилёва, свидетельствующие о том, насколько дороги были поэту африканские впечатления: «В жизни пока у меня три заслуги – мои стихи, путешествия и эта война…Стихи не очень хорошие, и меня хвалят за них больше, чем я заслуживаю, мне досадно за Африку. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца».
И актуальным остаётся вопрос автора, завершающий эту статью:
«Не говорят ли слова Гумилёва о том, что историческое значение его путешествий в Абиссинию важнее, чем это принято считать?»
Курянин Борис Агеев, с которым обсуждали мы африканские страницы биографии Гумилёва, выразил важную мысль, о которой не могу здесь умолчать. В ответ на мои сетования о сложности работы с таким «неоднозначным материалом», как биография Александра (Антония) Булатовича, известного в истории русской культуры и как героический первопроходец, и как религиозный бунтарь, Борис Агеев возразил:
«Однако есть смысл говорить о судьбе таких людей, как Булатович и Гумилёв, в разрезе мыслей о предназначении России. Эфиопия здесь лишь удачный пример. Скрытая до сих пор цель России в мире – возродить истинное христианство, православие. И приобщить к нему все прилегающие и дальние народы. Когда эта мысль будет усвоена, становится проще работать со всеми “материалами” и явлениями…»
В годы, когда Николай Гумилёв совершал свои путешествия по Африке, начиная с первого, примерно 1907 года, и заканчивая четвёртым, зимой 1913-го, бывший первопроходец Александр Булатович был уже схимонахом Антонием. И хотя в истории религиозной культуры России он оставил весьма противоречивый след, возглавив имяславский бунт на Афоне и написав книги, объявленные еретическими, всё-таки есть смысл говорить о судьбе таких людей.
Потому что значимость их географических открытий для России нельзя переоценить!
А что касается религиозных заблуждений, то и мыслителя Толстого можно в оправдание им вспомнить. Вот, к примеру, митрополит Константин (Горянов), размышляя о значении Православия для русской культуры, писал: «…Наконец, Лев Николаевич Толстой, отошедший от Церкви в свои поздние годы и померкший творчески, в начале своей литературной деятельности благотворно питался ее соками. И совсем по-древнерусски звучат его слова: «Для нас, с данной нам Христом мерой добра и зла, нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Думается, ради добра и правды и нам сегодня не стоит забывать подвиги людей, когда-то бывших первопроходцами на путях, сближающих христианские народы и страны.
Марина Маслова (Курск)