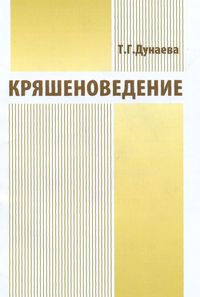 В декабре прошлого года в столице Татарстана, в издательстве Казанского государственного университета культуры и искусств, увидела свет работа профессора Татьяны Григорьевны Дунаевой "Кряшеноведение: библиографический указатель".
В декабре прошлого года в столице Татарстана, в издательстве Казанского государственного университета культуры и искусств, увидела свет работа профессора Татьяны Григорьевны Дунаевой "Кряшеноведение: библиографический указатель".Как сообщает наш корреспондент в Казани, из-за мизерного тиража, составляющего всего сто экземпляров, книга распространяется, главным образом, "из рук в руки", по причине чего достать ее составляет проблему даже для специалистов. Это явно несоразмерно тому интересу, который проявляется в настоящее время к научному осмыслению "кряшенского вопроса".
Работа Т.Г.Дунаевой представляет собой первое в своем роде библиографическое издание, где содержатся ссылки на около 1900 публикаций - от газетных статей до фундаментальных трудов, в той или иной мере касающихся истории и современного состояния кряшенского народа. При этом обращает на себя внимание их значительный временной разброс - от девятнадцатого века до 1 марта 2008 года.
В предисловии книги автор-составитель, используя образное выражение выдающегося библиографа прошлого В.Г.Анастасевича, отмечает, что в то время, как интенсивно создаются библиографические указатели по татароведению (и, прежде всего, по истории татарского народа), "литература по кряшеноведению затерялась в огромном массиве этой печатной продукции "подобно покойнику на пространном "кладбище" информации". Она утверждает, что малоизученность истории кряшен способствует распространению ложных представлений, будто история кряшен начинается только с середины восемнадцатого или, того хуже, с середины девятнадцатого веков.
В связи с этим Т.Г.Дунаева поставила целью "собрать по крупицам" в своем библиографическом указателе "весь печатный материал, в какой-то степени имеющий отношение к кряшенам, и представить на суд читающей публики в систематизированном виде с надеждой на появление в будущем желающих исследовать эти проблемы". Следует признать, что в значительной мере ей удалось это сделать, хотя, конечно же, охватить "с первого захода" весь огромный массив литературы по "кряшенскому вопросу" оказалось делом неосуществимым. Впрочем, как отмечает автор-составитель, она и не претендовала на исчерпывающую полноту ее отражения. Кроме того, Т.Г.Дунаева сама ввела некоторые ограничения: например, в указателе не отражена "художественная литература о кряшенах некряшенских авторов". Так или иначе, но имеющиеся пробелы и некоторая путаница в идентификации авторов публикаций вовсе не умаляют общих достоинств книги.
Ссылки на публикации, затрагивающие различные аспекты кряшеноведения, сгруппированы по десяти основным тематическим разделам: "Этноконфессиональная группа кряшен в современном социокультурном пространстве Республики Татарстан", "Народно-культурные традиции кряшен. Песенно-художественное творчество", "Говоры и обряды. Традиционная одежда", "История православия в Волжско-Камском регионе и остатки языческих (древних народно-тюркских) верований у кряшен", "Этнография и история кряшен", "Кряшенские села и деревни: история и современность", "Духовная жизнь и религия кряшен", "Просвещение. Народное образование", "Печать. Кряшенские периодические издания" и "Выдающиеся и известные кряшенские деятели". Библиографические описания публикаций даются на языках оригиналов, то есть на русском и татарском, и в редких случаях - "на кряшенском или иностранных языках".
В начале разделов приводятся отрывки из трудов ученых и специалистов, исследующих кряшенскую тематику, причем, порой с противоположными взглядами на ту или иную проблему. Среди цитируемых авторов: Н.Ю.Альмеева, Ф.С.Баязитова, Н.И.Воробьев, М.С.Глухов, Д.М.Исхаков, Ю.Г.Мухаметшин, протоиерей Павел Павлов и другие. В связи с данным обстоятельством создание на базе приводимых выдержек каких-то определенных представлений о предмете исследования, конечно, является делом весьма трудным. Но, в то же время, это позволяет достаточно четко обозначить весь существующий спектр мнений в области кряшеноведения и истории распространения православия среди тюркских народов России.
Особенный интерес представляют собственные мысли автора-составителя книги, изложенные в ее предисловии и послесловии. Так, Т.Г.Дунаева отмечает, в частности, что в условиях происходящей глобализации "невозможен монокультурный идеал страны или субъекта Федерации, тем более на наших пограничных между двумя цивилизациями территориях Евразии". Она считает также, что невозможна и "характерная для классических мусульманских арабских стран моноконфессиональность больших наций (суперэтносов), каковой является татарская нация, в формировании которой принимали участие множество тюркских, финно-угорских и других племен".
Не являясь сторонницей "совершенной" самостоятельности кряшен, Т.Г.Дунаева разделяет точку зрения М.С.Глухова о том, что они являются "народом в народе", то есть, "будучи самостоятельной этноконфессиональной группой, входят в состав суперэтноса "татары". При этом она оспаривает теорию историка Д.М.Исхакова, отмечая, что кряшены не могут быть субконфессиональной группой татар, "ибо таковой могут стать только сектанты по отношению к материнской религии, как соотношение частного к общему". Для кряшен же, согласно целому ряду научных исследований (ссылки на которые в изобилии присутствуют в библиографическом указателе), ислам "материнской религией" никогда не являлся.
Однако многие татары-мусульмане упорно игнорируют доказывающие это факты, называя кряшен "крещеными татарами" ("чукынган татарлар") - термином, который приобрел у них резко отрицательное (почти ругательное) значение. В связи с этим Т.Г.Дунаева приводит один весьма интересный, но малоизвестный факт. "По-видимому, - пишет она, - содержащийся в основе термина "чукынган татарлар" большой негатив вынудил кряшен Казани и близлежащих районов, начиная еще с середины XIX в., обряд крещения ребенка называть другим словом - "чумылдыру" (водное крещение). Среди кряшен восточного Закамья, которое находилось достаточно далеко от Казани, всегда обряд посвящения ребенка Богу назывался и называется крещением ("чукындыру")".
Автор-составитель "Кряшеноведения" подчеркивает, что сами кряшены считают для себя оскорбительным, когда их называют "крещеными татарами", так как "татары себя считают моноконфессиональным исламским народом, ставят знак равенства между этнонимом "татары" и конфессионимом "мусульмане", тогда как у кряшен в генной памяти ничего нет от ислама, они это чувствуют интуитивно". Понятно, что ни один уважающий себя кряшен не согласится и с ролью "предателя" или "блудного сына, по недоразумению своему исшедшего из ислама".
Для того же, чтобы кряшены чувствовали себя комфортно внутри татарского суперэтноса, считает Т.Г.Дунаева, необходимо расширить его рамки и "перестать ставить знак равенства между татарами и мусульманами, признать поликонфессиональность татарской нации". "Моноконфессиональный идеал татарского этноса, - утверждает она, - не позволяет объективно исследовать вопросы взаимосвязей двух цивилизаций: западной, православно-славянской и восточной мусульманско-тюркской".
Если татарская нация считает кряшен своей частью, рассуждает Т.Г.Дунаева, "то закономерно признать, что исконными для татар являются 2 мировые религии". Одновременно она указывает на то, что, помимо кряшен, появились и "современные крещеные татары (новокрещены новейшего времени), прежде всего, протестантского, отчасти католического и православного направлений христианства". При этом Т.Г.Дунаева убеждена, что признание поликонфессиональности татарской нации "должно найти не только декларативное выражение, но и реализовываться во всех сферах жизнедеятельности человека: политике, экономике, культуре и т.д.".
Русская линия
















