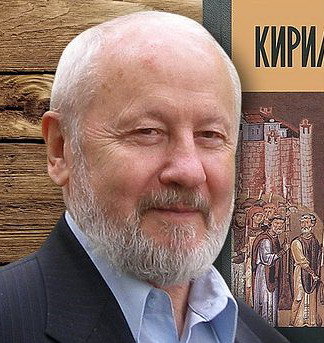Если рассматривать современный моноспектакль, то есть «трибуну одного актёра», как опыт сценической аскезы, то у Виктора Никитина в сегодняшнем российском театре, похоже, мало найдётся или почти не найдётся достойных соревнователей.
Он вступает на ярко освещённые половицы, и доски со скрипом прогибаются под ним. Грузно, мастито покачивается. Придуряться что ли намерен, прицепляться ко всем и каждому?..
Его водит из стороны в сторону.
Он весьма пьян.
Пьян же ото всего сразу - от своей власти, от налитой до краёв телесной силы, оттого, что вернулись сыновья, его гордость, его пышущая здоровьем плоть, его продолжение на земле, а, значит, есть знатный повод для гульбы. Кураж переполняет его, но это лишь для разгону. Назавтра такое намечено продолжение пира, что хоть и спать не ложись! Нет, уже не в стенах и закутах его богатого поместья, а на воле, в дороге, под ветром и солнцем, чтобы вся степь расстелилась скатертью - по самый Днепр, по самое море.
Таков поначалу гоголевский полковник Тарас Бульба, натуру которого, за словом слово, за жестом жест, лепит на порожней, без единой декорации, сцене Виктор Никитин. Таков, - но это откроется далеко не сразу, - замысел артиста о своём герое: через пьяное бахвальство - к небывалому просветлению духа.
Кажется, нет для актёра, даже начинающего, ничего проще, чем изобразить пьяного. Но как показать трезвение, очищающее всё естество человеческое, не впав при этом ни в скороспешность, ни в морализаторское упрощение.
Вот же он, Бульба, - весь на виду: что за лакомство для сцены, для экрана! Но как через одного-единственного показать всё запорожское воинство? Как этого одного оторвать от щедрой, иногда почти чрезмерной декоративности гоголевских описаний - степи, Сечи, войны? Как выйти на сцену один на один с насторожённым залом?
Виктор Никитин убеждает: можно. Кроме слова самого Гоголя ему помогает лишь полудюжина девушек: самой скромной, целомудренной танцевальной и песенной пластикой, самым неназойливым намёком на античный хор.
Нет, это не спор с великим писателем, не вызов ему (по модному принципу: «я - так вижу, а он, пусть и классик, как себе хочет, потому что я пришёл). Это вызов не классику, а времени, которое так долго не пускало «Тараса Бульбу» ни на экран, ни на большую сцену.
Своим моноспектаклем, подготовленным для Московского драматического театра на Перовской, Виктор Никитин доказывает, казалось бы, невозможное: великий эпический характер не стушуется, не поблекнет и на малой сцене.
Через аскетическое самоукрощение, тесными вратами - шагнёт к новой аудитории, к заждавшемуся зрителю. Потому вылепленного Никитиным «Бульбу» с такой великой радостью, как вскоре же открылось, принимает любой дом культуры, даже школьный актовый зал.
...В работе над сценическим воплощением «Бориса Годунова», трагедии А.С. Пушкина, избран ещё более трудоёмкий и прихотливый, чем в «Тарасе Бульбе», рисунок перевоплощений.
Лица и характеры участников действа так «густо» присутствуют в событиях, так остро и противоречиво взаимодействуют друг с другом, что поневоле поражаешься мгновенным чередованиям голосов, темпов, психологических состояний, проносящихся через естество одного и того же исполнителя. И у каждого из этого всесословного множества - свой голосовой штрих, тембр, жест, своя стать, свой телесный разворот, своё внутреннее болевое напряжение, высказанное через прищур, морщину поперёк лба или плотно сомкнутые губы... Голоса в московской толпе, старый летописец, Гришка, Борис, Шуйский, Афанасий Пушкин, Марина Мнишек и Отрепьев, патриарх, тот же Годунов, но теперь с сыном, юродивый в толпе, снова народ, доверчивый, многоглаголивый, легко одуряемый, склоняемый туда-сюда, но в безмолвном прозрении своём - непреклонный: ах, вы так с нами, ну, ладно же...
И от имени всех и каждого говорит и безмолвствует он, Виктор Никитин, народный артист России. Вот когда вдруг различишь сквозь примелькавшееся титулование: да-а, тут есть за что наименовать...
«Бориса Годунова» можно прочитать архисовременно - как политический кивок на длящуюся смуту, на отдельных её фигурантов. Взять хотя бы строки из читаемого со сцены царского монолога «Достиг я высшей власти»:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только
мертвых -
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль
тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я
злато
Рассыпал им, я им сыскал работы -
Они ж меня,
беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я
выстроил им новые жилища,
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот
черни суд: ищи ж её любви.
Но Никитину, подобное прочтение неинтересно, он бы в этих подтекстах и намёках заскучал.
Нет, он целиком уходит туда, в XVII век, чтобы прочувствовать, сопережить мнение о народе самого Пушкина, впервые в творениях поэта выраженное так объёмно, так противоречиво и бесстрашно.
Да, народ что море-океан. В его многоголосии не трудно уловить то пьяное зубоскальство черни, то ропот одураченной толпы, то скулёж нищей братии. А, уловив, обозначить целое как сброд, достойный то понукания, то подкормки. Что и делает Борис.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская,
- такова оценка народа-сброда, навык отношения к нему, внушаемый умирающим царём сыну-наследнику. Высокомерно-презрительное мнение, которому всегда рады подольстить и царедворцы, тот же Шуйский, к примеру:
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна,
суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному
внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А
баснями питается она.
Но сколько раз обманывались оценщики, проглядев, как сброд вдруг непонятным для них ходом преобразуется в собор. И произносит своё, - пусть даже не всем множеством произнесённое, а одним лишь юродом, -отчётливое, твёрдое, режущее, как алмаз, соборное слово: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода - Богородица не велит». Или даже слова не произносит, а соборно безмолвствует. И что может быть красноречивей, этого единодушного отрицания творящейся лжи?
Не так ли и в «Тарасе Бульбе»? Бражный дух запорожской вольницы, бесцельной удали, богатырской похвальбы, обуревающий старого полковника и его друзей-приятелей, мгновенно иссякает, как лишь врывается на Сечь ошеломляющее известие о новых бесчестиях, творимых православному люду. И не узнать вчерашнего буйного Тараса! Как убедительно представляет Виктор Никитин преображение гоголевского Бульбы в народного вождя, вдохновенного воина-пророка!
Но ведь и наши дни суровым способом проверяют народ на прочность и достоверность. Не только народ, как сущность, но и как понятие. Тождественно ли оно тому же «электорату», определению, за которым обнаруживаются мнимые величины? Или тому же «населению», представляющему собой, как видим, безвольный объект бюрократического учёта, именуемого переписью?
Сможем ли мы, не лукавя, говорить хотя бы об одном за последние пятнадцать лет примере открытого народного волеизъявления? Озвучено ли хотя бы одно соборное определение русского народа?
И можно ли, к примеру, намеренное неучастие в выборах всё большего и большего числа граждан страны считать актом соборного безмолвствия?
Казалось бы, каков спрос по всем таким позициям с людей искусства, сцены, даже если кто из них и носит звание «народный»?
Между тем, Виктор Никитин настойчиво ищет ответов. Гражданская нота в его недавних и совсем новых сценических воплощениях обозначена отчётливо, чисто.
В одном ряду с названными спектаклями - композиция «Стихотворения Николая Рубцова», впервые озвученная в стенах Московского Музея Н.М. Рубцова в январе нынешнего года. То вышел своего рода творческий отчёт перед взыскательной аудиторией почитателей лирики поэта.
Посмертная судьба стихотворений Николая Рубцова, чей жизненный путь прервался почти сорок лет назад, поистине поразительна. Даже те, кто близко знал и любил поэта, позднее признавались, что не могли представить себе такого размаха его общенародной известности.
Той невычисляемой известности, что шла от самой почвы, а не от навязанных сверху теле- или радиопозывных. Негромкое, сокровенное слово Рубцова таинственным образом проникало в глубь и в ширь народной жизни. Такое в XX столетии Россия уже знала, и то был Сергей Есенин. Теперь же, ближе к концу века, с не меньшей ответной любовью земля отозвалась на пронзительную мольбу Рубцова, звучащую, как духовный оберег:
Россия, Русь, храни себя, храни...
На его совестливые определения, подобные заветам:
Господь с тобой! Мы денег не берём...
... За всё добро
расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью.
Вот счастливые минуты, когда говорит уже не один человек, не за себя лишь одного, но когда его слово звучит и запечатлевается соборно.
Виктор Никитин издавна прислушивался к звучанию речи поэта - в сохранившихся записях его голоса, в самодеятельном и профессиональном песенном половодье, разлившемся по стране уже к концу семидесятых, в семейном ли кругу, на школьном ли вечере... Его итоговый Рубцов осознанно негромок, даже когда звучат патетические строки «Русского огонька» или «Видения на холме», «Старой дороги» или «О Московском Кремле». Это по-домашнему доверчивый, полностью открытый для ближних своих - ведомых ему или ещё неведомых - какой-то по-особому достоверный поэт. Заветный поэт своего народа.
Виктор Никитин не спешил, но и не опоздал. Его сценический Избранный Николай Рубцов выходит к слушателям и зрителям в преддверии 75-летия со дня рождения поэта.
http://vkontakte.ru/audio.php?id=1103783