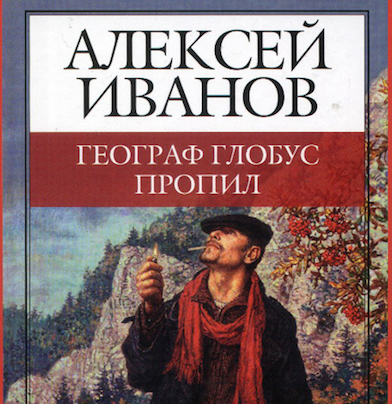Если сравнить послевоенное время от 45-46 годов с нашими «послехолодновоенными» - примерно с 85 года и по сей день, включая ельцинский переворот 91 - 93 годы, когда демократы резко заузили национальный вопрос, и в обществе стала наблюдаться сильная растерянность по этому поводу, то мне всё чаще в это время вспоминались стихи пермского поэта Виктора Болотова «Сельсовет сорок шестого». Вспоминаются и сейчас. Насколько же мы тогда были на двух ногах, выдержав страшную войну, твёрдо стоявшими на своей земле, несмотря на то, что кое у кого были с войны протезы. Вот эти стихи.
СЕЛЬСОВЕТ 46-го
Сельсовет послевоенный!
Пламя памятных годов...
Тут огонь семилинейный
жгли до третьих петухов.
Степь да степь
впотьмах лежала,
волки выли во снегах,
но Совету надлежало
всё обдумать,
что и как.
И, считай, что всё на свете
знали в нашем сельсовете!
Не от умных агитпропов
всяк историю постиг,
географию Европы
тоже знали не из книг.
Уцелевшие от смерти -
только их и не взяла -
семь мозгов и семь кисетов,
семь строителей села.
Сельсовет табак курил,
разговоры говорил.
Тут знакомы - раззнакомы,
кровью сроднены вполне,
обсуждались
Жуков,
Конев -
сослуживцы по войне.
Круто и неоднократно
за каких-то пять минут
политическую карту
перекраивали тут!
Одноногий председатель
проницательно молчал,
а его дружок приятель на Америку серчал!
Самосад в кисет сминая,
заикались и про то,
как нагрянет посевная.
Отвергали:
- Это что!
Только в мировой лавине
бились
в тишине сельца
их военно - полевые
воспалённые сердца!
Шли домой,
скрипя протезом,
семь теней
селом ночным -
мировым противовесом
всем буржуям мировым...
Затянув ремень потуже,
в день вступали трудовой.
На краю беды-бедучей.
На своей передовой.
Поэт родился в 41 году. С молоком матери, как говорится, впитал горечь войны, но удивительно! Эта горечь быстро превращалась в праздник...
... Когда - как праздничное действо -
любой летящий лёгкий миг.
О, это детство,
это детство
в сверкание зёрен золотых...
Просторный, терпкий ветер с поля
и гром комбайнов на заре.
И я - как маленькая доля
в мужицкой доле на земле.
И этого вполне было достаточно, что обрести уверенность в твоём правильном существовании на всю жизнь! И поэтому, наверное, поэт Виктор Болотов всю свою творческую жизнь вёл «провинциальный монолог» на самых крутых и высоких пределах отечественной поэзии, не ощущая себя, разумеется, провинциалом или деревенщиком в поэтическом смысле.
Провинциальный человек,
по географии и сути -
я пригвожден к тебе навек,
периферия дней и судеб.
Морщины врежут на чело
твои тяжелые секунды...
А водка, право, ничего
взамен какой-то там цикуты.
«Провинциальный монолог»
А мне всегда казалось большой несправедливостью то обстоятельство, что по настоящему талантливый русский поэт, проживший на свете более 50 лет, издавший пять поэтических книг, почти не известен всероссийскому читателю, а лишь областному, пермскому, где был признан и любим, но не понят в полном объёме, не оценён по достоинству... даже и после смерти. Дело ещё и в том, что сам поэт не очень-то стремился к популяризациисвоего творчества. Ни один российский журнал, ни одна центральная газета не получала от него стихов, за исключением журнала «Сибирские огни» - по просьбе журнала. С журналом «Урал» - тоже самое, Болотов считал популяризацию своего творчества делом не авторским, а литературно-общественным, когда литературный статус автора определяет литературная критика, но если ей до него нет дела, то стоит ли самому лезть на глаза.
Между тем, все областные профессиональные поэты, издав книгу в области, её же издавали в Москве. Болотов не воспользовался этой возможностью /тогда это не составляло большого труда/ ни разу. Но для него это было, наверное, всё-таки трудней, потому что случай с изданием второй книги /не издавали 11 лет, хотя она была готова через два года после первой/ наталкивает на мысль, что препятствия были и не пускали его, скорей всего, московские внутренние рецензенты: такое было правило - Москва должна была разрешить издаваться даже в области.
Последний сборник стихов Виктора Болотова «Осенняя дорога к дому» был издан в 1991г. к пятидесятилетию поэта как избранное. Но уже в четвёртой книге « В двадцатом веке, в сентябре», изданной в 1989г. появилась следующая тенденция. Вопреки ожиданиям, имея возможность больших пространственных видений, Болотов не пошел далее в глубь и ввысь своих творческих поисков, ощущая, видимо, давление лет, земных забот, сознавая важность близких практических деяний «на огненном поле души», видя себя там, где «деется трезво и люто дело мира и дело войны», поскольку, так или иначе, нравственные, поэтические, технические, наконец, и философские высоты оказались в одном ракурсе проблем- «встали в едином строю и поле и звёздная пустошь». Тянет вниз ещё и эта проблема: «повседневную ношу неся, положением, собственным весом / мы огрузли и на всём и на вся» И куда деваться от того шумного праздника в природе, когда «...река и женщина в реке»! Одним словом, последние устремления поэта были вовсе не в разъятии горизонтов на пути в пространство, как это замечалось ранее, а, скорее, в оконтуривании их. Наряду с итоговым, концептуальным многообразием пятой книги в неё вошли стихи /больше их вошло в четвёртое издание/ написанные давно, но ранее не публиковавшиеся - их немного и не они, - как я уже сказал, являются доминантой, но вносят существенный признак лирической манеры поэта.
В них нет крамолы и суда известным временам, они как бы написаны от простой догадки, пришедшей внезапно, от психологической неустроенности в этом мире, провоцируя нас по-хорошему на некий сдвиг в сторону будущего.
Полутона, размышления, не более. И всё-таки отклонённые не когда, видимо, теми же внутренними рецензентами.
Тоска - абстракция, но есть
в ней тот торжественный оттенок,
что как неслыханная весть
о неких близких переменах.
/1965г./
Написанная без всякого нажима «неслыханная весть» пропиталась тогда некоторыми людьми именно как «неслыханная» что в истинно творческих вариантах всегда вызывало беспокойство в людях принадлежащим к формальным или властным структурам.
Неброские поэтические сентенции тогдашней музы Болотова неумолимы, однако,- к осознанию непрочности той жизни и правды: « Я бреду, обречённо тычась в толпы, в очереди, - к тебе..» к поиску человека среди тупеющей массы:
И странная тяга во мне
к ближайшей душе человечьей,,
опять колыхнулось во мне
случайному лагу навстречу.
Такова обречённость, поэтов всех времён: они всегда о людях думают лучше, чем они есть на самом деле. А быт - он давит и давит... И как сама провинциальная, грубая действительность, некрасивая, но вполне нормальная девушка по прозвищу Камбала находит «своё», предписанное временем и средой, поневоле непорочную невостребованность:
Пытались парни с ней озоровать,
она лишь озиралась воровато
и в девственную падала кровать,
как в детстве падают с кровати.
Ясно, что поэт и сам порой не находит себе применения, чувствует свою не- востребованность:
И с самого утра тоска,
Приятель чувство разделяет,
но эта общность языка
особенно разъединяет.
Попробую - к тебе схожу.
Пожалуюсь на духоту, на скуку.
Прохладную поглажу руку -
« Ох, что за день», - тебе скажу.
И, наконец, поэт срывается до крика, до поэтической эмфазы: ведь его труд, талант, совесть, интеллект - всё невостребованно! И ему кажется, что он добрался до истины
Кряхтит. Вот - грузчик на Парнасе!
При чём тут, право, интеллект,
который, право же, напрасен
в краю ракеты и телег.
...Разъятой жизни животворно
плоть истин, трепетно жива,
сейчас - как в жаркой живодёрне -
до мяса
вся обнажена.
Судьба русских шестидесятников, интеллектуалов были тогда уже не простыми, хотя и показалось им где-то, что настали те времена открытия истин, когда и сейчас до некоторых из них слишком далеко. Но Болотов был истинным сыном своего времени.
Появление в Перми поэта Виктора Болотова, было несколько необычным. Он сразу смутил ровное течение речек и ручейков поэтического Прикамья. В его стихах не было колорита и примет нашего края, что вполне естественно в его положении, но в его стихах не было и его малой родины - Алтая. Мир и природу, деревенский человек от рождения, поживши в Новосибирске, поучившись в литинституте в Москве, он уже воспринимает как-то по городскому глобально, отвлечённо, сосредоточенный линь на поэтической конкретике.
В тепло вечерних фонарей,
в огонь неоновой рекламы,
в прибой вокзальных площадей,
в плащи, такси, регланы
ты просто, как домой, войдешь,
а сердце - давнее припомнит.
Тебя, как город в долгий дождь,
людские толпы переполнят.
Казалось бы, поэт уходит от своей почвенности, что необходима каждому поэту, но дело в другом. Болотов просто избегал той почвенности, которая была в те времена чуть ли не обязательным атрибутом формально, лишь бы заявлена была, но не была истинной у многих поэтов, что принципиально избегал Болотов, ведая то, что провинциальных, областных поэтов провоцируют на дешевую стилизацию тутошней жизни и на идейный и нравственный стереотип любого масштаба.
Пермский поэт Владимир Радкевич, казалось, этого не замечал и настолько овладел местной темой, колоритом, историей, по - настоящему вживаясь во всё, что напутал своих оппонентов высшего литературного ранга - такая провинциальная истинность их тоже почему-тоне устраивала. Поэт, в конце гонцов, может вырасти в любой атмосфере, на любом материале, даже на тюремном.... И тут остаётся одно - не пущать! Что они и делали, пока была возможность, пока поэты не переросли дозволенное, но можно их ещё не заметить или замолчать.
Два разных поэта пошли каждый своим путём, но в одном направлении: путём естественного развития российской словесности.
Уже от ранних стихов Болотова веяло неуютностью и сквозняком жизненных перекрестков.
Суета вокзального мира,
я люблю тебя, суета.
Сколько миру, ой, сколько миру!
Как домой, прихожу сюда.
О, великое чувство общности!
Я до капельки в нём растворен.
Я - столикий, без имени-отчества,
я пришел с четырёх сторон.
Словно вырвался я на волю,
а меня тут давненько ждут...
Погружаюсь в людские волны -
и крути от меня идут.
«Чувство общности» у Болотова было, действительно, глобальным, даже космическим, в чём нам придется потом убедиться.
Но тут надо знать, что у настоящих поэтов «родословная» идёт не от фамильной родни, чем любят у нас хвастаться поэты от земли, а по генетический линии отечественной поэзии. И даже у таких «почвенных» поэтов, как Есенин и Клюев, существовало понятие родства, представляющее собой национальный поэтический генезис. Есенин мыслил себя от Кольцова и Некрасова. Клюев писал « К костру готовясь спозаранку,* гремел мой прадед Аввакум», И в этом аспекте Болотов тоже почвенник, хотя и почвенник почти языческий; "Стою один на диком бреге /С просторным сердцем дикаря".
Национальная первопроходческая дерзость поэта, близкая лермонтовской, хлебниковской поэтически естественна и подлинна, как и почвенна. И какая бы она не была - она привела поэта впоследствии к большим и грустным размышлениям.
«Вот мельница...»
А.С. Пушкин
Узнаю тебя, милая местность,
несмотря, что за давностью лет
обветшала ты, пала в безвестность -
у тебя даже имени нет.
Поздновато я в гости приехал.
Отгремели гармони твои.
Тут один меня только приветил -
желтый клён в одинокой тени.
Прогрессивные комплексы века
стороною тебя обошли.
Помер кто или кто-то уехал
к городам и дорогам большим.
Только холмики мягко светлеют,
возвышаясь, легко шелестят.
Что ж пристанище не опустеет.
Тут, наверное, душ пятьдесят.
Местность эта имеет привязку - вся Россия! Россия 60-70 г, когда началось движение по ликвидации малоперспективных деревень.
Неординарна концепция Болотова в отношении к искусству: «...есть на холсте и дерево и небо, а шелест, блеск и бездна за холстом». То есть там, где кончается художественная предметность и начинается пространство воображения, которое надо увидеть и понять, и защитить от «строгого принципа отражения». Более же определённо и развёрнуто это выглядит так: «Поля моей заботы ещё совсем белы. Еще ни капли пота, ни крови, ни беды. Еще по сути дела не начаты дела, и судьбы, и пределы - над краешком стола». Поэт соединяет доселе не соединённые вещи: стол и пространство, уподобляясь как бы сочинителю судеб, не делая из себя поэта-творца небожителя и, в то же время, подчёркивая несуетность и возвышенность «пространства», где работает поэт. Близко к Болотову, в этом случае, стоял воронежский поэт Алексей Прасолов с попыткой воссоздания больших пространств - с одной стороны; с другой - с некоторым опытом внутреннего философского зрения бессюжетных стихов, лишь от сердца и чувства, но, конечно же, не без ума, как в авангарде.
И не ищи ты бесполезно
У гор спокойные черты:
В трагическом изломе бездна.
Восторг неистовый - хребты.
Здесь нет случайностей нелепых:
С тобою выйдя на откос,
Увижу грандиозный следок
Того, что в нас не улеглось.
Стихи процитированы после их цитирования Владимиром Бондаренко из его статьи « Опалённый взгляд Алексея Прасолова»/ж. «Наш современник», № 7, 2004г./
Этот «авангардизм» двух провинциалов не имел авангардистких целей: это была действительно сколько-то новая реальность, которая в корне отличалась от авангардизма, предложенного впоследствии Михаилом Эпштейном в статье «Я назвал бы это - метабола». Он писал: «Метареализм - это не только «метафизический», но и «метафорический» реализм, то есть поэзия той реальности, которая спрятана внутри метафоры». Итак, вместо традиционной метафоры - расщепление её во имя внутренней свободы в никуда. Формальный строчетворчеекий характер этой поэзии не создал новой возвышенной реальности /заниженной сколько угодно/, разве что вопреки своей же за- данности, оставаясь в принципе формальным явлением.
Появление авангардистов, надо полагать, и отпугнуло Болотова от поисков другого пространства, но любопытно проследить «авангардную» лирику Болотова из его первого сборника « Наедине с людьми», изданного в 1966г., когда авангарда было совсем не слышно, по крайней мере, не было их манифеста.
В любовных стихах «авангардного» толка /они у него все любовные/, прежде всего, нет традиционных встреч и разлук, нет ревности, соперничества, нет обычного весеннего возбуждения, нет соловьев: нет укромных скамеек, нет даже поцелуев: стихи эти несут в себе чувство абсолютно не тронутое суетой!..
Как - эти праздники редки -
твои, любимая, сказанья,
касание твоей руки
и взгляда теплое касанье!
Как воздух тяжек!
Дух разлук
и ожиданья в нем витает,
и слово, сказанное вслух,
уж чуть не формы обретает,
Как ощутимы те пласты...
«Как воздух тяжек», «как ощутимы те пласты» и даже - «дух разлук «... В такой любви нет пустою места: любовью насыщена вся атмосфера. Редчайший дар высокоразвитых натур. Отношения влюбленных настолько возвышены, что мимолетность встречи, имеющая вселенский обзор, становится, как бы единственной целью побыть на этом высочайшем уровне:
«Зажгут огни проспектов и планет. Присядем двое в тишине планеты: Ни прошлого, ни будущего нет. Минута эта Лишь минута эта». «Чудное мгновение», запечатлённое поэтом, важно в духовном, непотребительском аспекте: узнать лишь чувство, побыв на высоте, в обыкновенной обстановке «проспектов и планет»! Этому любовному стихотворению трудно найти аналогию в отечественной поэзии «Демон» Лермонтова - это злой дух! Вселенская любовь Хлебникова ограничивалась земным шаром:» Я волосатый реками»! писал он, не обращаясь к мирозданию, чувствуя лишь глобаль- -ность обозрения. Стих Болотова лёгок и прост с высокими категориями и это - приручение высоких чувств в современном их восприятии. Опрощение без обезличивания, без принижения, но без приземления. Это - новая лирическая информация с удивительными порой, преломлениями высокого и обычного:
Я сплю...
Склоняются ко сну
стихи - собратья наших странствий.
Я замечаю кривизну
меж нами лешего пространства.
Кривизна пространства воспринимается поэтом, как небольшая размолвка в отношениях любимых. И уж совсем необычный семейный разговор:
Живи, безудержно живи -
как, например, живёт лавина! ..
И ты б со мною жизнь делила уже
не в качестве жены,
а - как ущелье иль долина...
В целом же это выглядит подобным образом:
Мои притязанья вселенски -
пространства и пламя Луны,
и шелесты леса, и всплески
звезду отразившей волны
И странно, тревожно и мило
душе постоянство сторон
совсем уж домашнего мира,
где бездна над самым столом.
Поэт вновь соединяет» казалось бы, несовместимые категории: стол и бездну, но от стола в бездну сейчас вдет вся космическая реальность. Вспоминается Прасоловские - и «бездна», и девушка «на откосе». А так же одомашнивание не здешних категорий пространства. Но высокое первопроходство Болотова на этом и качается: слишком он землю любил и природу.
А вот сейчас глаза закрою,
и до мурашек по спине
природа женской теплотою
в затылок нежно дышит мне.
А мне хотелось бы привести несколько строки из заострённого чувства Родины.
Я люблю эти толпы, вокзалы,
где снуют, горячатся, галдят
О, какие слова там сказали
и какие глазища глядят!..
И со всех областных территорий,
всех глубинок, что есть на земле,
я там видывал женское горе -
на мужицком хмельном костыле...
О, несметные лица людские,
лица с тихой заботой в глазах.
Едет, едет и едет Россия
и уехать не может никак..
Стихи писались ещё тогда, когда, когда лица людей были всего лишь «с тихой заботой в глазах». Но Россия «доехала»-таки до «перестройки», которая, так или иначе, ускорила смерть поэта...
11 июня 1994г. поэт умирает. 53-х лет. Рак горла. Подробностей я не знаю, но все предыдущие обстоятельства, кажется, мне известны. И они не столько в том, что пил и курил /причастно к этому больше половины российского населения/, и даже не в том, что был Болотов вечно безденежным человеком, сколько в том, что все литературные и политически события последних лет, где преобладали, в основном, отрицательные эмоции, отзывались в нём исключительно болезненно. Он был из тех писателей, кто не стремился ежедневно куда-то к кому-то идти, что-то делать, помимо своего кровного дела. Дома в окружении своих книг, газет, журналов, знакомых и близких людей ему было легче сохранить своё поэтическое «я». И он принципиально нигде не работал, получив право на это после вступления в Союз писателей.
Но в обыденной жизни Болотов не был нелюдимом. С людьми поэт встречался охотно и часто. Но он не любил слово «друг»: он говорил, что есть хорошее слово - «приятель». Лицедейства вообще не терпел. Он умел как-то очень ровно относиться и к известному человеку, и к простому: у него за столом все были равны. И выпивка при этом не всегда была помехой или губительным фактором. Желающих «посидеть» с Болотовым находилось всегда много, ибо разговор с ним никогда не был рядовым- разговором. Высокие и рискованные темы не казались «перебором» в обществе этого редкого человека. И люди шли к нему не просто поговорить, они шли как на исповедь к духовнику, хотя сам Болотов играть подобную роль не стремился. Просто он не умел лгать, заискивать или возвышаться, восседать; он никогда не хотел быть выше или ниже собеседника, умел слушать и понимать больше, чем говорить. Людям как бы представлялась возможность исповедоваться перед понимающим человеком и они исповедовались. Больше или маленькие люди, большие или маленькие проблемы для него не существовали. Каждый был для него дорог.
Болотов сразу выходил из себя, когда доверительность и исповедальность кем- то нарушалась, кто-то начинал лукавить, что кончалось нередко скандалами.
Кто у него только не бывал; и солдаты, и буровики, и строители даже бывший священник не однажды спешил к нему. И, конечно же, вся пишущая братия. И все литературные семинары от московких гостей до кудымкарских заканчивались зачастую в квартире Болотовых. Многих известных и неизвестных литераторов приютил у себя в своё время Болотовы: Виктор и его жена Вера Ефимовна. И даже самый ужасный период известных реформ, и преобразований в э экономике и культуре нравственно не сломил этих людей. Они стали неизмеримо бедней, но души их сделались ещё чище. Считаю уместным привести здесь письмо Веры Ефимовны, адресованное мне - старое письмо. « Дорогой Герман Иванович, выполняю просьбу Вити, высылаю журнал. Витя уехал в Березники читать стихи. Уехал совсем больной и со старыми деньгами. Я места себе не нахожу. У нас тут у всех жизнь идёт сложная и тяжелая. У меня была вчера подруга. Она хотела весной покончить с собой. Я тоже. Зимой. Но, слава Богу, живы мы. Небесные силы нас берегут. Да поможет всем людям наш Спаситель. Пусть всем будет хорошо.. Большой привет от меня и Виктора Гале. Герман, сообщи мне, как дела у сына младшего? По возможности позвони. Или напили. Я молилась за него. Герман, спасибо за всё тебе и Гале. Вера.»
И здесь не различишь: где горе своё, где чужое. Где слабость, где решительность. Такова суть наших женщин, наших людей, которых бьют сейчас в первую очередь, выбивают лучших. И всё ж не к смерти они, наверно, стремились, а к Богу. К кому больше- то? Кто может сейчас защитить? И что, интересно, читал. Болотов в Березниках с больным горлом? Может, вот это:
И где б ты, душа, не бродила -
в потёмках,
средь белого дня,-
работа меня приютила,
работа согрела меня.
Я ей, как щитом, укрывался,
сжимая топор и кайло,
я ею одной согревался -
пудами её и кило.
И я пот ресал кулаками
средь стужи и лютой жары.
Её философские камни
неслыханны и тяжелы. ,
Уж так -
до предсмертного пота,
знать, выпало...
Так и дыши.
И вновь закипает работа
на огненном поле души.
А может, это:
Поле -полюшко!
Поле русское, русское до костей!
До костей, пожелтевших и белых,
безразличных к славе своей...
Не помню... кажется, это была последняя встреча. Приехав к Болотовьм, я застал Веру Ефимовну плачущей: - Витя ушел искать водку, наверно, к нашему базару к барыгам... Я не могла его удержать... Время 10 часов, сейчас там одни жулики! Сходи, Герман, может найдёшь его.
Минут через десять я его встретил на безлюдной широченной улице, припорошенного снегом, идущего к дому как-то размеренно, обречённо. Что-то неизбывно горестное сквозило во всём его облике. Он не удивился, не обрадовался встрече, а лишь слегка потеплел и на мой немой вопрос доверительно сказал:
-Страну жалко... Я хотел посмотреть в глаза всей этой мрази.
-Витя, да они убили бы тебя за один этот взгляд, да и не барыги во всем виноваты.
-Знаю, знаю... Гори они огнём... а убили - я бы спасибо ска зал.
Смерть Болотова часто объясняют именно подобными психологическими эксцессами, вином, куревом, но специалисты- медики вино и курение не упоминают в причинах возникновении рака. Так, в главе «Отношение между раком и личностью» /ж. «Звезда» № 4, 1994г. Геррет Портер, Патрия Норис «Я выбираю жизнь»/ говорится: «До недавнего времени проводилось очень небольшое количество преморбидных исследований, а так же большое количество ретроспективных исследований и наблюдений, подтверждающих ряд свойств, внутренних установок и взглядов личностей, предрасположенных к ним установок и взглядов личностей, предрасположенных к раку. Большинство из них указывают, что самую большую роль /!/ в этом играет депрессия и синдром беспомощности - безнадежности. Наряду с этим, во многих случаях имеет место какая- нибудь значительная потеря в детстве или незадолго до заболевания, а иногда и та и другая ситуации».
«Незадолго до заболевания». Да вся жизнь Болотова, исключая творческие обретения, состояла из потерь, вплоть до самой значительной потери - потери Страны! Эту потерю нынче, как ни когда раньше, ощущают, все униженные и оскорблёные труженики культуры, науки, литературы /бывшие, так сказать, труженики/, среди которых рак сейчас находит свои новые жертвы, новые «личности»; авось их труды и сочинения не выплывут на поверхность российской действительности, не сработают, не дойдут до сознания соотечественников,которых зомбируют тем временем телеэкраном или другими массредствами, что и требуется защитникам «свободы» и «прав человека».
Но я верю, что русский читатель не забудет одного из малозаметных некогда, скромных сокурсников Николая Рубцова и Анатолия Передреева по литинституту - поэта Виктора Болотова, родившегося на Алтае, прожившего в Перми более тридцати лет /самую содержательную часть жизни и творчества/, скромного, но достойного и самых лучших литературных имен,писавшего несколько наособинку, но талантливо и по-русски!..
Когда-то, когда-то
мы скажем -
Какие там даты!
Мы жили, мы были!
Мы больно и страстно любили.
И лес мы рубили,
и горы дробили,
и горькие гимны победно трубили.
И вот мы ушли...
Но остались навеки
рожденные нами
сады,
города,
человеки!
Мы жили, ми были...
Насколько же точен поэт и непререкаемо достоверен, несмотря на этот его журналистско-газетный слог, как и в следующем стихотворении:
И я творил газетный эпос
и в меру силы воспевал,
что и само собою пелось
без восклицаний и похвал.
И что само собою было
твореньем высшим и живым -
без риторического пыла,
а - бытием одним своим.
Индустриальные гиганты,
когда окажетесь вблизи -
Отнюдь не снимок элегантный,
кричащей с первой полосы.
А - сгусток и ума, и страсти,
разумной воли грубых рук,
вот так же
вписанный в пространство,
как поле, небо, дес-вокруг.
И мне сразу вспоминается статья Владимира Бондаренко о Прасолове, о которой я уже говорил.
« Он,/т.е. Прасолов-Г.М/ как никто другой, лучше Заболоцкого, лучше Вознесеноюго мог по-настоящему оживлять, одухотворять индустриальный пейзаж».
А люди в поисках добра-
До сердца добрались руками.
Когда ж затихнет суета,
Остынут выбранные недра,
Огромной пастью пустота
Завоет, втягивая ветры.
И кто в ночи сюда придёт,
Услышит: голос твой не злоба.
Был час рожденья. Вырван плод,
И ноет тёмная утроба.
Скорее всего, это постиндустриальный пейзаж. Бондаренко пишет об этих строках /не полных - Г.М./: « Здесь уже какая-то индустриальная мистика, сакральная пляска дикарей после крушения сильного противника». Да, Прасолов предчувствовал наше «дикарское» время, чуть ли не в планетарном масштабе, ибо от его строк веет вселенской пустотой. Его постиндустриальный пейзаж философски глобальней, глубже и трагичней индустриального пейзажа Болотова. Болотов неисправимый коллективист-государственник Ему и другим легко бьето жить и творить тогда, когда всё «само собою пелось». Коммунисты в большинстве уже задумали, наверно, отречься от власти, но государственная машина всё ещё сама собой крутилась... Он слишком верил государству, которое его предало, чего он не пережил. Чего-то не пережил и Прасолов. Они очень близки в творчестве. Так же оба заядлые газетчики многотиражек, иногда областных газет. Из земных работ они больше ничего, можно сказать, и делать-то не умели. Но Прассолов дважды был в заключении, что сказалось на его грустнейшей философии, на трагических нотах. Болотов служил на флоте и был коллективистом и патриотом в простых, верных и честных солдатских понятиях. Кстати в современной русской литературе было три «старших матроса»!
Это - Василий Шукшин, Николай Рубцов и Виктор Болотов. И как же они схожи в простом солдатском патриотизме, если копнуть!..
Очень странным могло показаться то обстоятельство, что умирающий поэт Виктор Болотов не выражал, собственно, никакого трагического беспокойства, хотя в жизни своей бывал человеком довольно неуравновешенным, а порою - даже капризным. Но разве каприз это:
- То покурить попросит, но не покурит, - рассказывала его жена Вера Ефимовна, - то выпить попросит /друзья придут/, но не выпьет... Молчит, смотрит... отвернется, опять посмотрит...
Что он видел-не видел? Что слышал-не слышал? Что сказать- не сказать хотел?.. Ни лишних вздохов, ни стенаний, ни просьб. Какое-то странное умиротворение. Пусть простит меня Бог за такое сравнение, умирающего человека в страшной агонии, при медленном задыхании: рак горла. Что Это мужество? Наверно больше, чем мужество. Поэт понимал ещё, что удалось таки дотащить до гроба самый тяжкий на свете груз /вспомните наших святых со своими веригами/ - чистоту собственной души и веру в своё назначение, о чём подлинные поэты очень ревностно заботятся всю жизнь, поскольку без этого не бывает настоящих высоких художников. Не соблюдая, подобного, можно выдать много талантливых стихов, издать много интересных книжек, но так и не поднять единственного сокровенного слова, которое и является поэзией: остальное: суета сует. И совсем не зря «проговорился» некогда поэт Николай Рубцов в одном стихотворении:
Я клянусь: душа моя чиста!
Пусть она останется чиста
до конца, до смертного креста.
А когда это удаётся поэту - он умирает спокойно. Он к этому готовится всю жизнь, едва осознав себя.
Положите меня в русской рубашке
под иконами умирать.
Писал Сергей Есенин, когда до смерти ему было далеко, готовясь умирать достойно: русская рубашка, белая рубашка- символ чисты.
Виктор Болотов написал для себя в двадцатилетнем возрасте эти строки:
Каждый день у меня умирают стихи.
От великой любви умирают.
От высокого горя,
от подлой тоски,
от всего, от чего умирают.
Ясно, свою смерть Болотов /знал, что придёт когда-нибудь/ представлял не иначе, как «высокое горе», где «высота» по - болотовски традиционна, в характере лермонтовской, допустим, космической и нравственной высоты: холод, чистота, отрешенность от быта. В этом суть человека-поэта, живущего не суетно и праведно. И, наверное, не случайно в 94-м году в журнале «Русская провинция» мою небольшую тогда статью о нём озаглавили «На смерть поэта». Хотелось бы добавить, что так спокойно и по деловому даже говорить о смерти мог, наверное, только верующий человек... Но был ли Болотов верующим - я точно сказать не могу: мать его по его же рассказам верующей была...