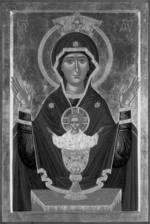Несмотря на то, что история явленной Казанской иконы Божией Матери (первообраза) достаточно хорошо изучена и отражена в научной и церковной литературе, её местонахождение на протяжении уже более полутора веков продолжает оставаться предметом дискуссий.
Согласно официальной церковной версии, явленная икона постоянно пребывала в г. Казани - в Казанском Богородицком женском (девичьем) монастыре (КБМ), основанном на месте её чудесного явления (обретения) (произошедшем, согласно церковному преданию, 8 июля 1579 г.), откуда она была похищена 29 июня 1904 г.(1)
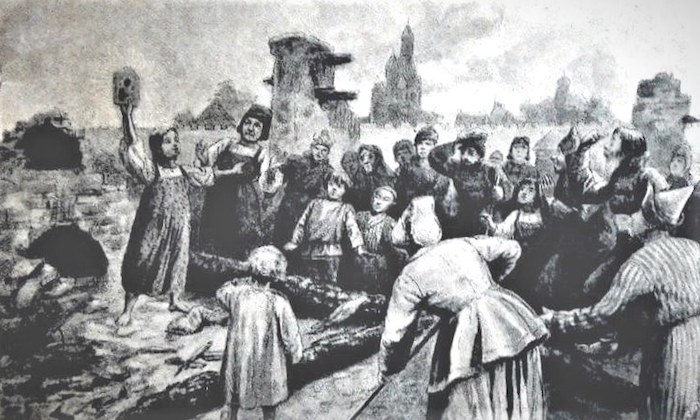
Однако с 1830-х гг. факт явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери начал оспариваться.
В изданиях по истории г. Санкт-Петербурга появились утверждения о том, что в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга, построенном в 1801 - 1811 гг., пребывает явленный образ, который был принесён в начале XVIII в. по повелению Царя Петра I Алексеевича из г. Москвы, куда, в свою очередь, он был доставлен в «Смутное время» из г. Казани.
Позднее данная версия «утвердилась» в книге религиозной писательницы А.С. Наумовой «Сказание о чудотворно-явленной Казанской иконе Божией Матери, с кратким описанием С.-Петербургского Казанского собора», изданной в г. Санкт-Петербурге в 1867 г.,(2)
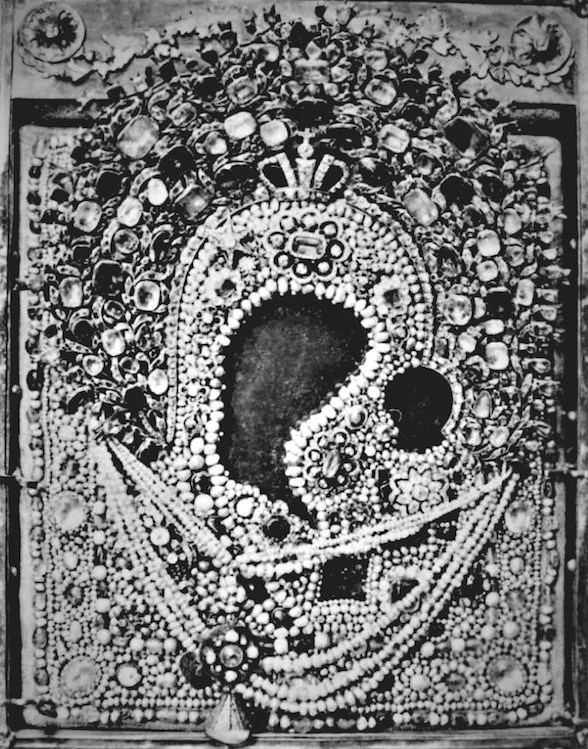
и в первом выпуске исследования «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии», изданного в 1869 г. Санкт-Петербургским епархиальным историко-статистическим комитетом под председательством епископа Ладожского, викария Санкт-Петербургской епархии, впоследствии - архиепископа Казанского и Свияжского Павла (в миру - П.В. Лебедева) (1827 - 1892)(3).

Так, в исследовании «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии» сообщалось, в частности, что в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга пребывает: «Явленная и чудотворная, местная и храмовая, икона казанской Божией Матери. Она явилась в 1579 году в Казани; и в том же году по желанию царя Иоанна Васильевича IV список с её, с описанием обстоятельств её явления и чудес, доставлен в Москву. Подлинная же икона пребывала в Казани до нашествия поляков на отечество в 1612 году. Для изгнания их Казань, подобно другим городам русским, выслала свои (1612 г.) дружины к Москве с образом казанской Богоматери. Ратники имели великую веру к образу Пречистыя, потому что от него были знамения благодатной помощи. Прибывшия к Москве с св[ятой] иконою дружины, содействием небесной заступницы, 26 мая отняли у поляков новодевичий монастырь и взяли в плен две роты их и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы; обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесён в Ярославль. В то же время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь св[ятую] икону с собою, и в Казань послать список с неё.
По очищении Москвы от поляков, в следующий воскресный день, в сопровождении христолюбивого воинства, назначили совершить крестный ход с казанскою иконою Богоматери на лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление своё от врагов.
Свою спутницу и помощницу в походах и сражениях св[ятую] икону казанской Богоматери князь Пожарский поставил в Москве, в своей приходской церкви введения Богородицы на Лубянке. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Феодоровичу по восшествии его на престол, о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Феодорович и матерь его великая старица инокиня Марфа Ивановна возъимели великую веру к образу, который сделался семейным в царском доме Романовых; постановили праздновать иконе в Москве дважды в год с крестным ходом, в 8-й день июля, когда явился образ Богородицы в Казани, и в 22-й день октября, когда освободилось от ляхов московское государство. Князь Димитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году украсил чудотворный образ многою утварью; в 1630 году, уважая благоговение царя к чудотворной иконе, собственным иждивением воздвиг в Китай-городе на углу никольской улицы и красной площади, в благодарность Господу за избавление Москвы и русского царства от поляков, теремный казанский собор, и в этот собор перенёс икону Богоматери на своих руках в 1633 году.
В 1649 году 22-го октября установлено совершать празднование казанской Богоматери во всей России, по случаю рождения у Алексия Михайловича наследника престола царевича царевича Димитрия Алексеевича, - что для России, недавно испытавшей тяжкие бедствия от пресечения царского рода, служило радостным залогом будущего благоденствия.
Священный памятник и свидетель изгнания поляков из Москвы и восшествия дома Романовых на царский престол - их семейный чудотворный образ казанской Богоматери в 1710 году, по повелению императора Петра I, перенесён из Москвы в С.-Петербург, в освящение новой, на берегах Невы, столицы».(4)

Таким образом, в отечественной литературе был весьма недвусмысленно артикулирован «вывод» о явленности «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери.
Вместе с этим, в начале 1850-х гг. известным богословом и духовным писателем, протоиереем Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы А.И. Невоструевым (1806 - 1872), которого поддержали ранее работавшие в Казанской Духовной Академии (КДА) профессор философских наук, священник церкви Николая Чудотворца в Столпах г. Москвы (затем - церкви Воскресения Словущего в Барашах г. Москвы) И.А. Смирнов-Платонов (1816 - 1860) и священник Д.И. Кастальский (1820 - 1891), было высказано предположение, что «та самая» икона, «которая явилась в Казани в 1579-м году», пребывает в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы, а в КБМ «находится только список с неё».(5)
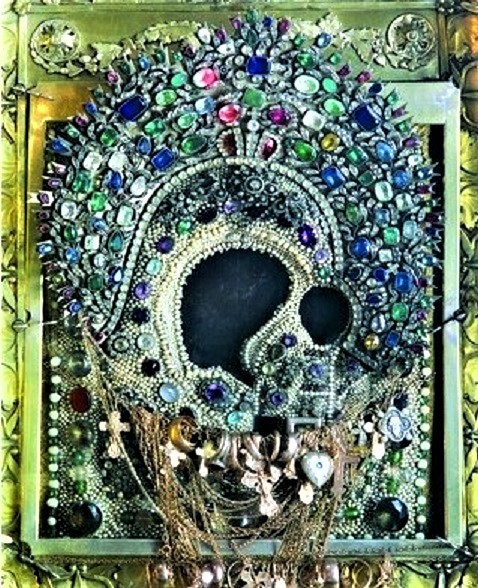
В качестве оппонента А.И. Невоструева выступил церковный историк, автор «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» (1849 г.)(6)
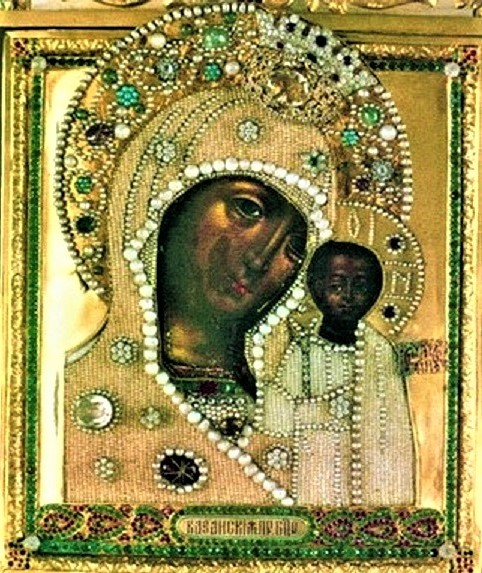
и других работ, профессор русской церковной и гражданской истории КДА Г.З. Елисеев (1821 - 1891), отстаивавший своё принципиальное убеждение в том, что «явленная икона Казанской Божией Матери находится не в Московском Казанском соборе, а в Казанском Девичьем монастыре в Казани»(7).
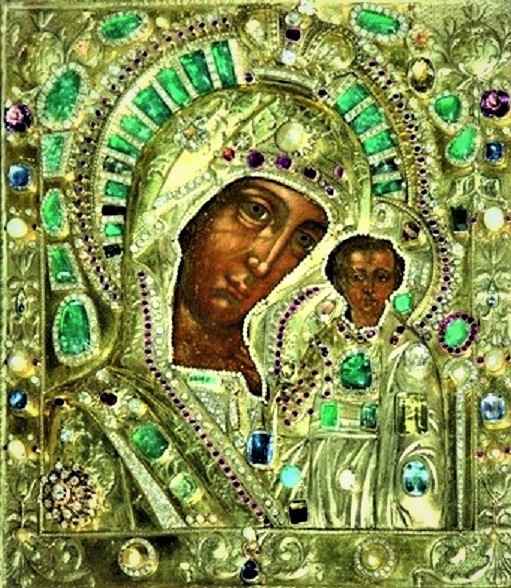
По «единодушной рекомендации» И.А. Смирнова-Платонова и Д.И. Кастальского 28 ноября 1851 г. протоиерей А.И. Невоструев направил Г.З. Елисееву письмо, в котором изложил свои доводы в пользу явленности («оригинальности») «Московской» Казанской иконы Божией Матери. Причём, главный из них заключался в том, что в 1611 г. под г. Москву Казанским ополчением из г. Казани была принесена явленная чудотворная икона, а не её список, как это принято считать.
Уже 15 января 1851 г. Г.З. Елисеев ответил А.И. Невоструеву, приведя в своём письме аргументы в пользу того, что явленной является именно «Казанская» Казанская икона Божией Матери.
По предложению ректора КДА (впоследствии - епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, затем - епископа Смоленского и Дорогобужского) Иоанна (В.С. Соколова) (1818 - 1869),(8) раздел «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» о Казанской иконе Божией Матери, вместе с письмом Г.З. Елисеева А.И. Невоструеву, переработанные в статью «Казанская чудотворная икона Божией Матери», были - без подписи - опубликованы в 1858 г. в «Православном Собеседнике».(9)
В дальнейшем аргументацию в пользу явленности «Казанской» Казанской иконы Божией Матери, без ссылок на А.И. Невоструева и Г.З. Елисеева, изложил в своём исследовании «Казанский Богородицкий девичь монастырь», изданном в г. Казани в 1879 г., профессор КДА священник Е.А. Малов (1835 - 1918).(10)
Впоследствии письма А.И. Невоструева и Г.З. Елисеева, с обширными комментариями, воспроизвёл в своей статье «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года)», опубликованной в 1904 г., историк И.М. Покровский (1865 - 1941).(11)
Следует отметить при этом, что заметного развития данная дискуссия тогда не получила, хотя аргументация Г.З. Елисеева вряд ли может быть признана исчерпывающей. И.М. Покровский утверждал, что: «После ответа Григория Захаровича москвичи уже не поднимали учёного спора о подлинности и явленности Казанской иконы Божией Матери, хранящейся в Москве, и согласились, что явленная икона, теперь похищенная, хранилась тогда в Казани».(12)
Признанием этого он считал, в частности, изданное в 1889 г. в г. Москве Д.И. Кастальским, бывшим в то время протоиереем Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы, «Сказание о чудотворной Казанской иконе Божией Матери» (переиздано в 1892 г.)(13), где тот, по словам И.М. Покровского, «называет Казанскую икону первообразом Московской»(14).
Вместе с тем, И.М. Покровский ничего не писал о том, как отреагировали на аргументы Г.З. Елисеева А.И. Невоструев и И.А. Смирнов-Платонов.
В данной связи весьма сомнительным выглядит упоминание А.И. Невоструева в числе сторонников официальной версии пребывания явленной иконы в КБМ, которое содержится в опубликованной в двадцать девятом томе «Православной Энциклопедии» статье искусствоведа Н.Н. Чугреевой «Казанская икона Божией Матери». «Церковные и светские историки Г.З. Елисеев, П.С. Казанский, прот[оиерей] А.И. Невоструев, прот[оиерей] Д.И. Кастальский, митр[ополит] Макарий (Булгаков), архиеп[ископ] Сергий (Спасский), А.А. Дмитриевский, архим[андрит] Феодор (Поздеевский), - сообщается в ней, - на основании летописных свидетельств считали, что в Москву был принесён список явленной Казанской иконы, а не она сама».(15)
В 1895 г. в «Санкт-Петербургском Духовном Вестнике» было помещено исследование церковного историка А.А. Завьялова (1861 - 1907) «Чудотворная икона Казанския Божия Матери в С.-Петербурге», в котором явленным признавался пребывавший г. Казани образ, а также подвергалось критике утверждение о том, что «Санкт-Петербургская» Казанская икона Божией Матери - это взятый из г. Москвы чудотворный образ.(16)
Мнение о том, что явленная икона находится в КБМ, поддержал известный духовный писатель, священник Д.Г. Булгаковский (1843 - после 1917) в своей популярной брошюре «Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса», изданной в г. Санкт-Петербурге в 1896 г. и переизданной в г. Казани в 1914 г.(17) Однако при этом он писал, что в построенном в г. Москве «соборе в честь Казанской Божией Матери» князь Д.М. Пожарский «поставил чудотворную икону, украшенную золотою ризою», а Царь Пётр I Алексеевич повелел «перенести чудотворный образ Казанской Божией Матери из Москвы в Петербург».(18)
О том, что «Московская» Казанская икона Божией Матери является списком явленного образа, пребывавшего в КБМ, в разное время писали также: археограф и библиограф П.М. Строев (1796 - 1876) - в указателе к изданному им документу «Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)»,(19) историк С.М. Соловьёв (1820 - 1879) - в томе VIII «Истории России с древнейших времён»,(20) церковный историк, митрополит Московский и Коломенский Макарий (в миру - М.П. Булгаков) (1816 - 1882) - в томе X «Истории русской церкви»,(21) профессор Императорского Казанского университета (ИКУ) С.М. Шпилевский (1833 - 1907) - в «Указателе исторических достопримечательностей г. Казани»,(22) духовный писатель и историк, архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (в миру - М.Г. Ковальницкий) (1839 - 1913)(23) и др.
В 1904 г., в связи со святотатственным похищением из КБМ чудотворной Казанской иконы Божией Матери, произошла актуализация дискуссии о местонахождении явленного образа, что, в первую очередь, было связано со стремлением «компенсировать» потерю общечтимой всероссийской святыни.
«Вопрос о том, где хранилась подлинная явленная в 1579 году икона Казанския Божия Матери, - писал по этому поводу ректор Московской Духовной Семинарии (впоследствии - ректор Московской Духовной Академии, епископ Волоколамский, викарий Московской епархии) архимандрит Феодор (А.В. Поздеевский) (1876 - 1937), - благодаря некоторым летописным и археологическим данным решался различно. С настойчивостью утверждалось и утверждается мнение, что подлинная явленная икона Казанской Богоматери находилась недолго в Казани, в скоро перенесена в Москву, а потом даже в Петербург. Значит, если это так, то и похищена 29 июня 1904 года не подлинная явленная икона, а копия с неё, сама же подлинная икона хранится доселе или в Москве или в Петербурге. Вот почему факт святотатственного похищения иконы Казанской Божией Матери из Казанского женского монастыря снова оживил литературу по вопросу о том, где пребывала всегда подлинная явленная икона Казанской Богоматери и какая именно икона похищена».(24)
Причём, по причине недостаточной компетентности в данном вопросе большинства фигурантов дискуссии, вылившейся на страницы повременных изданий, возникла заметная путаница в части приведения «исторических свидетельств», ссылок на литературу и т.п. Ответом на всё это стала вышеозначенная статья И.М. Покровского «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года)», помещённая в 1904 г. в «Православном Собеседнике» (г. Казань) и републикованная (с предисловием) в 2016 г. в возобновлённой версии журнала, издаваемой Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви(25).
Разбирая появившиеся публикации, И.М. Покровский указал, в частности, на письмо по поводу похищения из КБМ Казанской иконы Божией Матери, которое поместил «в Петербургской газете "Новости" от 9 июля н[ынешнего] г[ода] кол[лежский] секр[етарь] Пётр Дорощенко». Сославшись на книгу А.С. Наумовой «Сказание о чудотворно-явленной Казанской иконе Божией Матери, с кратким описанием С.-Петербургского Казанского собора», автор письма задался вопросом о явленности «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери, высказав пожелание, чтобы его письмо было перепечатано и другими газетами с целью получения разъяснений.(26)
В числе опубликованных к тому времени ответов «на вопрос г. Дорощенко» И.М. Покровский упомянул помещённое 12 июля 1904 г. в той же газете «Новости» письмо священника П. Саара, а также напечатанную 22 июля 1904 г. в газете «Казанский Телеграф» статью Н.Ф. Юшкова, в которой тот, по словам И.М. Покровского, «слишком кратко и невнимательно» повторил положения статьи 1858 г. «Казанская чудотворная икона Божией Матери», неверно приписав её авторство профессору ИКУ А.П. Щапову (1831 - 1876).(27) В дальнейшем упоминания о А.П. Щапове появились и в других статьях, посвящённых Казанской иконе Божией Матери.(28)
Достаточно нелицеприятно оценил И.М. Покровский позицию известного своими работами по церковной истории и истории г. Москвы священника Н.А. Романского (1851 - после 1917), который по состоянию на 1904 г. служил в Крестовоздвиженском соборе Московского Ново-Алексеевского монастыря.
«Между тем, - писал И.М. Покровский со ссылкой на № 29 за 1904 г. "Московских Церковных Ведомостей", - священник одной из московских церквей, о. Н. Романский в своём слове, 8-го июля, в день праздника явления Казанской иконы Богоматери, ни словом не обмолвившись о великом казанском и всероссийском горе - святотатственном похищении явленной иконы, продолжает вводить в заблуждение слушателей и читателей его слова, говоря, что икона Божией Матери, явившаяся в Казани, населённой магометанами и язычниками, в начале XVII в. была перенесена в Москву, а отсюда по повелению Петра I в Петербург, где пребывает и ныне».(29)
В то же время, в № 27 за 1904 г. «Прибавлений к Церковным Ведомостям» была опубликована статья известного богослова и историка, протоиерея В.И. Жмакина (1853 - 1907) «Церкви в С.-Петербурге, основанные в царствование Анны Иоанновны», где он, помимо прочего, обращал внимание на отсутствие документальных свидетельств того, «что икона находящаяся в С.-Петербургском Казанском соборе, есть подлинная явленная, чудотворно явившаяся в Казани в 1579 г., в смутное время (1612 - 1613 г.) перенесённая в Москву, и отсюда в 1710 г. по повелению Петра I перенесённая в Петербург».(30)
22 октября 1904 г. на заседании Киевского отделения «Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III» профессор кафедры церковной археологии и литургики Киевской Духовной Академии А.А. Дмитриевский (1856 - 1929) сделал доклад на тему «В честь какой иконы Казанской Божией Матери установлен праздник 22 Октября? (Утешение и ободрение скорбящим об утрате святыни)», который в 1905 г. был опубликован в журнале «Труды Киевской Духовной Академии».(31)
Солидаризировавшись с мнением о том, что из КБМ была похищена именно явленная Казанская икона Божией Матери, он одновременно с этим обращал внимание на то, что всероссийского прославления удостоился другой образ - «Московская» Казанская икона Божией Матери.
«Само собою разумеется, - отмечал А.А. Дмитриевский, - что утрата чудотворной явленной иконы для Церкви казанской - утрата незаменимая. Как прототип всех других чудотворных икон того же имени, эта утрата весьма чувствительна и для всей русской Церкви, лишившейся одной из чтимых и древнейших своих святынь. Но, к истинному утешению искренних почитателей отечественной святыни и горячих патриотов, мы можем сказать, что действительный всероссийский покров, "историческая святыня всей России" - чудотворная икона Казанския Божия Матери, защитившая наше отечество от нашествия Ляхов в 1612 году, в честь которой установлен настоящий праздник 22 октября, остаётся, благодарение Богу, цел и невредим и находится там, где ему и подобает быть, в сердце Россия - в белокаменной и златоглавой матушке Москве».(32)
В 1905 г. И.М. Покровский положительно высказался об «искренне написанной» статье А.А. Дмитриевского, «хотя и признающего всероссийской исторической святыней Московскую икону».(33)
В достаточно резкой форме о позиции тех, кем «время от времени по разным случаям празднования этой иконе, в печати нередко сообщались неверные сведения о том, где находилась подлинная, явившаяся в XVI в. икона», высказался церковный публицист И.А. Конобеевский в своей статье «К вопросу о подлиннике и списках с Казанской иконы Богоматери», опубликованной в № 47 за 20 ноября 1904 г. журнала «Русский Паломник».(34)
«Когда писатель допускает ошибку по неведению, - отмечал он, - Бог ему судья; но если это делается с заведомо предвзятой целью, то он должен помнить, что Господь строго осудит его, как сын диавола (Иоан. VIII, 44). Как ни горестно верующему русскому сердцу похищение Казанской иконы, но если это - совершившийся факт, было бы преступлением скрывать правду и доказывать, что украдена копия».(35)
Мнение И.М. Покровского также разделял профессор Католического Института в г. Париже Жозеф Мари Гюстав Морель (1872 - 1905), опубликовавший в 1904 г. в «Revue Catholique des Église» статью «L'icône de Kazan».(36)
О том, что в КБМ хранилась «явленная икона, святотатственно похищенная под 29 июня 1904 г.», сообщалось в статье И.М. Покровского «Казань в религиозно-церковном отношении», которая была размещена в томе VII «Православной Богословской Энциклопедии», составленном под редакцией профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, доктора богословия Н.Н. Глубоковского (1863 - 1937).(37)
Вместе с тем, священник Н.А. Романский не заставил себя долго ждать и ответил на замечания И.М. Покровского в свой адрес статьёй (рефератом)(38) под названием «Где находится подлинная чудотворная явленная икона Казанской Богоматери», опубликованной в №№ 50, 51 - 52 за 1904 г. и №№ 4, 5 за 1905 г.(39)
Продолжая утверждать, что явленной следует считать «Московскую» Казанскую икону Божией Матери, он навлёк на себя ещё большую критику И.М. Покровского, изложенную в обширной статье «Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: "Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года")», которая была размещена в 1905 г. в трёх номерах «Православного Собеседника».(40)
По выражению И.М. Покровского, статья Н.А. Романского была написана «вызывающе и неприлично»: «Судя по тону и несерьёзности статьи московского критика, - утверждал он, - можно думать, что она написана не с целью восстановления истины о месте нахождения подлинной явленной Казанской иконы Божией Матери и утешения казанцев, а с целью поглумиться над всеми, не без основания утверждающими, что в Казани хранилась явленная икона, которая, к тяжёлому горю казанцев, ныне святотатственно похищена».(41)
Следует признать, что последнее обстоятельство оказало влияние на ход дискуссии, придав ему определённую остроту. Показательно в связи с этим, что вопрос о явленности пребывавшей в КБМ Казанской иконы Божией Матери поднимался и на судебном процессе по делу о её похищении, проходившем в Казанском окружном суде с 25 по 29 ноября 1904 г.
В своей заключительной речи председатель суда - бывший городской голова г. Казани, член Казанской судебной палаты С.В. Дьяченко (1846 - 1907) не преминул напомнить, что: «Не так давно ещё Москва и Петербург оспаривали у Казани первенство их икон Казанской Божией Матери перед иконой г. Казани. Каждая из столиц называла свою святую икону первообразом и явленной в Казани иконой».(42) Охарактеризовав вкратце суть вопроса, он заключил: «Из всего вывод один: похищенная икона Казанской Божией Матери был(43) явленным первообразом».(44)
«Недоразумением» назвал мнение о том, «что в Москву Пожарским принесена не копия, а самая явленная икона, а затем-де при Петре I она перенесена в Петербург, где и поныне стоит в Казанском соборе», Тамбовский епархиальный миссионер В.П. Базарянинов (1874 - после 1935) в своём «публичном чтении» в Тамбовских вагонных мастерских 12 декабря 1904 г. «По поводу святотатственной покражи явленной чудотворной Казанской иконы Божией Матери», текст которого был опубликован в 1905 г. в «Тамбовских Епархиальных Ведомостях».(45)
Положения статей И.М. Покровского легли в основу статьи архимандрита Феодора (А.В. Поздеевского) «Казанская икона Божией Матери», помещённой в 1907 г. в журнале «Странник» (г. Санкт-Петербург)(46).
Параллельно с этим стали возникать многочисленные версии о местонахождении похищенной из КБМ Казанской иконы Божией Матери, в том числе, «конспирологические». Наиболее «долгоиграющей» из них оказалась версия о «старообрядческом следе».
Несмотря на то, что в опубликованной в 2010 г. статье Е.В. Афониной «"Старообрядческий след" в деле о похищении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери» содержались достаточно веские документальные доводы в пользу несостоятельности возводившихся в отношении старообрядцев (и, в частности, жены купца Я.Ф. Шамова А.Х. Шамовой) обвинений в криминальном «заказе» кражи иконы,(47) до настоящего времени данная тема продолжает обсуждаться на различных уровнях.
Так, например, её вновь поднял на состоявшемся 23 марта 2018 г. в Представительском корпусе Казанского Кремля заседании Попечительского Совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан главный специалист отдела информации и научного использования документов Российского государственного исторического архива Н.С. Крылов.(48)
При этом очевидно, что рассмотрение подобных версий является предметом отдельного исследования (исследований) и не имеет прямого отношения к дискуссии о её явленности («подлинности», «оригинальности»).
В атеистическое советское время подобного рода проблемы по известным причинам утратили свою актуальность, а изучение икон почти исключительно стало уделом искусствоведов.
Одним из редких исключений в этом отношении стали изыскания доцента Ленинградской Духовной Академии В.А. Некрасова (1892 - 1987), обобщившего результаты дореволюционных дискуссий.(49) При этом он не дал ответа на вопрос о происхождении «Московской» Казанской иконы Божией Матери, ограничившись формулировкой, что в 1611 г. Казанское ополчение взяло с собой «Казанскую икону Божией Матери, подлинную или список с неё».(50)
Одновременно В.А. Некрасов констатировал, что «большинство авторов согласны в том, что московская чудотворная икона Богородицы, именуемая "Казанская", не есть явленная икона Её, обретённая в Казани, а есть один из многочисленных древних списков с казанского подлинника».(51) «В таком случае, - заключал он, - и петербургская икона, даже если бы она и оказалась тождественной с иконой московского Казанского собора, также будет всего лишь списком с Казанской явленной иконы, но никак не оригиналом. В действительности же петербургская и московская иконы не имеют между собою ничего общего: это два различных списка с казанского прототипа».(52)
В конце 1990-х - начале 2000-х гг. - темы, связанные с Казанской иконой Божией Матери, вновь начала волновать умы представителей религиозной общественности.
В значительной мере это было связано с подготовкой и состоявшейся в 2005 г. передачей в г. Казань - в КБМ - «Ватиканского» списка Казанской иконы Божией Матери. При этом внимание исследователей акцентировалось, главным образом, на полной несостоятельности утверждений некоторых представителей «журналистского пула» и властных структур о том, что имело место «возвращение» украденной иконы.
В дальнейшем Н.Н. Чугреева в своей статье «О Явленной Казанской иконе и "ватиканском" списке» достаточно обстоятельно охарактеризовала «Ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери, датируемый первой половиной - серединой XVIII в.(53)
Помимо этого, предметом обсуждения стала поддерживавшаяся митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием (А.М. Меткиным) версия о том, что явленная Казанская икона Божией Матери не была в 1904 г. похищена из КБМ, а, будучи заранее подменённой игуменьей КБМ Маргаритой (в миру - Марией Михайловной Максоровой), уцелела и оказалась в дальнейшем в храме святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, на Арском кладбище г. Казани.(54)
Одной из важных составляющих общей дискуссии стало обсуждение иконописных (художественных) особенностей рассматриваемых образов и их общего иконографического типа.(55)
Что же касается собственно дискуссии о явленности («подлинности», «оригинальности») похищенной из КБМ Казанской иконы Божией Матери, то она была объявлена окончательно завершённой. Хотя по сути дела таковая была не завершена, а скорее «заморожена» (в том числе, по причине утраты двух из трёх образов-претендентов на явленность - «Казанской» и «Московской» Казанских икон Божией Матери).
Краткое изложение дискуссии XIX - начала XX вв. (с некоторыми неточностями) содержится, в частности, в вышеупомянутой статье «Православной Энциклопедии» «Казанская икона Божией Матери», подготовленной искусствоведом Н.Н. Чугреевой.(56)
«Правда краше солнца»: летописи против хронографов
Наиболее вескими аргументами в дискуссии о явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери, безусловно, являлись отсылки к документальным источникам.
Обращаясь 28 ноября 1851 г. к Г.З. Елисееву, А.И. Невоструев привёл пять доводов в пользу явленности «Московской» Казанской иконы Божией Матери.
«По поручению начальства, - писал он, - занимаясь составлением исторической записки о здешнем Казанском соборе, я нашёл в летописях несколько указаний, приведших меня к мысли, что чествуемая у нас чудотворная икона Казанской Божией Матери есть та самая, которая явилась в Казани в 1579-м году, а у вас находится только список с неё. Знаю, что эта мысль Казанцам не по сердцу и что они не легко уступят нам честь выдавать нашу икону за оригинальную; но - правда краше солнца, как говорит пословица. И если доводы, служащие основанием означенной мысли, будут отринуты по уважительным причинам, а противная ей мысль будет утверждена убедительными доказательствами: то мы, по тому же правдолюбию, по которому теперь выступаем с первою мыслию, отступим с нею назад, и предоставим Казанцам равно вожделенную для них и для нас честь усвоять себе, или указывать в стенах своих, оригинал нескольких чудотворных икон, чтимых в разных местах нашего Отечества».(57)
Первый довод А.И. Невоструева касался свидетельств двух хронографов - «Лобковского»(58) и «Ельнинского», которые он привёл со ссылкой на публикацию известного русского писателя П.И. Мельникова-Печерского (1818 или 1819 - 1883) «Несколько новых сведений о Смутном времени, о Козьме Минине, князе Пожарском и патриархе Гермогене», помещённую в 1850 г. в журнале «Москвитянин».(59)
А.И. Невоструев утверждал, что «хронографы Лобковский и Ельнинский свидетельствуют, что патриарх Гермоген, из заточения благословляя Нижегородцев на восстание против Литвы, велел им взять в полки свои чудотворную икону Казанския Богоматери, принятую им из земли на свои руки, во время её явления».(60) При этом сам П.И. Мельников-Печерский писал об этом, ссылаясь лишь на обнаруженный им в 1842 г. «Ельнинский» хронограф, в котором он нашёл «известие, что Ермоген, благословляя Нижегородцев, завещал им взять в полки свои Казанскую икону, им на руки принятую» (там же П.И. Мельников-Печерский уточнял - «принятую им на свои руки икону Казанской Богородицы во время её явления»).(61)
«Завещание патриарха, бывшего прежде митрополитом Казанским, ревностного патриота, и притом мученика за веру и Русь, - делал из этого вывод А.И. Невоструев, - конечно, было обязательно для истинных сынов Отечества, Нижегородских и Казанских, между коими, кроме Минина и Пожарского, отличались Печерский архимандрит Феодосий, Спасо-Преображенского собора протопоп Савва Евфимиев, доблестный Алябьев и дьяк Семёнов. И действительно, духовенством Казанским принесена была в Москву, в стан кн[язя] Трубецкого и Заруцкого, икона Казанская, которую летописи называют чудотворною и с которою Трубецким и Заруцким, в мае 1612 г., очищен был от поляков Новодевичий монастырь».(62)
Второй довод А.И. Невоструева имел отношение к Никоновской (Никоновой) летописи, содержащей (согласно изданию 1792 г.) - в разделе с подзаголовком «О походе под Москву иконы пречистыя Богородицы Казанския» - следующее свидетельство: «Принесен бысть образ пречистые Богородицы Казанские под Москву ко князю Дмитрею Тимофеевичу Трубецкому да к Ивану Sаруцкому, и был тот образ под Москвою до sимы. Тоиже образ с протопопом Казанским отпустиша назад, протопоп же приде в Ярославль. В тоже время придоша из Нижнево княsь Дмитреи и Кузма со всею ратью, и видя ту икону пречисты Богородицы Казанския, что ею помощию под Москвою взяли новои девичеи монастырь у Литовских людеи, и тот образ поставиша в Ярославле, а с тово образа списаша список и украся отпустиша в Казань с протопопом; ратныеж люди велию веру начаша держати к образу пречистыя Богородицы, и многия чюдеса от тово образа быша, в етманскои же бои и в московское взятье многиеж чюдеса быша. По взятииж Кремля города княsь Дмитреи Михаилович Пожарскои освяти храм в своем приходе Введение пречистые Богородицы на Устретенскои улице, и тое икону пречистые Богородицы казанския поставиша тут. Священницыже того храма возвестиша Царю Государю и великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии про ее чюдеса, како в етманскои бои и в московское взятье от тово образа велия чюдеса быша. Царь же Михаило Федорович всеа Русии и мать его великая старица инока Марфа Ивановна начаша к тому образу веру держати велию, и повелеша празновати дважды в год и ход уставиша со кресты; первое празднество и ход со кресты Июля в И. день святаго великого мученика Прокопия, в тои день како явилася пречистая Богородица во граде в Казани; а другое празднество месяца Октября в КВ. день на память иже во святых отца нашего Аверкия Ераполсково чюдотворца, како очистися Московское государство. Тоиже образ по повелению Государя Царя и великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии, и по благословению великого государя святеишего патриарха Филарета Никитича московского и всеа Русии, украси многою утварию боярин княsь Дмитреи Михаилович Пожарскои по обету своему в лето ҂ЗРЛГ. году».(63)
Ссылаясь на данное свидетельство, А.И. Невоструев писал: «Никонов летописец (ч. 8, стр. 209) говорит, что когда, по расстройстве ополчения Трубецкого и Заруцкого, икона Казанская, отосланная из сего ополчения обратно, принесена была духовенством в Ярославль в тот же день, в который прибыл сюда кн[язь] Пожарский с Нижегородскою ратью, то сия встреча почтена была за благоприятное для последней предзнаменование, и икона оставлена при войске, а в Казань отправлен богато-украшенный список с неё».(64)
В связи с этим он задавался вполне логичным вопросом: «Если из Казани принесена была только копия с иконы, явившейся там за 30 лет пред тем: то почему нужно было послать из Ярославля в Казань копию с копии, и притом богато-украшенную, т[о] е[сть] более драгоценную, нежели первая копия»?(65)
Третий довод А.И. Невоструева касался летописных свидетельств о том, что после изгнания поляков из г. Москвы глава Второго народного (земского) ополчения князь Д.М. Пожарский (1578 - 1642) поставил Казанскую икону Божией Матери, с которой он «вошёл в Москву», «сперва в приходской церкви князя-победителя (Введения на Лубянке)», а потом она была «перенесена в Казанский собор, построенный в память освобождения России от Литвы и в благодарность Богоматери за содействие Её в этом великом деле».(66)
Четвёртый довод имел отношение к упомянутому выше документу «Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)», где в нескольких местах упоминалось о том, что Царь Михаил Фёдорович (1596 - 1645) посещал церковь (собор) «Богородицы Казанския» («Пречистыя Казанския»), «что на Пожаре». Там сообщалось, в частности, что: 22 октября 7152 (1643) г. - «ходил Государь в Собор за кресты, а из Собору ходил Государь за крестыж ко пречистой Богородице Казанской, что на пожаре»; 21 октября 7154 (1645) г. - «слушел Государь вечерни у Пречистыя Казанския, что на Пожаре»; 22 октября 7168 (1659) г. - «ходил Государь в ход за кресты, к празднику, к Богородице Казанской, что на Пожаре, и слушал обедни».(67)
В связи с этим А.И. Невоструев выдвинул предположение, «что находящаяся в нашем соборе Чудотворная икона древле называлась Казанской что на пожаре [...] - вероятно, по первоначальному явлению её на пожарище Казанском».(68)
Пятый его довод носил риторический характер. «Да и правдоподобно ли думать, - задавался вопросом А.И. Невоструев, - чтобы в столь смутное время, каково было при господстве поляков в России, и для столь важной цели, как освобождение Отечества от сих врагов, была истребована и прислана от Казани в Москву копия с чудотворной иконы, а не самая сия икона»?(69)
К этому присовокуплялось также следующее замечание: «При том двукратное спасение Казани от смертоносной язвы (в половине 17-го в. и около конца 18-го в.), коим этот город обязан единственно чудотворной иконе Седмиозерной, прославившейся вскоре по воцарении Михаила Феодоровича и чествуемой у вас, в память первого спасения, торжественным крестным ходом, не указывал ли на отсутствие из вашего города чудотворной иконы Богородицы, явившейся в 1579 г.».(70)
В ответ на доводы А.И. Невоструева Г.З. Елисеев сообщил, что «разобрав и сообразив» имевшиеся у него «под руками» документы «по сказанному предмету», он «дошёл до того же убеждения, какое имел всегда, т[о] е[сть] что подлинная явленная икона Казанской Б[ожией] Матери хранится в Девичьем Казанском монастыре, а не в Московском Казанском соборе».(71)
При этом в качестве первого доказательства этому он сослался на свидетельства той же Никоновской (Никоновой) летописи и изданное историком и философом М.М. Щербатовым (1733 - 1790) историческое сочинение «Летопись о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев, по преставлении Царя Иоанна Васильевича; а паче о Междугосударствовании по кончине Царя Феодора Иоанновича, и о учинённом исправлении книг в Царствование благовернаго Государя Царя Алексея Михайловича в 7163 / 1655 году», собранного «из древних тех времён описаниев».
В дальнейшем именно эти свидетельства использовались большинством сторонников явленности («подлинности», «оригинальности») находившейся в КБМ Казанской иконы Божией Матери в качестве главного (а чаще всего - и единственного) документального подтверждения своей правоты.
В Никоновской (Никоновой) летописи (изданной в 1792 г. в восьмом томе «Руской летописи по Никонову списку», содержащей документ под названием «Книга глаголемая Новой Летописец степен») - в разделе с подзаголовком «О приходе пречистые Богородицы Казанские по разорении монастырям» - сообщалось, в частности: «Принесоша же ис Казани образ пречистые Богородицы, список с Казанские иконы, всеже служивые люди поидоша пешие, тоиже Заруцкои с казаками встретил на конех, казаки же служивых людеи лаяху и поносяху их; они же в великои ужастии быша от них, чаяху таковаже убоиства на себя, как на Прокофья. На утрии же по приходе пречистые Богородицы поидоша вси под новои монастырь; в та же время прииде понизовая сила под Москву, и новои девичеи монастырь взяша, и инокинь из монастыря выведоша в табары, и монастырь разориша и выжгоша весь, старицыже послаша в монастырь в Володимер».(72)
В сочинении «Летопись о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев...», изданном в 1771 г. и переизданном в 1788 г. (то есть ещё до публикации Никоновской /Никоновой/ летописи) содержался тот же фрагмент, но в несущественно отличающемся изложении (раздел с подзаголовком «О приходе пречистыя Богородицы Казанския и о разорении монастыря»).
«Принесоша из Казани образ пречистые Богородицы списанной с Казанския, - сообщалось в издании 1771 г., - и попы все и служилые люди поидоша пеша, той же Заруцкой с козаками встретил на конях. Козаки же служилых людей лаяху и поносяху их. Они же в велицей ужасти быша, чаяху бо таковаж убийства на себя, как на Прокофья. Наутрие же по приходе пречистыя Богородицы пойдоша вси под новой монастырь. В тож время прииде понизовая сила под Москву, и новой Девичей монастырь взяша, и инокинь из монастыря выведоша в Таборы, и монастырь раззориша, и выжгоша весь. Стариц послаша в монастырь в Володимер».(73) Аналогичный фрагмент, воспроизведённый в издании 1788 г., отличался лишь незначительными орфографическими и синтаксическими деталями.(74)
Ссылаясь на эти свидетельства (а по сути дела - на единственное летописное свидетельство), Г.З. Елисеев писал в 1851 г. в ответном письме А.И. Невоструеву: «Летописи говорят, что в Москву послана не подлинная икона Божией Матери, а список с неё. [...] Мы не имеем никакого права не доверять этим показаниям летописей, тем более, что есть основания думать, что эти показания рассказаны в летописи очевидцем, или внесены в неё слов очевидца [...]».(75) Однако, к сожалению, он не пояснил, в чём заключаются сии «основания».
По сути дела, на этом аргументе строилась практически вся система доказательств Г.З. Елисеева, И.М. Покровского, А.А. Дмитриевского и других. Вместе с тем, священник Н.А. Романский, полемизируя с И.М. Покровским, счёл свидетельства Никоновской (Никоновой) летописи и «Летописи о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев...» слишком краткими, а потому не имеющими значения без связи с другими историческими документами.
Вслед за А.И. Невоструевым священник Н.А. Романский обратил внимание на то, что принесённая в 1611 г. под г. Москву Казанским ополчением из г. Казани икона в других местах указанных источников фигурирует как «образ», а не как «список». В ответ на это И.М. Покровский достаточно эмоционально ответил: «Он, как будто, не знает, что русские летописи всюду очень кратки. Если в летописи раз сказано, что в Москву из Казани был принесён список, то постоянно напоминать, когда заходила речь об этой иконе Казанской Богоматери, что она "список", для летописцев представлялось совершенно излишним. Поэтому в других местах они называют её просто образом Пречистыя Богородицы, или образом чудотворным, после того, как эта икона, бывшая в полках Трубецкого, Заруцкого и Пожарского, прославилась чудесами в гетманском бою и при освобождении Москвы от поляков. [...] Поэтому нет ничего удивительного, что в этом, сравнительно подробном, повествовании Московская казанская икона Божией Матери не называется "списком", а только "Образом Пречистыя Богородицы Казанския", от которого многие чудеса быша».(76)
Помимо этого, И.М. Покровский сослался на труды П.М. Строева, С.М. Соловьёва, митрополита Макария (в миру - М.П. Булгакова), архиепископа Сергия (в миру - И.А. Спасского) и архиепископа Димитрия (в миру - М.Г. Ковальницкого), которые, «конечно, хорошо знали, чем можно пользоваться в летописях».(77) «Никто из них, - уточнял он, - не решился не поверить краткому сказанию Никоновой Летописи, которую справедливо упрекают в тенденциозности в пользу Москвы; но в данном случае и она оставляет тенденцию, повествуя согласно с свидетельством Летописи о многих мятежах, составленной на основании сказаний современников».(78)
Однако, как представляется, апеллирование к научным и церковным авторитетам, опиравшимся на одно и то же летописное свидетельство (свидетельства), вряд ли можно признать исчерпывающим контраргументом в научном споре.
Тем более, что священник Н.А. Романский тоже относил к стану своих единомышленников, помимо А.И. Невоструева, не менее известных лиц: церковного историка и проповедника, протоиерея Успенского собора г. Москвы А.Г. Левшина (? - 1798) и историка, археолога и искусствоведа И.М. Снегирёва (1793 - 1868).
Так, например, протоиерей А.Г. Левшин в изданном в 1783 г. в г. Москве труде «Историческое описание первопрестольного в России храма, Московского большого Успенского собора и о возобновлении первых трёх московских соборов Успенского, Благовещенского и Архангельского» - в «главе осьмой» под названием «О крестных ходах» - сообщал, что «Июля 8 дня бывает крестное хождение в Казанской собор, что на площади, в воспоминание бывших предстательством Пресвятыя Богородицы, от всечестныя иконы ея великих чудес, который крестный ход, и установлен бысть праздновать в лето дважды».(79) В подтверждение этого он привёл процитированное выше летописное свидетельство, начинавшееся словами: «Принесен бысть образ Пречистыя Богородицы Казанския под Москву ко Князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, да к Ивану Заруцкому, и был тот образ под Москвою дозимы. Той же образ с протопопом Казанским отпустиша назад. Протопоп же прииде в Ярославль».(80)
Вместе с тем, И.М. Покровский без каких-либо пояснений заявил, что «причислять к своим единомышленникам московского археолога Н. Снегирёва, прот[оиерея] Левшина и Невоструева у свящ[енника] Романского положительно нет никаких оснований».(81)
Язвительно отметив, что у священника Н.А. Романского «в качестве пособия для историко критических исследований главную ценность имеют проповеди», И.М. Покровский, не вдаваясь в подробности, «прошёлся» и по сторонникам явленности («подлинности», «оригинальности») «Санкт-Петербургской» Казанской иконы Божией Матери. «Священники Сиземский, Сабинин, Якимов, протоиереи Войтковский, Грамматин, Дебольский,(82) архимандрит Владимир с их проповедями, - писал он, - являются единственными единомышленниками свящ[енника] Романского, такими единомышленниками, которые не разделяют взгляда о нахождении подлинной явленной иконы казанской Божией Матери в Казани, и с своей стороны переносят явленную икону из Москвы в Петербург».(83)
При этом И.М. Покровский признавал, что «такого же ошибочного мнения» придерживался и архиепископ Казанский и Свияжский Павел (в миру - П.В. Лебедев), что нашло своё отражение в исследовании «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии», изданном в 1869 г. Санкт-Петербургским епархиальным историко-статистическим комитетом (в котором тот председательством в бытность епископом Ладожским, викарием Санкт-Петербургской епархии), а также «в своём слове, сказанном в Казани 22 октября 1890 г.».(84)
Помимо этого, священник Н.А. Романский предположил, что летописец (летописцы) подразумевали под «списком» список (копию) Одигитрии, каковой признавалась явленная Казанская икона Божией Матери, а не список (копию) самой иконы.
Любопытно, что ранее Г.З. Елисеев в «Кратком историческом сказании о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» несколько двояко высказался на сей счёт: «Обретённая икона, - писал он, - была, как оказалось впоследствии, список с чудотворной иконы Богоматери, известной под именем Одигитрии».(85)
На предположение священника Н.А. Романского И.М. Покровский дал расширенный, ответ, суть которого сводилась к тому, что Казанская икона Божией Матери не принадлежит к типу «Одигитрия».
«Совершенно непонятно, - рассуждал он, в частности, - почему могли назвать Одигитрию казанской, когда все тогдашнее грамотеи, в том числе и летописцы, хорошо знали, что Одигитрией называется Смоленская икона, принесённая на Русь ещё в 1046 г. (список с Константинопольского подлинника) и хранившаяся в Смоленске.
Правда, казанская явленная икона в "Сказании" Гермогена, а отсюда и в прологе, называется Одигитрией, но не списком с Одигитрии. В объяснение такого названия казанской иконы осмеливаемся предположить, что составитель сказания, написанного через 15 лет после явления иконы, назвал казанскую икону Пречистыя Владычицы нашей Богородицы честнаго и славнаго Ея Одигитрия, по личному соображению. М[итрополит] Гермоген в своём сказании и первый каменный монастырский храм, основанный в 1594 году, называет также храмом Пречистыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго и славнаго Ея Одигитрия Чудотворнаго образа явления. Первую деревянную церковь он называет просто: во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Одигитрия. Но и тут оказался чисто личный взгляд на явленную икону. Впоследствии казанский монастырский храм никогда не назывался храмом Одигитрии, а назывался и называется просто храмом "Явления иконы Казанския Божия Матери". Говоря о каменном храме, сам м[итрополит] Гермоген, как бы вносит поправку в наименование первого деревянного храма. Название первого монастырского храма "храмом Одигитрии", как видно из Гермогенского сказания, принадлежит собственно Грозному, разрешившему его постройку, уже после того, как было получено им "краткое сказание о явлении и чудесах новоявленной казанской иконы", которую, - по первому впечатлению при "явлении" приняли за Одигитрию. В христианской Казани давно уже были известны обе смоленские иконы - Одигитрии и Умиления. Оне стояли в церкви Спаса Нерукотвореннаго над кремлёвскими воротами (Списк[и] с писц[овых] кн[иг] г. Казани 1566 - 1567 г., стр. 20). Их, несомненно, знал м[итрополит] Гермоген. На икону Умиления Явленная икона не походила, а с Одигитрией имела только общее сходство, почему и принята за "Одигитрию". Но с одинаковым правом м[итрополит] Гермоген мог назвать казанскую списком с Муромской иконы, принесённой в Муром из Киева, а затем перенесённой св[ятым] Василием Рязанским, около 1291 г., в Рязань, или списком с иконы Колочской-Можайской, Рязанской Феодотьевской и некоторых других, похожих на икону Одигитрии, где Богомладенец изображён сидящим на левой руке Богородицы. [...]
По письму (изображению) Казанскую явленную икону необходимо считать оригинальной».(86)
Вполне обоснованно утверждая, что «казанскую явленную икону Божией Матери нет достаточных оснований называть Одигитрией и считать её списком с последней», И.М. Покровский уточнял: «Можно, конечно, назвать и её иконой Царицы Владычицы и Богородицы и Приснодевы Марии, честнаго ея Одигитрия, но лишь в том общем смысле, в каком каждую богородичную икону можно назвать иконой Одигитрии, т[о] е[сть] Богородицы-Путеводительницы и Заступницы рода христианского. Но в таком случае и при таком понимании явленная Казанская икона не будет списком с Одигитрии Смоленской, как хочется свящ[еннику] Романскому, чтобы объяснить, откуда в летописных сказаниях о принесении в Москву Казанской иконы взялось понятие "список"».(87)
Помимо этого, И.М. Покровский привёл ещё целый ряд аргументов в пользу того, что отнесение Казанской иконы Божией Матери к типу «Одигитрия» является ошибочным. Тем не менее, данный вопрос остаётся дискуссионным.
Развивая мысль И.М. Покровского, казанский краевед Г.А. Мюллер писал, в частности, в опубликованной в 2004 г. статье «К вопросу сложения иконографического типа иконы Божией Матери Казанской»: «По устоявшейся традиции образ новоявленной Казанской Богородицы также принято относить к типу "Одигитрия", как Петровскую (написанную, по преданию, в 1326 г. митрополитом Петром) и некоторые другие. Все они представляют собой погрудное изображение строгого иконографического типа Одигитрия - русской Смоленской. Одигитрия - основной иконографический тип, в котором лик Богоматери и Богомладенца не соприкасаются, Богомладенец Христос восседает на левой руке Богоматери, а правой рукой Богородица указывает на Христа, как на путь, по которому мы все должны следовать. В этом и заключается смысл иконы "Одигитрия", как путеводительницы ко Христу. Принцип этот распространяется на все списки, реплики и варианты этой иконы. На Казанской же иконе изображение Пресвятой Девы огрудное, т[о] е[сть] последние две отличительные и наиболее важные черты иконы "Одигитрия" отсутствуют - рук Богородицы не видно».(88)
Весьма резонные разъяснения на сей счёт содержатся в изданной в 2016 г. книге историка, филолога и искусствоведа М.Б. Плюхановой «"Кипѣние свѣта": Русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории». «Казанская икона, - указывается в ней, - стала Одигитрией в силу литургической традиции, а не потому, что была похожа на константинопольскую Одигитрию».(89) По словам М.Б. Плюхановой, «определение её как Одигитрии удивляло историков Церкви и сейчас ещё удивляет искусствоведов».(90)
Ссылаясь на И.М. Покровского и Г.А. Мюллера, М.Б. Плюханова отмечает, что: «Исследователи сердятся на "личные" ошибки, не различая уровни значений: Одигитрия - как единое имя Богоматери и её иконы, Казанская - как манифестация Одигитрии».(91)
«Упоминание об Одигитрии в повести, - уточняет она, - свидетельствуют не об ошибочной идентификации иконы, а о церковной традицией обусловленном знании, что чудесно явиться должна именно Одигитрия. Гермоген различает иконографический тип, в данном случае необычный, и суть иконы как Одигитрии».(92)
М.Б. Плюханова считает, что никто из участников «обнаружения иконы» «не заблуждается относительно "перевода" иконографии: для созерцавших икону определение Одигитрия не связывалось напрямую со строго определённым иконографическим типом - представление, которое утвердилось в сознании позднейших искусствоведов». «Одигитрия, - пишет она, - найдена в Казанской земле, так же как греческая Одигитрия, символ сокрытого, но сохранённого православия, была найдена в монастыре Пантократора после 60 лет латинского владычества. Она открывается взору обретших её, сияя свежестью красок в знак того, что православие присутствовало в этой земле, но сохранялось тайно от мусульман, - идея, имевшая опору в политических текстах, в агиографических и исторических повествованиях, связанных с казанским завоеванием».(93)
В данной связи примечательными представляются также рассуждения Г.З. Елисеева, содержащиеся в «Кратком историческом сказании о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой».
Рассказывая о явлении Казанской иконы Божией Матери, он, в частности, писал: «Обретённая икона, по повелению Архиепископа, была отнесена в ближайшую к дому Онучина Церковь Николы Тульского. По совершению в сём храме молебствия, она с торжеством провожаема была в собор и здесь на пути явила первое чудо, - исцелив слепца Иосифа, который уже три года ничего не видел. Другой слепец Никита получил тоже благодеяние от Владычицы, по принесении чудотворного Её образа в собор. Так начались чудотворения от иконы Казанския Божия Матери; так начались они и от иконы Пресвятыя Богородицы Одигитрии. Ибо икона Одигитрии потому и названа так, что Божия Матерь, явившись во сне двум слепцам, указала им путь во Влахернскую церковь, где они получили прозрение пред св[ятой] Её иконою. Замечательно, что и впоследствии при чудотворном образе Казанской Божией Матери ни один из недугов не был столь часто врачуем, как недуг слепоты. Это преимущественное целение слепоты телесной не служит ли знаменательным указанием на то, что явление иконы Богоматери было духовным светом для многих, омрачённых слепотою исламизма»?(94)
В.А. Некрасов, в свою очередь, называл «оригинал Казанской иконы» «разновидностью Одигитрии».(95)
С учётом этого, признавая слабость аргументации священника Н.А. Романского, тем не менее, необходимо признать, что и контраргументация И.М. Покровского также отнюдь не являлась безупречной.
Весьма любопытным в связи со всем изложенным представляется свидетельство известного немецкого путешественника и историка Адама Олеария (Adam Olearius) (1599 - 1671), приведённое в его труде «Außführliche Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien» («Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно»), впервые изданном в Шлезвиге в XVII в. и переводившемся на русский язык во второй половине XIX в. и начале XX в. На него, в частности, ссылается Н.Н. Чугреева в своей статье «Казанская икона Божией Матери», помещённой в «Православной Энциклопедии».(96)
Как в немецком оригинале, так и в русском переводе, сообщается о том, что в г. Москву была доставлена «копия» Казанской иконы Божией Матери.(97)
«В Казани много лет тому назад, - сообщал Адам Олеарий, - когда, однако, русские уже владели этим городом, найдена была(98) в земле икона Девы Марии и выставлена в этом городе. Копия её доставлена была в Москву, где в память её построена церковь в конце большой рыночной площади, где стоят ножевые лавки; она называется церковью Пречистой Казанской. В церковь эту около указанного времени совершают паломничества и многие приезжие из других местностей».(99)
Очевидно при этом, что Адам Олеарий, не будучи непосредственным участником описываемых событий, только пересказал почерпнутую им от кого-то (либо прочитанную где-то) информацию, которая, вместе с тем, с учётом места и времени её получения (предположительно 1630-е гг.), представляется не менее ценной, чем свидетельства Никоновской (Никоновой) летописи.
Что же касается непосредственно доводов А.И. Невоструева, то здесь система контраргументации его оппонентов строилась следующим образом.
Отвечая на первый и пятый из них - относительно свидетельств «Лобковского» и «Ельнинского» хронографов - Г.З. Елисеев писал: «По моему мнению: а) завещание патриарха Гермогена может иметь и не тот смысл, который Вы ему приписываете. Если патриарх Гермоген воспринял от земли Казанскую явленную икону Божией Матери, то поэтому самому в переносном смысле и список с этой иконы может быть назван воспринятым им же, точно так же, как, смотря на портрет Вашего крестника, Вы можете сказать: "вот тот, которого воспринял я от купели", хотя это будет не он сам, а только портрет его. Но, b) если придадим завещанию Гермогена и тот смысл, какой придаёте ему Вы, и допустим, что истинные сыны употребили все возможные усилия исполнить последнюю волю патриарха, всё-таки могло случиться, что завещание его осталось неисполненным. Известно, в каком расстроенном состоянии находилось тогда государство, как мало города повиновались определениям Москвы. Особенно это должно сказать о Казани, которая при общем желании других городов очистить Московское государство от поляков, согревала свои думы. "В то время бывшу в Казани дьяку Никонору Шульгину и мысляше себе неблаг совет, тому радовашеся, что Москву за Литвою. Ему же хотящу в Казани властвовати" (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 177). "Когда Казанские по приказу Никонора Шульгина и приидоша до Ярославля, то и тогда назад поидоша, никоторые помощи не учиниша, лише многую пакость земле содеяша и идучи назад; немногие же казанцы осташася - голова Лукьян Мясной, да с ними 20 человек князей и мурз, да дворян 30 человек, да голова стрелецкой Посник Неелов, да с ним 100 человек стрельцов, и быша под Москвою до взятия московскаго, и приидоша в Казань, многия беды и напасти от Никонора претерпеша, Лукьяна Мяснова, Посника Неелова едва в тюрьме не умориша" (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 182). Даже когда совершенно избран был царём Михаил Феодорович и все города с радостию присягнули ему, "приидоша в Арзамас, в Арзамасе же бывшу втепоры вору Никоноры Шульгину со всею Казанскою ратью и начаша приводить ко кресту; тако же Никонор хотяше попрежнему воровати, не нача креста целовати" и проч. (Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 204). При таких отношениях Казани к Москве, когда Казань вовсе не желала очищения Москвы от поляков и имела свои виды в общих смутах, очень могло статься, что казанцы и не исполнили завещания Патриарха Гермогена. Так[им] обр[азом] то, что представляется неправдоподобным в настоящее время, очень правдоподобно по тогдашним отношениям, по расстройству государства. c) Название иконы, принесённой из Казани в Москву, чудотворною в летописях я не встречаю, - оне называют её напротив списком с Казанской. Говорится об этой иконе, как о чудотворной, уже после того, как она показала своё чудодействие при очищении Новодевичьего монастыря (См. Ник[оновская] лет[опись]. т. VIII, стр. 208)».(100)
И.М. Покровский, в свою очередь, поддержал и значительно развил контраргументацию Г.З. Елисеева, назвав свидетельства «Лобковского» и «Ельнинского» хронографов «неопределёнными» и указав, что на них, главным образом, и «основывается ошибочное мнение, что в Москву, по совету патр[иарха] Гермогена, перенесена икона Казанской Божией Матери, которую Гермоген, в бытность священником казанской церкви Николы Гостина, принял из недр земли на свои руки».(101)
И.М. Покровский подробно проанализировав «историю казанской смуты», в результате которой власть в г. Казани была захвачена «партией» дьяка Н.М. Шульгина, который «замышлял отделиться от Москвы, и при содействии персидского шаха, казаков и татар образовать понизовое государство, под главенством Лжедмитрия», или, «со смертию Тушинского вора, под главенством "царевича Ивана" - "Маринкина сынка"».
К «приверженцам» дьяка Н.М. Шульгина И.М. Покровский причислял и нижегородского старосту И.И. Биркина, который впоследствии возглавил Казанское ополчение. Из рассуждений И.М. Покровского также следует, что косвенно к лагерю дьяка Н.М. Шульгина и его «соправителя» С.Я. Дичнева тогда примыкал и правивший вместе с ними делами «всей земли царства Казанского» митрополит Казанский и Свияжский Ефрем (? - 1613) - впоследствии - в 1612 - 1613 гг. - местоблюститель Патриаршего престола, который помазал и венчал на царство первого царя из Дома Романовых - Михаила Фёдоровича.
«Как известно, - писал он, в частности, - главным агитатором против Москвы был дьяк Никанор Шульгин, радовавшийся, что Москва за литвой, питая свои властительские замыслы в Казани. Он и тогдашние долгие казанские смуты могли препятствовать принесению подлинной явленной казанской иконы под Москву».(102)
При этом на возражения священника Н.А. Романского о том, что дьяк Н.М. Шульгин «замыслил не благ совет» и радовался тому, что «Москва за Литвою», уже после того, как Казанская икона Божией Матери была отправлена с Казанским ополчением, И.М. Покровский не преминул заметить: «Очевидно наш критик не знает, что казанские смуты во времена самозванщины и лихолетия на Руси наступили в самом начале 1611 года, т[о] е[сть] задолго до отправки иконы и не прекращались до самого избрания царя Михаила Феодоровича и всё время тесно связаны с личностью Шульгина, открыто выступившего недоброжелателем Москвы».(103)
Весьма любопытными, хоть и не имеющими должного документального подтверждения, представляются предположения И.М. Покровского относительно политических причин призыва Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена) (ок. 1530 - 1612), а также того, почему с Казанским ополчением, по его мнению, был отправлен именно список Казанской иконы Божией Матери, а не сам явленный образ.
«Казанские "воровские заводчики" Шульгин и Биркин, - писал И.М. Покровский, - положительно терроризировали казанцев. Даже до безурядной Москвы дошли слухи о сепаратических стремлениях в Казани. Самому Сигизмунду доносили, что Казань, сговорившись с Астраханью и с другими городами, хочет отложиться за персидского шаха и креста сыну его, королевичу Владиславу, не целует. Опасения казанского сепаратизма тревожили и приверженцев общеземского дела, во главе с патриархом Гермогеном, когда под Москвою в августе 1611 г. стояли уже земские ополчения, среди которых однако ещё не было казанского. Патр[иарх] Гермоген, понимая настроение умов в Казани, считал неудобным непосредственно обращаться к казанцам; он просил нижегородцев отписать в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы этот иерарх убедил казанцев "крепко стоять за веру, прислать ополчение и не звать на царство проклятого Марины паньи сынка"».(104)
По мнению И.М. Покровского: «Кратко рассказанной истории смуты в Казани в продолжение 1611 - 1612 гг. достаточно, чтобы понять: во-первых, что в мятежной Казани голос патр[иарха] Гермогена мог быть неавторитетным; сам Гермоген не рассчитывал на успех личного воздействия на казанцев и не доверял представителям казанской гражданской власти, обращаясь к м[итрополиту] Ефрему через посредничество Нижнего Новгорода; следовательно и завещание п[атриарха] Гермогена - взять в полки, под Москву, чудотворную икону Казанской Богоматери, принятую им из земли на свои руки во время её явления, - для казанцев не имело силы обязательности; при том оно, вопреки уверениям свящ[енника] Романского [...], выражено очень неопределённо и даже м[итрополитом] Ефремом могло быть понято в том смысле, как толкует проф[ессор] Елисеев; во-вторых, для Никанора Шульгина, мечтавшего об основании особого государства из низовых городов, с центром в Казани, местная казанская святыня - явленная Казанская икона Божией Матери имела весьма важное значение для объединения низовых городов. Казанская мятежники-сепаратисты особенно должны были дорожить ею. К партии Шульгина принадлежали и духовные лица, каков сват его строитель Амфилохий (Рыбушкин), не слушавшийся троицких грамот. Эта разносословная противомосковская партия, несомненно, понимала, что перенесение и сосредоточение местной святыни в Москве много способствовали объединению Московского государства, с возвышением Москвы и ослаблением окраин. Поэтому приводимые свящ[енником] Романским примеры, что в 1395 г., по случаю нашествия Тамерлана, из Владимира была принесена в Москву, где и осталась, подлинная икона Владимирской Божией Матери, а не копия, что также принесена была Донская икона Дмитрию Иоанновичу во время брани с Мамаем [...], могли только удержать казанские власти от посылки под Москву именно явленной иконы; в-третьих, Шульгин ещё задолго до отправления под Москву, в помощь русской рати, для освобождения от поляков списка с явленной Казанской иконы Божией Матери (осенью 1611 г.), задумал "не благ совет" и не оставлял его даже после избрания на царство Михаила Феодоровича, а не только после факта отправления св[ятой] иконы из Казани, как пишет свящ[енник] Романский [...]. К этому, вопреки свящ[еннику] Романскому [...], нужно прибавить, что в сильной партии Шульгина никогда не было раскаяния в измене. Присылку казанского земского ополчения проф[ессор] Н.П. Загоскин называет простою комедией, подстроенною предусмотрительными казанскими диктаторами для простого очищения своей совести.(105) Одно то, что во главе ополчения от "великого царства казанского" стоял сообщник Шульгина Иван Биркин, не обещало ничего хорошего. Действительно, казанское ополчение рассорилось, и Биркин с большею частью ополчения возвратился обратно в Казань из-под Ярославля, по приказанию оставшегося в Казани дьяка Шульгина».(106)
Иными словами, И.М. Покровский, говоря современным языком, указывал на то, что обладание явленной Казанской иконой Божией Матери имело тогда огромное политико-идеологическое значение, в силу чего местные «сепаратисты» были крайне заинтересованы в том, чтобы она оставалась в г. Казани, а значит вполне могли проигнорировать призыв Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена), направив с Казанским ополчением её список.
«Любопытно, - отмечал также И.М. Покровский, - что князь Пожарский, освободивший Москву от поляков, не мог приказывать Казани. Тот самый м[итрополит] Ефрем, на которого особенно надеялся патр[иарх] Гермоген, отказал ему в просьбе поставить сторожевского игумена Исаию на Крутицкую митрополию, чтобы Исаия временно заведывал делами Московского патриархата.(107) Вероятно, и м[итрополит] Ефрем, управлявший "всей землёй царства Казанского" вместе с дьяком Шульгиным и Дичневым, во время диктаторства Шульгина, мог согласиться на отправку под Москву только "списка" с явленной иконы, а не подлинника, слишком дорогого для Казани».(108)
Безусловно, вышеприведённые рассуждения И.М. Покровского представляются весьма логичными и ценными с научной точки зрения, однако, несмотря на это, в них не содержится однозначного документального подтверждения того, что в г. Казани была оставлена именно явленная Казанская икона Божией Матери.
Отвечая на второй довод А.И. Невоструева - относительно причин отправки из г. Ярославля в г. Казань списка Казанской иконы Божией Матери, Г.З. Елисеев ответил, что «так нужно было сделать» потому, «что копия эта прислана была из Казани и принадлежала Казани»: «Оставляя её у себя навсегда, - уточнял он, - нижегородское ополчение, естественно, должно было чем-нибудь вознаградить казанцев. Заметим к тому же, что копия эта была уже не простая, но оказавшая чудодействие при очищении Новодевичьего монастыря от поляков, которая следственно поэтому самому делалась драгоценною для нижегородского ополчения, шедшего на бранные подвиги, и которая по тому же самому, как икона чудотворная, делалась драгоценною и для казанцев. Удерживая у себя копию, присланную из Казани, копию, сделавшуюся чудотворною, и посылая в Казань простую, обыкновенную копию, не должно ли было нижегородское ополчение богато украсить последнюю сколько возможно лучше, чтобы этим, по крайней мере, вознаградить то, что теряли казанцы в копии, удержанной нижегородским ополчением»?(109)
Точку зрения Г.З. Елисеева поддержал А.А. Дмитриевский, процитировавший его ответ, помещённый в статье И.М. Покровского «Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери...».(110)
Однако, данные аргументы, не опирающиеся на какие-либо документальные свидетельства, а строящиеся исключительно на доводах о праве собственности г. Казани на Казанскую икону Божией Матери, являвшуюся к тому же, по убеждению Г.З. Елисеева, списком явленного образа, а также - на религиозную мотивацию, связанную с чудотворением означенного списка и обретением им в связи с этим самостоятельного значения, также не представляются достаточно убедительными с научно-исторической точки зрения.
Отвечая на третий - о поставлении князем Д.М. Пожарским Казанской иконы Божией Матери, с которой он «вошёл в Москву», в церкви Введения на Лубянке, а также, в известном смысле, на все остальные доводы А.И. Невоструева, Г.З. Елисеев писал о «Казанской» Казанской иконе Божией Матери: «Голос народный или, лучше сказать, предание народное всегда признавало и признаёт здешнюю икону за чудотворную. Я знаю, что за чудотворную признаётся и хранящаяся в Московском Казанском соборе икона. Но если мы допустим, что последняя икона и не явленная, всё-таки будет основание признать её чудотворную; так как она показала своё чудодействие при очищении Москвы от поляков; - между тем как, если предположим, что находящаяся в Казани икона есть только список с чудотворной, то уже не останется никакого основания почитать её чудотворной и народное предание надобно будет признать совершенно лживым. А оно едва ли когда бывает таково относительно подобных предметов».(111)
Причём, Г.З. Елисеев указывал, что «предание», согласно которому «здешний образ Казанской Б[ожией] Матери чудотворный», «не ново». «Спустя 15 каких-нибудь лет, - уточнял он, - после основания Казанского Московского собора, оно говорило то же самое, что и теперь».(112)
В качестве примера он ссылался на содержащийся в дополнениях к IV тому издания «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук» (1836 г. издания) документ под названием «Патриаршая грамота Серапиону, Архиепископу Суздальскому и Торусскому, о собрании сведений об исцелениях, проистекающих от иконы Казанской Божией Матери, явившейся в Суздальском уезде» («323. - 1647 Мая»), в котором, в частности, сообщалось, как крестьянин «села Караши деревни Борушки» Ростовского уезда «Авксентий, сын Васильев», у которого болели ноги и левая рука, ездил в г. Казань, где «от образа пречистые Богородицы получил исцеление, стал от тое скорби здоров и после де того явися ему во сне образ пречистые Богородицы Казанские, что де велела ему итти за Волгу, на Лебедино Озеро, и тружатися на той пустыни».(113)
«Если бы показания крестьянина относительно его исцеления от иконы Казанской Божией Матери, а также и относительно явления ему во сне этой иконы были ложны, - делал из этого вывод Г.З. Елисеев, - всё-таки остаётся несомненным, что он признавал образ Казанской Божией Матери, находящийся в Казани, чудотворным и следовал в этом, конечно, общему мнению. А так как неизвестно, чтобы между годами 1612 и 1647 какая-нибудь другая икона Божией Матери прославилась в Казани своими чудотворениями, то и необходимо допустить, что явленная икона Казанской Б[ожией] Матери, обретённая в 1579 году, была в 1647 году в Казани, здесь же следовательно находится и в настоящее время».(114)
Однако, опять же, необходимо признать, что «предания» о чудодейственной силе «Казанской» Казанской иконы Божией Матери отнюдь не являются достоверным свидетельством того, что именно этот образ был явленным («подлинным», «оригинальным»).
Отвечая на четвёртый довод А.И. Невоструева относительно того, что название церкви (собора) в г. Москве, где пребывала «Московская» Казанская икона Божией Матери, «Богородицы Казанския» («Пречистыя Казанския»), «что на Пожаре», указывало на «первоначальное явление» её «на пожарище Казанском», Г.З. Елисеев разъяснял: «Так как такого названия явленной иконе Казанской Божией Матери здесь в Казани никогда не придавалось, а дано оно в Москве; то мне кажется вероятнее предположить, что Ваша икона получила название от каких-нибудь местных обстоятельств, бывших в самой Москве. Притом иконе ли усвояется это название? - Г[осподин] Строев в своих объяснениях к выходам царей приписывает это название площади. Это, я думаю, и вероятнее, потому что, если бы икона Казанской Божией Матери отличалась этим характеристическим названием, то такое название постоянно бы придавалось ей. Между тем как в выходах царей название: что на пожаре, придано Вашей иконе всего три раза».(115)
Действительно, давно известно, что «Пожаром» в г. Москве первоначально называлось место, на котором затем возникла Красная площадь, а в некоторых источниках так именовалось и место, где потом появились «Лубянская и Варварская площади».(116)
Современный исследователь Я.З. Рачинский указывает, в частности, что название «Пожар» последний раз упоминается в документах в 1659 г., имея в виду запись под 22 октября 7168 (1659) г. из «Выходов государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (С 1632 по 1682 г.)» - «ходил Государь в ход за кресты, к празднику, к Богородице Казанской, что на Пожаре, и слушал обедни»(117). Но уже в 1661 г., согласно его заключению, сделанному со ссылкой на тот же документ («июля в 8 день слушал Государь всеношного у празника, пречистыя Богородицы Казанския, что на Красной Площеди, у старого Земского двора»)(118), «используется только новое название, старое не упоминается ни разу». «Сходным образом, - добавляет Я.З. Рачинский, - в Дворцовых разрядах в распоряжениях к встрече послов от 23 апреля 1661 г. уже фигурирует название Красная площадь, и в записке о самой встрече также указано, что при встрече стояли "по обе стороны Красные площади жильцы и дворяне, и стряпчие"(119), и далее встречается только оно».(120)
Достаточно логичной и обоснованной представляется контраргументация Г.З. Елисеева и развившего его мысль И.М. Покровского относительно замечания А.И. Невоструева о Седмиозерной (Седмиезерной) иконе Божией Матери.
По мнению Г.З. Елисеева, двукратное спасение «в половине 17-го в. и около конца 18 в.» от смертоносной язвы г. Казани, «коим этот город обязан единственно чудотворной иконе Седмиозерной», «нисколько не указывает» на отсутствие здесь явленной в 1579 г. чудотворной иконы Богородицы.
«Никто не будет отвергать, - писал он А.И. Невоструеву, - что во время первого и второго морового поветрия, о которых говорите Вы, были в Казани мощи св[ятителя] Гурия и св[ятителя] Варсонофия, были в городах и окрестностях казанских - чудотворная икона преподобного Сергия в Свияжске, чудотворная явленная икона в пустыни Мироносицкой. Почему же, спрашивается, ни в одной из этих святынь, хотя все оне благоговейно чтутся в Казани, не обратились казанцы с прошением о помощи противу постигшего их бедствия? - Потому, что в бедствиях народных прибегают с мольбою к известным святым, известным иконам не самопроизвольно, а по указанию Божественному. В Москве много было чудотворных мощей и икон в смутное время, но Москва обратилась с мольбою о помощи к иконе Казанской Божией Матери. Почему? Потому, что эту икону завещал взять нижегородцам в полки свои патриарх Гермоген, а в этом завещании патриарха видели волю Божию. Так точно и в Казани во время бывшей смертоносной язвы обратились с мольбою о помощи к иконе Божией Матери Смоленской, находящейся в Седмиозерной пустыни, потому что эта икона указана была Московским гостем Шориным, в голосе которого видели высшее указание».(121)
И.М. Покровский подтверждал эти умозаключения Г.З. Елисеева весьма любопытным документальным свидетельством о «дерзком поступке» священника КБМ Зотика, приведённом в выдержавшем несколько изданий труде «Сказание о Седмиезерной Богородицкой пустыни, Казанской епархии, и о чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, называемыя Смоленския, составленное по благословению преосвященного Лаврентия, митрополита Казанского и Свияжского, на славянском языке, ныне же переведённое на русский язык».
«В Сказании о Семиозерной Богородицкой пустыни (Казань, 1858 г.), стр. 45 - 46, - писал И.М. Покровский, - говорится, что он "снедаемый завистью, когда однажды при м[итрополите] Лаврентии (1657 - 1672 г.) икону Смоленской Божией Матери принесли в Казань из Седмиозерной пустыни и начали служить пред ней молебны, стал бесстыдно говорить: зачем вы принесли сюда сию икону? Разве город Казань не имеет своего чудотворного образа для такого дела? Вы из пустыни принесли сию икону, а ещё прежде неё Казанская икона начала чудодействовать во граде сём?" Своим бесстыдством Зотик хотел отвлечь народ от иконы Смоленской Божией Матери и по чисто корыстным побуждениям привлечь его в Казанский женский монастырь, где стояла явленная чудотворная икона. Зотик был наказан болезнию за свою дерзость, но исцелился после раскаяния».(122)
«Путаницы» и «обстоятельства»
Вслед за А.И. Невоструевым, священник Н.А. Романский в дискуссии с И.М. Покровским привёл ещё целый ряд доводов, носивших формальный характер (причём, частью откровенно ошибочных в документально-историческом отношении). Учитывая последнее обстоятельство, И.М. Покровскому не доставило большого труда опровергнуть эти доводы в своей статье «Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани...».
При этом он, в частности, обратил внимание на искажение священником Н.А. Романским хронологии в отношении датированной 29 сентября 1649 г. «Окружной царской грамоты Маркеллу, Архиепископу Вологодскому и Велико-Пермскому, о праздновании явлению чудотворной иконы Казанской Богородицы в 22 день Октября»(123) и произвольное отождествление им «понятия "явление", как факта, с понятием "явленная", как предиката к подлинной Казанской иконе Божией Матери»(124).
Однако одновременно А.А. Дмитриевский и - вслед за ним - И.М. Покровский указали на следующее немаловажное обстоятельство. «По историческим мотивам, - писал И.М. Покровский, - установление праздника 22 октября в "царствующем граде Москве" "избавления ради от Ляхов в лето 721 (1612 г.)", этот праздник у архиеписк[опа] Сергия называется "праздником иконе Пресв[ятой] Богородицы Казанския, избавления ради от Ляхов в 1612 г." (Полн[ый] Месяц[еслов] II, стр. 327), у архиеписк[опа] Димитрия "праздником Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии Чудотворныя ради ея иконы, нарицаемыя Казанския, за избавление Царствующаго града Москвы от Литвы, в 1612 году" (Месяцеслов, вып. II, Каменец-Подольск 1893 г., стр. 129). Как таковой, праздник 22 октября оказался не только церковным, но и гражданским. Объявление его всероссийским в 1649 г., после рождения царевича Димитрия, усилило его гражданский характер. С характером церковно-гражданского он остаётся и доселе, будучи отнесён, по ныне действующим законам, к табельным дням или праздникам (Архиеписк[оп] Димитрий, Месяцеслов II, стр. 131; Труд[ы] Киев[ской] Дух[овной] Академии. Февр[аль] 1905 г., стр. 210).
Но, несмотря на разницу причин установления праздников 8-го июля и 22 окт[ября], их характера и внутреннего смысла, церковное торжество, однако, ничем не отличается, и для обоих праздников существует одна и та же служба "Явлению иконы Пресв[ятой] Владычицы нашея Богородицы Казанския". Это обстоятельство, несомненно, объясняется тем, что сущностью собственно церковного праздника, как 8 июля, так и 22 октября, остаётся "явление". Совершенно одна и та же служба, положенная в Минее на 8 июля и 22 октября, в свою очередь послужила одной из главных причин путаницы для составителей Сказаний о Казанских иконах (Московской и Петербургской) и для проповедников в понимании исторической судьбы оригинала или явленной иконы Казанской Божией Матери, хранившейся в Казани, и чудотворных списков её в Москве и Петербурге. Одновременно все три эти Казанские чудотворные иконы Божией Матери считались явленными, тогда так "Явленная" икона была одна и до злополучной ночи на 29 июня 1904 года оставалась в Казани. Акафист "Пресвятой Богородице явления ради чудотворныя ея иконы Казанския", составленный в 1867 года действ[ительным] статским советником Н.В. Елагиным, разрешённый к печати и церковному употреблению 8 - 11 декабря 1867 г., выдержавший уже более 15 изданий (Проф[ессор] А.В. Попов. Правосл[авные] Русские акафисты. Казань. 1903 г. стр. 251 - 253), с приложением Петербургской иконы, ещё долго может служить к сохранению путаницы в понимании исторической судьбы оригинала или явленной Казанской иконы Божией Матери и чудотворных списков с неё, находящихся в Москве и Петербурге. Кондаки 1 - 4, икосы 1 - 3 относятся к явленной Казанской иконе, бывшей в Казани, икос 4-й к Московскому списку, икос 5-й к Петербургской иконе. Так точно проф[ессор] Дмитриевский и в самой церковной минейной службе "Явлению" Казанской иконы Божие[й] Матери находит смешение праздничных песнопений; одни из них характерны для 8 июля, другая для 22 октября: некоторые из них имеют непосредственное отношение только к явленной, ныне похищенной, и не приложимы к другой».(125)
В данной связи А.А. Дмитриевский поставил вопрос о пересмотре службы «Явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы Казанския», полагая, согласно разъяснению И.М. Покровского, «что, в случае окончательной утраты явленной иконы, в службе 22 окт[ября] следует сохранить только те песнопения, которые характерны для 22 октября, как церковно-гражданского праздника».(126)
«Пересмотр названной службы, - уточнял, в частности, А.А. Дмитриевский, - желателен и потому, чтобы в песнопениях службы на настоящий праздник 22 октября нашёл себе отражение элемент исторический, те события из жизни нашего отечества, которые вызвали "в воспоминание предбудущым родом" учреждение празднества 22 октября и которые в этих песнопениях ныне обойдены полным молчанием».(127)
«По нашему мнению, - добавлял И.М. Покровский, - вместе с пересмотром службы необходимо пересмотреть и акафист. Служба 8-го июля должна была(128) проникнута всецело мыслью о явлении иконы в Казани и знамений, относящихся к этому событию. Ведь даже с утратой явленной иконы основанием церковных праздников в честь Казанской иконы Божией Матери остаётся "явление" её, даже и 22 октября, только поводы установленных праздников будут разные».(129)
Г.З. Елисеев, а вслед за ним И.М. Покровский, указывали ещё на одну «путаницу», возникшую в связи с изданием в 1849 г. «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой», где иллюстрациями к разделам «Чудотворная икона Казанской Божией Матери» и «Чудотворная икона Смоленской Божией Матери - Седмиозерная» послужили изображения довольно сомнительного свойства. Известно при этом, что, хотя таковое и было составлено Г.З. Елисеевым, но «право издания этого сочинения» было уступлено им «Троице-Сергиевской Лавры(130) казначею иеромонаху Сергию».(131)
В ответном письме А.И. Невоструеву Г.З. Елисеев упомянул «об одном обстоятельстве, которое заставляло обращаться ко мне с тем же вопросом, который предложили Вы мне в Вашем письме». «В конце 1849 г., - писал он, - вышла в свет в Москве книжка под названием "Краткое историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной, Раифской и Мироносицкой". Издатель этой книжки счёл нужным приложить к ней изображения Божией Матери Казанской и Смоленской. Но, вероятно, затрудняясь приобресть в скором времени снимки с икон Казанской Божией Матери, находящейся в Казанском девичьем монастыре, и Смоленской в Седмиозерной пустыне, приложил вместо их снимки с других икон, которые по месту его жительства были для него ближе и доступнее, именно с иконы Казанской Божией Матери, что в Казанском Московском соборе, и с иконы Смоленской Божией Матери, что в Московском Первоклассном Новодевичьем монастыре. Издатель не объяснил при этом ни того, что он сделал это по своему желанию, без согласия автора, ни того, почему вздумалось ему поместить в книжке, в которой описываются чудотворные иконы казанские, а не московские, несообразные с описанием изображения. Потому естественно, что по мере распространения этой книжки в публике, в некоторых возникла мысль: не потому ли помещено в ней изображение Казанской Божией Матери, которое находится в Московском Казанском соборе, что автор почитает именно эту икону явленною, а не ту, которая хранится в Казанском Девичьем монастыре. Если и Вам приходила подобная мысль при чтении помянутой книжки, то почитаю долгом повторить Вам то же, что говорил и другим, т[о] е[сть] что изображения при книжке приложены издателем без моего ведома и согласия, что сам я всегда был вполне убеждён, что явленная икона Казанской Божией Матери находится не в Московском Казанском соборе, а в Казанском Девичьем монастыре в Казани».(132)
Как указывал И.М. Покровский, эта брошюра «возбудила большое недоумение в Казанском обществе» и, в частности, в тогдашнем архиепископе Казанском и Свияжском Григории (Г.П. Постникове) (1784 - 1860), который потребовал от Г.З. Елисеева объяснения и, получив таковое, «кажется, им удовлетворился».(133)
При этом И.М. Покровский намекал на некий сознательный умысел, который мог привести к «подмене» иллюстраций. «Намеренно или ненамеренно иер[омонах] Сергий к Сказанию о Казанских иконах приложил изображения Московских икон, сказать трудно, но сам Григорий Захарович, как видно из ответного письма Московскому протоиерею Александру Ивановичу Невоструеву, понимал всю неуместность сделанных приложений и подозревал в этих приложениях намеренное подтверждение ложного мнения москвичей о явленной Казанской иконе. Архиепископ Григорий своим проницательным взором тоже видел, что все это сделано неспроста».(134)
Помимо прочего, отстаивая гипотезу о явленности «Московской» Казанской иконы Божией Матери, священник Н.А. Романский ссылался на надписи, сделанные на старинных колоколах из Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы (утраченных в связи с их переливкой), где этот собор назывался «церковью новоявленнаго образа Пречистыя Богородицы казанския».
Одна из надписей была воспроизведена в части II «Путеводителя к древностям и достопамятностям Московским...», изданной в г. Москве в 1792 г. «На большем колоколе, - сообщалось в нём, - следующая надпись: "Божиею милостию Великий Государь, Царь и Великий Князь Михаил Феодорович, всея России Самодержец, и его Боголюбивая Царица и Великая Княгиня Евдокия Лукиановна, и благородныя чада, Царевич Князь Иван Михайлович, и Царевна Великая Княжна Ирина Михайловна, и Царевна и Великая Княжна Анна Михайловна, Царевна и Великая Княжна Татиана Михайловна, сей колокол велели слить к церкви Новоявленнаго Образа Пречистыя Богородицы Казанския, лета 7145 (1637)».(135)
Признавая достоверность этих надписей, И.М. Покровский одновременно указывал: «Но, как освящение московского Казанского собора в честь "явления" чудотворной Казанской иконы, так и название его в колокольных надписях церковью новоявленного образа Пречистыя Богородицы Казанския, не дают права отождествлять понятия(136) "явление" и "явленный" и говорить, что в этом соборе "новоявленного образа" в 1636 году находилась подлинная явленная или новоявленная чудотворная икона Казанской Богоматери, как думает священник Романский [...]».(137)
При этом он приводил ссылки и цитировал документы о почитании в г. Казани «новоявленнаго чудотворнаго Пречистыя образа Казанские» («Пречистыя Богородицы новоявленнаго образа»), а также указывал на источник, где КБМ - под 1672 г. - назывался «Пречистыя Богородицы Новоявленнаго Образа» девичим монастырём.(138)
«Если московский Казанский собор в колокольных надписях назывался церковью новоявленного образа Пречистыя Богородицы Казанския, - разъяснял И.М. Покровский, - то и вообще все русские храмы, построенные во имя Казанския Богородицы (их особенно много строилось в XVII в.), можно назвать церквами "новоявленного образа" Казанския Богородицы или "явления" Казанския иконы Божия Матери, так как престолы их должны праздноваться 8-го июля или 22 октября, когда постановлено во всей России праздновать "Явлению иконы Казанския Богоматери" или "новоявленному ея образу", остававшемуся в Казани».(139)
Ещё один из «спорных» эпизодов был связан с событиями 1614 г., когда направленный против атамана И.М. Заруцкого (ум. 1614) и Марины Мнишек (ок. 1588 - 1614/1615) военный отряд под командованием князя И.Н. Одоевского (Меньшого) (ум. 1629) - посланный из г. Москвы и зазимовавший в г. Казани - вошёл в г. Астрахань «с образом Пречистые Богородицы новоявленные чудотворные иконы Казанские».
О подготовке к его встрече сообщалось в датированной 1 июня 1614 г. «Отписке стрелецкого головы Хохлова воеводам князю Одоевскому и Головину, о распоряжениях, сделанных им для встречи их и приёма в Астрахани» и датированной 29 мая 1614 г. «Отписке воевод князя Ивана Одоевского и Семёна Головина стрелецкому голове Василью Хохлову, о порядке встречи и приготовлении им для постоя домов в Астрахани, и проч.», опубликованных в томе третьем сборника «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею», напечатанном в г. Санкт-Петербурге в 1841 г.(140)
При этом священник Н.А. Романский считал, что князь И.Н. Одоевский (Меньшой) взял с собой «Московскую» Казанскую икону Божией Матери, видя в её именовании в «отписках» подтверждение того, что именно она являлась явленной. И.М. Покровский же, в свою очередь, доказывал, что это была «Казанская» Казанская икона Божией Матери, взятая им из г. Казани. Документальных подтверждений ни того, ни другого не обнаружено. Доводы священника Н.А. Романского опирались на то, что образ характеризовался как «новоявленный чудотворный», и то, что отряд князя И.Н. Одоевского (Меньшого) изначально вышел из г. Москвы. А доводы И.М. Покровского - на «додумываниях» по поводу «возвращения» его в г. Казань и логических построениях, должных доказать, что означенный образ не мог быть «Московской» Казанской иконой Божией Матери.
«25 июня 1614 г. Заруцкий пойман и пленником немедленно был отправлен в Казань под конвоем в 230 человек стрельцов, - писал, в частности, И.М. Покровский. - Вслед за ним туда же была отправлена Марина с сыном под конвоем 600 стрельцов. Из Казани обоих отправили в Москву, где Заруцкого посадили на кол, сына Марины повесили, а сама Марина умерла в тюрьме. Вместе с сильными конвоями могла быть возвращена в Казань новоявленная чудотворная икона Казанской Божией Матери, если только она не была почему-либо возвращена раньше и, конечно, навсегда осталась там».(141)
Не основаны на документальных свидетельствах, хотя и достаточно логичны, и другие его контраргументы. «Наконец, совершенно невозможно допустить, - отмечал И.М. Покровский, - чтобы Одоевский, вышедший против Заруцкого из Москвы в начале 1613 г., около полутора года ходил с Московской чудотворной иконой по России и даже зимовал с ней в Казани. Этого не позволил бы царь и кн[язь] Пожарский. Взять из Казани явленную икону (возможно, что был взят только новый список с неё) в Астрахань для кн[язя] Одоевского представлялось необходимым и вот почему.
Царские воеводы, узнав, что Заруцкий стеснён в Астрахани, поспешно двинулись к Астрахани, но на дороге узнали, что Астрахань уже очищена от воров. Это известие, говорит С.М. Соловьёв, как видно, было неприятно князю Одоевскому, потому что вся честь подвига принадлежала теперь не ему, а Хохлову. Одоевский писал даже Хохлову, чтобы он не извещал царя о событиях в Астрахани. Не участвовавши нисколько в освобождении Астрахани, воевода однако требовал себе торжественной встречи в Астрахани. Весьма возможно, что в это время Одоевскому пришла в голову счастливая мысль взять с собой в Астрахань образ Пречистыя Богородицы, новоявленныя чудотворныя Казанския. Этим можно объяснить молчание летописей о том, что Одоевский шёл в Астрахань с новоявленным образом. Торжественная церковная церемония встречи чтимой иконы в Астрахани, о чём уже распорядился Хохлов, придавала особенную торжественность въезду Одоевского в Астрахань, о чём особенно хлопотал Одоевский. В отписке кн[язя] Одоевского самое очищение Астрахани приписывается милости Божией и Пречистые Богородицы, молитвам святых и царскому счастью, а не Хохлову».(142)
Многие доводы священника Н.А. Романского не выдерживают критики, однако и его оппонент И.М. Покровский также иногда использовал не вполне корректную аргументацию.
Так, 1 июня 1798 г. в г. Казани в один из списков «Сказания о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани» была внесена запись (приписка), воспроизведённая затем в качестве сноски к опубликованной в 1867 г. в «Известиях по Казанской Епархии» «интегрированной версии» этого известного документа.(143) В означенной записи (приписке), сделанной на третий день после церемонии закладки в КБМ второго каменного Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери), проходившей с участием Императора Павла I Петровича (1754 - 1801) и его сыновей - Наследника Цесаревича и Великого князя Александра Павловича (1777 - 1825) (будущего Императора Александра I) и Великого князя Константина Павловича (1779 - 1831),(144) сообщалось, в частности: «1) По отпусте святой литургии, которую Его императорское величество и их императорское высочество(145) благоизволили слушать в тёплой соборной церкви рождества пресвятыя Богородицы, со изнесением явленной Богородичной иконы шествовали с преосвященным архиепископом, властьми духовными и гражданскими, к месту святаго престола».(146)
«Из приведённой записи ясно видно, - отмечал в связи с этим И.М. Покровский в своей статье "Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери...", - что в конце XVIII в. явленной Казанской иконой Божией Матери считалась бывшая в Казанском женском монастыре. Тот самый император, который устроил величественный собор в Петербурге в честь Петербургской Казанской иконы, воздал подобающее уважение первообразу, присутствуя на закладке нового холодного храма во имя явления чудотворного образа Казанской Божией Матери в Казанском женском монастыре».(147)
Однако священник Н.А. Романский посчитал, в частности, что данная запись (приписка) отражает личный взгляд её автора. Это замечание представляется достаточно логичным, так как анонимная запись (приписка), датированная концом XVIII в., по определению не может являться веским документальным подтверждением явленности («подлинности», «оригинальности») «Казанской» Казанской иконы Божией Матери, сомнения относительно чего восходят к началу XVII в. В данном случае можно говорить лишь об уверенности автора записи (приписки) в том, что именно пребывавший в КБМ образ был явленным.
Но И.М. Покровский предпочёл «растворить» указанный довод священника Н.А. Романского в обличительных рассуждениях по поводу сомнений своего оппонента в подлинности этой записи (приписки).(148)
Столь же неубедительной, на мой взгляд, является ссылка И.М. Покровского на источник, датированный 1706 г., - запись в приходо-расходной книге митрополита Казанского и Свияжского Тихона (Т.В. Воинова) (1655 - 1724), которая гласила: «Октября в 27 день взято для благословления преосвященнейшему митрополиту бывающих у него приказных людей у соборного протодиакона у Григория Терентьева две иконы списки с подлинного образа Богородицы Казанския, дано 23 алт[ына] 2 ден[ги] дано».(149)
«Конечно не в Москву ездил за этими списками соборный протодиакон», - рассуждал на сей счёт И.М. Покровский.(150) «Таким образом, - делал он далее из всего этого вывод, - чудотворная Казанская икона Божией Матери, хранившаяся в XVII и XVIII вв. в Казани, называется не только новоявленной и явленной, но ещё подлинной».(151)
Помимо этого, И.М. Покровский указывал, что «в скрепе и засвидетельствовании по листам монастырской рукописи № 1359/1, которые читаются так: "Сия книга, содержащая в себе службу Богоматери Казанския Казанскаго ж Богородицкаго девичаго монастыря 1777 года м-ца июня 15 дня подписана и засвидетельствована в том, что действительно оная служба с явлением и чудесами принадлежит к явленному образу Божия Матери Казанския, что в граде Казане"».(152)
«Ни одной из них нельзя назвать точным списком с другой...»
Помимо всего прочего, дискуссия коснулась различий во внешнем виде и художественном исполнении «Казанской», «Московской» и «Санкт-Петербургской» («Петербургской») икон.
И.М. Покровский утверждал, что, «всматриваясь в изображения Казанской, Московской и С.-Петербургской чудотворных икон, легко убедиться, что ни одной из них нельзя назвать точным списком с другой».(153)
«На иконе, похищенной из Казанского женского монастыря, - уточнял он, - Божия Матерь изображена с преклонённою главою к Божественному Младенцу. Изображение Богоматери, так называемое, грудное, а потому не изображено ни одной руки её. Богомладенец представлен стоящим, по одежде препоясанным и с десницею несколько отклонённою в правую сторону, благословляющим с перстосложением древним, близким к двуперстию, причём благословляющая рука пред грудью и нижнею частью шеи Богоматери. Глава Богоматери с круглым ликом склонилась почти к самой главе Богомладенца с волосами без пробора. Лик Богомладенца - обращён к молящимся совершенно прямо. Икона письма древне-греческого, цвета тёмного; величина её в ширину 5 верш[ков], в длину 6 верш[ков].
На Московской иконе изображение также грудное. Глава Богоматери с продолговатым лицом мало склонена к Богомладенцу и далеко не доходит до его главы. Благословляющая десница уже с совершенно правильным именословным благословением, в стороне от шеи и груди Богоматери. Вообще обе фигуры более выпрямлены и отклонены одна от другой. Волосы на голове Богомладенца имеют пробор справа налево; глава несколько обращена к Богоматери. По всему видно, что письмо Московской иконы новее и даже, как будто, не греческое; величина иконы в длину 6 1/2, в ширину 5 3/8 верш[ка].
На Петербургской иконе изображение Божией Матери менее, чем поясное, высокой художественной кисти. Богоматерь на левой руке (руки не видно ни на Казанской, ни на Московской иконах) держит Богомладенца, Которого десница со сложенными перстами приподнята для благословения; размер иконы 13 1/2 вершк[а] в длину и 12 верш[ков] в ширину. Самое письмо и размер Петербургской иконы говорят за то, что она список не с иконы, находившейся в Казани, а с иконы, вероятно, Московской, взятой за ор[и]гинал, быть может, по указанию Парасковьи Феодоровны».(154)
При этом И.М. Покровский указывал на то, что о «Казанской» Казанской иконе Божией Матери он писал, «зная её в подлиннике и фотографическом снимке», а о «Московской» - «по изображению, приложенному в брошюре Г.З. Елисеева о Казанских иконах изд[ания] 1849 г., о Петербургской по описанию её у А.А. Завьялова (СПБ. Дух[овный] Вест[ник]. 1895 г. № 25, стр. 550) и со слов очевидцев».(155)
Подобное описание «Московской» Казанской иконы Божией Матери, опирающееся на сомнительную иллюстрацию, «без проверки с оригиналом», вызвало справедливые нарекания священника Н.А. Романского. Одновременно он выразил несогласие с И.М. Покровским в том, что таковая является иконой «позднейшего происхождения». На это его казанский оппонент ответил, что говорил «только о том, что письмо московской иконы "новее", с чем должен согласиться сам свящ[енник] Романский, знающий, что в 1754 - 1755 г. вместе с обновлением московского казанского собора и реставрацией живописи реставрирована была иконопись чудотворного образа Казанской Богоматери».(156)
Одновременно И.М. Покровский утверждал, что: «Живопись Явленной Казанской иконы Божией Матери, хранившейся в Казани, никогда не реставрировалась и, как святыня, сохранялась под слюдой».(157)
Помимо этого, И.М. Покровский в качестве одного из аргументов в пользу явленности «Казанской» Казанской иконы Божией Матери ссылался на наличие у неё ризы XVI в., особо подчёркивая, что «драгоценная похищенная риза - дар Грозного и сына его Феодора Иоанновича - всегда хранилась вместе с иконой».(158)
«Одно то, - утверждал он, - что риза на Московской иконе в 1754 г. была серебряная и после французского грабежа в 1812 году, вновь сделана такая же, а на Казанской, ныне похищенной, всегда была золотая, может говорить за то, что в Казани хранилась именно явленная икона, украшенная царём Иоанном Грозным и его сыном Феодором Иоанновичем. От похищенной иконы в монастыре сохранилась другая, также золотая и драгоценная риза - праздничная, но, как новая, она не так ценилась, как древняя, царский дар».(159)
Однако, несмотря на всё это, необходимо признать, что спор на сей счёт между И.М. Покровским и священником Н.А. Романским носил по большей части умозрительный характер, так как, прежде всего, им не с чем было сравнивать, ибо отсутствует точное (детальное) описание явленной Казанской иконы Божией Матери, сделанное до известных событий «Смутного времени». Описания XIX в. (тем более, весьма приблизительные) в данном случае особого значения не имеют.
Это же относится и к ризам. Тем более, что весьма странно, никто из оппонентов А.И. Невоструева и священника Н.А. Романского не задавался вопросом о том, куда делся отравленный в «Смутное время» из г. Ярославля в г. Казань «украшенный» список с «Московской» Казанской иконы Божией Матери.
Кроме того, даже после сделанных священником Н.А. Романским замечаний И.М. Покровский не нашёл возможности детально изучить «Московскую» Казанскую икону Божией Матери.
«К сожалению, - писал он, - мы и теперь лишены возможности лично, на месте, в Москве сравнить письмо Московской иконы с похищенной Казанской, а свящ[енник] Романский, между тем заявляет, что точных снимков с Московской иконы до сего времени нет [...]. Естественно, что после реставрации московский список с явленной Казанской иконы может оказаться более неточной копией, чем был раньше; поэтому описание нынешней Московской иконы и сравнение её с похищенной (по фотографиям) едва ли что прибавить к тому, что уже нами сказано для выяснения вопроса [...]».(160)
Тем не менее, подобную риторическую аргументацию использовал в своей заключительной речи на судебном процессе по делу о похищении из КБМ Казанской иконы Божией Матери и председатель суда С.В. Дьяченко. «Не так давно ещё, - говорил он, в частности, - Москва и Петербург оспаривали у Казани первенство их икон Казанской Божией Матери перед иконой г. Казани. Каждая из столиц называла свою святую икону первообразом и явленной в Казани иконой. [...]
Спор этот из-за первенства св[ятой] иконы представляется общеизвестным, таким же общеизвестным для всех казанцев фактом представляется и то, что путём строгих научных и исторических исследований известный публицист и духовный учёный бакалавр Казанской духовной академии Григорий Захарович Елисеев, бесспорно доказал, что находившаяся доныне в Казанском Богородицком монастыре икона Казанской Божией Матери представляется несомненно первообразом явленной иконы. Это положение всецело было подтверждено и исследователем Завьяловым. Но такой чисто научный способ доказательности первообраза, конечно, для вас как судей не должен иметь решающего значения.
Я думаю, что каждый, кто видал изображение иконы Казанской Божией Матери здесь, в Казани, в Москве и в Петербурге, тот сам лучше всего разрешит этот вопрос. Икона Казанской Богоматери, как это вы и сами знаете и о чём свидетельствовала на суде монахиня Варвара, по своим размерам равнялась 5 и 6 вершкам. Московская же икона, находящаяся в Москве, равняется 5 3/8 и 6 1/4 вершков, а Петербургская, находящаяся в Казанском соборе, почти вдвое больше, она заключает в себе меры 13 1/2 вершков в длину и 12 в. в ширину.
Живопись Казанской иконы, как показали здесь свидетельницы монахини, древне-греческого письма, совершенно тёмная, тогда как петербургская икона живописная, кисти 18 столетия, совершенно сохранившая художественность изображения и яркость красок».(161)
Так или иначе, похищение в 1904 г. «Казанской» Казанской иконы Божией Матери и в 1918 г. «Московской» Казанской иконы Божией Матери(162) сделало этот спор практически неразрешимым. Считается, что наиболее близким утраченной «Московской» Казанской иконе Божией Матери списком является почитаемый ныне в г. Москве образ, пребывающий в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.(163) При этом Н.Н. Чугреева называет явленной именно её.
Вся основная информация о внешнем виде, украшениях и состоянии перед похищением «Казанской» Казанской иконы Божией Матери, известная в настоящее время, содержится в статье Н.Н. Чугреевой, помещённой в «Православной Энциклопедии».(164)
«Я[вленная] К[азанская] и[кона], - говорится в ней, - была небольшого размера, это косвенно подтверждается тем, что она была завёрнута в рукав однорядки. Размер иконы (6 × 5 вершков, или 26,7 × 22,3 см) приводится казанским церковным историком проф[ессором] КДА Г.З. Елисеевым (Елисеев [Г.З.]. [Казанская чудотв[орная] икона Божией Матери // П[равославный] С[обеседник]]. 1858. С. 391); тот же размер указан и в описи Казанского девичьего монастыря 1853 г. (РГИА. Ф. 834. Оп. 3. № 2631. Л. 5 - 9). По описаниям XIX в., икона была "письма греческаго, цвета тёмнаго", изображение Богоматери погрудное, рук не видно, голова склонена к Младенцу Христу, изображённому прямолично, стоящим. Его правая рука отведена в сторону в жесте двуперстного благословения, левая опущена и скрыта под гиматием.
В ХVI в. на Руси получили широкое распространение небольшие моленные иконы Божией Матери "усечённых" композиций типа "Одигитрия" и "Умиление", бытовавшие и ранее. Они могли фрагментарно воспроизводить древние почитаемые ростовые и поясные образы Божией Матери. В произведениях мелкой пластики образки, напоминающие К[азанскую] и[кону], существовали на северо-востоке Руси уже в ХII в. (Седова М.В. О двух типах привесок-иконок Сев[еро]-Вост[очной] Руси // Культура средневек[овой] Руси. Л[енинград], 1974. Ил. 1. С. 193). Образы Божией Матери типа "Одигитрия" и "Умиление" "сокращённого" варианта помещались, напр[имер], в средниках новгородских икон XVI в. со святыми на полях (ГРМ) ("Пречистому образу Твоему поклоняемся...": Образ Богоматери в произведениях из собр[ания] Рус[ского] музея. СПб., 1995. № 99, 115). Предполагать, что Я[вленная] К[азанская] и[кона] была первоначально ростовой и обгорела при пожаре, нет оснований (Рындина А.В. Классицизирующие тенденции в моск[овском] ювелирном искусстве посл[едней] четв[ерти] XVI в. - первых десятилетий XVII в. // Рус[ское] искусство позднего Средневековья: Образ и смысл: Сб[орник] науч[ных] тр[удов] / Ред.: А.Л. Баталов. М[осква], 1993. С. 157). Икона была найдена спустя 2 недели после пожара завёрнутой в ветхий (т[о] е[сть] необгоревший) рукав однорядки и выглядела как только что написанная. Очевидно, в земле она пролежала недолго. По свидетельству летописца, икона была привезена в Казань из Вел[икого] Новгорода после покорения его в 1570 г. царём Иоанном Васильевичем девицей - исповедницей Православия. В Казани та девица перед иконой «тайно молилася и преставися, а тот образ скрыла в землю» (Пискарёвский летописец // ПСРЛ. Т. 34. С. 193; Чугреева. О явленной в 1579 г. иконе. [// РЧ, 8-е: Церковные древности]. 2001. С. 213).
Митр[ополит] Ермоген в Повести называет обретённую икону образом "Владычицы нашия Богородицы и Приснодевы Мария, честнаго Ея Одигитрия" и отмечает необычность её "перевода". Я[вленная] К[азанская] и[кона] отличается от традиц[ионных] поясных икон Божией Матери "Одигитрия" типа Смоленской и относится к особому типу Божией Матери "Одигитрия" со стоящим Младенцем Христом (Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 143 - 144). На нек[ото]рых рус[ских] иконах XV в. с оплечным изображением Богоматери Младенец изображён стоящим (ГИМ). Образы Богоматери со стоящим Младенцем (поколенно и в полный рост) XIII - XIV вв. известны в храмах Италии. Н.П. Кондаков в заметках к неизданному тому "Лицевого иконописного подлинника", посвящённому иконографии Божией Матери, высказал мнение о влиянии на иконографию Казанской иконы итал[ьянских] образов Богоматери со стоящим Младенцем эпохи Возрождения (ПФА РАН. Ф. 115. Оп. 1. №. 95. Л. 1, 189; Оп. 1. № 96. Л. 73, 91). Это отмечалось исследователями и позднее (Пуцко В.Г. Ренессансные схемы рус[ских] икон Богоматери: Елецкая и Казанская // Н.П. Кондаков, 1844 - 1925: Личность, науч[ое] наследие, архив. СПб., 2001. С. 97, 98; Чугреева. [Об иконографии. иконы Богоматери Казанской // Искусство Древней Руси и Византии: Итоги исследований 2002 г. / ЦМиАР. Москва.] 2003. С. 53). На Руси иконографические изводы зап[адного] христ[ианского] искусства, имевшие влияние на рус[скую] иконопись, получали содержание, обусловленное правосл[авной] догматикой. Новгород XVI в., имевший широкие культурные связи, мог быть той художественной средой, где новшество иконографии было переработано в соответствии с каноном иконного образа. Наиболее ранний сохранившийся оклад на Казанскую икону относится к новгородской культуре и датируется кон[цом] XVI - нач[алом] XVII в. (СПГИАХМЗ) (Декоративно-прикладное искусство Вел[икого] Новгорода: Худож[ественный] металл XVI - XVII вв. / Ред.-сост.: И.А. Стерлигова. М[осква], 2008. Кат. № 327. С. 547). "Греческий" тип ликов Я[вленной] К[азанской] и[коны] характерен для московской и новгородской иконописи сер[едины] - 2-й пол[овины] XVI в.
Изображение Я[вленной] К[азанской] и[коны] в драгоценной праздничной ризе известно по фотографии кон[ца] XIX в. (РГИА; Чугреева. О явленной в 1579 г. иконе. [// РЧ, 8-е: Церковные древности]. 2001. Ил. 1 на с. 224; Она же. Божественный Покров: [Казанская икона Богородицы в XX - нач. XXI в. // Традиции и современность. Москва]. 2008. С. 56, вкл.; Липаков [Е.В.]. [Архипастыри Казанские: 1555 - 2007. Казань]. 2007. Ил. на с. 42). Её иконография традиционна, под сильно потемневшим покрытием угадываются черты лика Богородицы с большими глазами и удлинённым носом (считалось, что икона никогда не поновлялась). Сохранилась происходящая из Казанского девичьего монастыря древнейшая пелена кон[ца] XVI в. с изображением Казанской иконы (27,5 × 24,5 см; НМРТ), на её полях - начало тропаря иконе. Судя по характеру шитья, она была создана в местной мастерской (Завьялова М.К., Каргалова Т.А. Краткий обзор памятников древнерус[ского] лицевого шитья XVI - XVII вв. в собр[ании] ГОМРТ // ГММК: Мат[ериа]лы и исслед[ования]. М[осква], 1995. Вып. 10: Древнерус[ское] худож[ественное] шитьё. С. 76 - 78. Ил. 4). Лик Богоматери с огромными глазами обладает необыкновенной выразительностью, свидетельствуя о непосредственном восприятии святыни создателями пелены. Можно предположить, что именно эта пелена висела под явленной иконой. Я[вленная] К[азанская] и[кона], пелена и известные ранние списки имеют один иконографический извод.
К Я[вленной] К[азанской] и[коне] имелось несколько риз. Праздничная надевалась на Рождество Христово, Пасху и в дни празднования Казанской иконы, будничная, или повседневная, - в остальные дни. Праздничная риза была золотая. На неё надевалась другая риза, низанная крупным жемчугом, бриллиантами, изумрудами, алмазами, яхонтами и др[угими] драгоценными камнями. Будничная, не менее драгоценная, московской работы, сплошь низанная жемчугом, имела золотые венцы с бриллиантовыми розами, множеством др[угих] бриллиантовых украшений и драгоценных камней. В 1767 г. имп[ератрица] Екатерина II приложила к иконе бриллиантовую корону (Малов [Е.А.]. [Казанский Богородицкий девичь монастырь: История и современное его состояние. Казань]. 1879. С. 31 - 34).
Я[вленная] К[азанская] и[кона] помещалась в киоте в 2 рамах с серебряными позолоченными окладами. На внутренней раме, видимо рубежа XVI и XVII вв., размещалось 11 клейм с изображениями праздников ("Зачатие Пресв[ятой] Богородицы" ("Встреча Иоакима и Анны"), "Рождество Пресв[ятой] Богородицы", "Введение во храм Пресв[ятой] Богородицы", "Благовещение", "Рождество Христово", "Собор Пресв[ятой] Богородицы", "Сретение Господне", "Успение Пресв[ятой] Богородицы", "О Тебе радуется", "Похвала Пресв[ятой] Богородицы", "Покров Пресв[ятой] Богородицы"), в последнем, 12-м клейме было представлено обретение Я[вленной] К[азанской] и[коны], на полях рамы изображены святые. Оклад внутренней рамы сделан в 1806 г. на средства настоятельницы монастыря игум[еньи] Софии (Болховской) и жертвователей к завершению строительства в монастыре нового каменного Казанского собора (1798 - 1808). Внешняя рама, очевидно XVII или XVIII в., с клеймами чудес имела оклад 1739 г. с овальными и фигурными обрамлениями клейм барочных форм, выполненный на средства полковника А.И. Змеева с супругой, о чём свидетельствовали надписи в картуше внизу оклада (Там же. С. 29 - 31). Внутренняя рама вынималась из внешней и имела внизу ручки для несения чудотворного образа в крестных ходах. В новом соборе Казанского девичьего мон[асты]ря чудотворный образ в рамах стоял в иконостасе слева от царских врат, он был помещён в большой деревянный киот в виде портика, к которому с боковых сторон вели лестницы из ильмового дерева (из вяза). Во 2-й пол[овине] XIX в. Я[вленная] К[азанская] и[кона] воспроизводилась на литографиях со стилизованными декоративными мотивами праздничной ризы (Булгаковский [Д.Г.]. [Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшия от неё чудеса. Санкт-Петербург]. 1896. Ил. на с. 5) и особенно часто - будничной ризы, с изображением двойной нитки крупного жемчуга и 2 бриллиантовых подвесок (Малов. [Е.А.]. [Казанский Богородицкий девичь монастырь: История и современное его состояние. Казань]. 1879. Ил. между с. 28 и 29). Надо учитывать, что литографии не передавали первоначальный характер ликов иконы. Известны списки Я[вленной] К[азанской] и[коны] рубежа XIX и XX вв. с надписью внизу: "Мра и подобе вленной иконы КазанскiѦ Пре(с)ты Бцы", выполненные под влиянием стилистики академической живописи и литографий 2-й пол[овины] XIX в. (частные собрания)».(165)
Очевидно, после похищения в 1904 г. из КБМ Казанской иконы Божией Матери предпринимались попытки исследовать поновлявшуюся в XVII - XVIII вв. «Московскую» Казанскую икону Божией Матери с целью установления более точного времени её написания. Сохранилась фотография последней без оклада, сделанная около 1905 г. для неизданного тома научного труда историка византийского и древнерусского искусства Н.П. Кондакова (1844 - 1925) «Лицевой иконописный подлинник. Иконография Богоматери». При этом, как отмечает Н.Н. Чугреева: «Видимо, в нач[але] XX в., в связи с утратой в 1904 г. явленной Казанской иконы, делались попытки расчистки и исследования М[осковской] К[азанской] и[коны] (верхний плотный белильный слой в нижней части лика Богоматери удалён, что видно на фотографии)».(166)
Однако сведений о каких-либо конкретных результатах данных исследований не обнаружено. Очевидно при этом, что даже при установлении более раннего времени написания «Московской» Казанской иконы Божией Матери доказать подобным образом её явленность («подлинность», «оригинальность») не представлялось бы возможным.
«Петербургская икона Божией Матери Казанская ... значительно древнее, чем предполагают ...»
Из трёх образов Казанской иконы Божией Матери, рассматриваемых в качестве основных «претендентов» на явленность («подлинность», «оригинальность»), у «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери, как полагало большинство исследователей в начале XX в., вообще нет никаких шансов быть признанной «первообразом».
Если принять за истину утверждение, что «Московская» Казанская икона Божией Матери была не явленным образом, а списком с него (тогда как явленный образ - «Казанская» Казанская икона Божией Матери - пребывала в КБМ), то и «Санкт-Петербургская» («Петербургская») Казанская икона Божией Матери, перенесённая из г. Москвы в г. Санкт-Петербург, никак не могла быть таковым.
Причём, и многие из тех, кто считал «Московскую» Казанскую икону Божией Матери явленным («подлинным», «оригинальным») образом, также отрицали, что в столицу Российской Империи была перенесена именно она.
Даже священник Н.А. Романский, для которого явленность «Московской» иконы превратилась по сути дела в аксиому, отрицал возможность её перенесения в г. Санкт-Петербург, на что, в частности, обращал внимание В.А. Некрасов.
«Московский священник Н. Романский, - писал он, - приводит ряд исторических свидетельств, подтверждающих, что московский список в XVII и XVIII столетиях пребывал именно в Москве, а не в другом каком-либо месте. Так, на нижнем поле московской иконы с лицевой стороны сделаны две надписи - одна от 1687 г., а другая от 1754 г. Первая гласит: "Сей пречистый образ поновлял Михаил Малютин"; а другая: "а сего 1754 года - паки сей святой образ поновляла госпожа баронесса Прасковья Ивановна Строганова". Подлинность второй надписи, по мнению отца Н. Романского, не подлежит сомнению, а по словам Г. Тренёва, интересовавшегося вопросом о Казанской иконе Богородицы, подпись Малютина также подлинна и ему хорошо известна. Отсюда отец Н. Романский делает совершенно правильный вывод, что московская чудотворная икона Казанской Божией Матери не была перенесена в Петербург ни при Петре I, ни после него».(167)
Ещё ранее А.А. Завьялов в своей статье «Чудотворная икона Казанския Божия Матери в С.-Петербурге» утверждал, что «Санкт-Петербургская» («Петербургская») Казанская икона Божией Матери - это поздний (XVIII в.) и весьма неточный список явленного образа. То, что она написана не ранее конца XVII - начала XVIII вв., утверждали также В.И. Жмакин, И.А. Конобеевский, И.М. Покровский и др.
Так, И.А. Конобеевский указывал, что: «К числу древних списков с Казанской иконы, прославившихся чудотворениями, кроме упомянутой иконы князя Пожарского, находящейся в Московском Казанском соборе, принадлежат иконы: Шлиссельбургская, Тобынская, Харьковская, Вышенская, Вышне-Волоцкая, Жадовская, Симоновская, Нижнеломовская, Ярославская, икона Вознесенского монастыря, Суздальская, а позднейшего письма - Петербургского Казанского собора. Все виденные нами списки почти одной меры с подлинной, т[о] е[сть] 6 1/4 вершков в вышину и 5 3/8 в[ершка] в ширину. Икона же Петербургского собора в четыре раза более подлинной Казанской».(168)
Вместе с тем, В.А. Некрасов, разделявший точку зрения священника Н.А. Романского о том, что «Санкт-Петербургская» («Петербургская») Казанская икона Божией Матери не является перенесённой в столицу Российской Империи «Московской» Казанской иконой Божией Матери, а значит, в любом случае, не может быть явленным образом, тем не менее, утверждал, что она, «как только реставрированная, а не "сооружённая" заново, значительно древнее, чем предполагает Завьялов и другие авторы, стоящие на той же точке зрения, и может относиться к XVII или даже к концу XVI века».(169)
«Известно, - пояснял он, в частности, - что 2 марта 1727 г. в Синод поступило ходатайство "Церкви Рождества Богородицы, что на Петербургском острову, священника Ивана Стефанова с товарищами и приходских людей" (в числе 23 человек. - В.Н.) о том, чтобы Синод дал распоряжение о возвращении в указанную церковь образа явления Казанской Пресвятой Богородицы из С.-Петербургского Троицкого собора, куда этот образ был взят в 1720 г. Новгородским архиереем Феодосием, ибо "... Тот образ Пресвятой Богородицы, в честь явления в Казани Ея иконы именуемый «Казанский», по обещанию вновь написан и украшен достоблаженныя памяти царицы и великия княгини Парасковии Фёдоровны и от нас немалым иждивением". Просьба эта Синодом была удовлетворена, и Казанский образ Божией Матери, находившийся в церкви Рождества Богородицы на Петербург[ск]ом острове (стороне), на Посадской улице, был перенесён туда, по всей вероятности, из Казанской часовни, стоявшей рядом с этой церковью и названной так, видимо, потому что там находилась Казанская икона Божией Матери. Часовня эта была устроена не позже 1707 г., так как в конце этого года, 25 ноября, император Пётр I издал именной указ, которым повелевалось разобрать все построенные в Санкт-Петербурге часовни и обретающиеся в них иконы и книги передать в церковь. Если, как утверждает А. Завьялов, петербургская икона была, по его выражению, "сооружена" (то есть написан новый образ) по обещанию царицы Парасковьи Фёдоровны и иждивением некоторых приходских людей и находилась сперва в Казанской часовне, то она могла появиться на свет на рубеже XVII и XVIII столетий. Но, по мнению отца Н. Романского, выражение "образ... вновь написан" следует понимать в смысле "вновь переписан", или полностью реставрирован. В доказательство такого понимания указанного выражения Н. Романский в своей статье приводит текст контракта, заключённого 31 мая 1754 г. Государственной конторой с московским купцом Шестаковым и крестьянином Сеземовым на исправление "разных ветхостей" в Московском Казанском соборе, кроме церковной утвари, риз и книг, согласно осмотру архитектора Д. Ухтомского.
В этом контракте и реестре, поданном по исполнении контракта 8 февраля 1755 г. с отметками священников собора о проделанной реставрации, выражение "вновь написать" встречается не менее 8 раз в отношении разных обветшавших икон и имеет смысл, придаваемый ему Н. Романским. Например, "Во означенном (же) иконостасе образ Казанской Богородицы, образ Страстныя Богородицы И ОНЫЕ ЗА ВЕТХОСТЬ ВНОВЬ НАПИСАТЬ"; или "В олтаре на горнем месте Господа Саваофа, который обветшал, вновь написать" и т.д.».(170)
При этом В.А. Некрасов отмечал, что в раннем происхождении «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери «нет ничего удивительного» - «список с казанской иконы был прислан вскоре же после её обретения царю Ивану IV Грозному в Москву; можно полагать также, что в царских палатах в Москве находились и другие, такие же древние или более поздние списки Казанской иконы, как очень чтимой в царской фамилии».
«Одну из таких копий, - предполагал он, - царская семья могла взять с собой при переселении в новую столицу и поместить на первых порах в Казанскую часовню, вблизи от домика Петра I. Эта копия и была реставрирована царицей Парасковьей Фёдоровной. Предположение о такой реставрации могло быть обосновано более твёрдо после надлежащей расчистки иконы, но это дело будущего, пока же приходится ограничиваться свидетельствами архивных документов. Из Казанской часовни, разобранной по указу в 1707 г., икону Казанской Божией Матери перенесли в церковь Рождества Богородицы, прихожанкой которой состояла вдовствующая императрица, а оттуда в 1737 г. вместе с другими тремя того же названия иконами во вновь построенную её дочерью, императрицей Анной Иоанновной, каменную церковь также Рождества Богородицы на Невском проспекте и, наконец, в 1811 г. в Казанский собор, где она и находилась до закрытия собора. До 1727 г. эта икона нигде в документах как чудотворная не называется, в этом же году по ходатайству перед Святейшим Синодом причта и приходских людей Рождественской церкви было разрешено Казанскую икону Богоматери выносить в дома прихожан "ради моления болящих". Очевидно, она прославилась даром чудотворения. А. Завьялов замечает по этому поводу, что, пока не открыты новые документы, 1727 г. и следует считать началом признания этой иконы чудотворной. Впрочем, он сам же допускает, что архиепископ Феодосий взял в 1720 г. данную икону в Троицкий собор, быть может, в предположении, что она уже является чудотворною, почему и пользуется в народе таким почитанием, хотя специальное распоряжение Святейшего Синода об отобрании в церкви икон, которые недавно оказались чудотворными, вышло 21 февраля 1722 г.».(171)
Раннее происхождение «Санкт-Петербургской» («Петербургской») Казанской иконы Божией Матери, вероятно, допускает и Н.Н. Чугреева, которая весьма осторожно пишет, что: «Один из почитаемых списков Казанской иконы, возможно ранний, был принесён по повелению царя Петра I в С.-Петербург».(172) Однако здесь же она указывает, что: «П[етербургская] К[азанская] и[кона] из Казанского собора существенно отличается от явленной Казанской иконы и её списков XVI - 1-й пол[овины] XVII в. Она больше по размеру (60,1 × 53,4 см) (Завьялов [А.А.]. [Чудотворная икона Казанския Божия Матери в С.-Петербурге // СПбДВ]. 1895. № 22. С. 491; Аплаксин А.П. Казанский собор. 1911. Ч. 1. С. 4) и имеет приближающиеся к квадрату пропорции, характерные для XVIII в. Исследователи П[етербургской] К[азанской] и[коны] не считали её ранним списком явленной Казанской иконы, акад[емик] Н.П. Лихачёв называл её поздним списком "не в меру подлинника" (Лихачёв Н.П. Ист[орическое] значение итало-критской иконописи: Изображения Богоматери в произв[едениях] итало-греч[еских] иконописцев и их влияние на композиции некоторых правосл[авных] рус[ских] икон. СПб., 1911. С. 16). Особенности иконографии, сформировавшиеся во 2-й пол[овине] XVII в., отличают П[етербургскую] К[азанскую] и[кону] от ранних списков и характерны для Казанских икон кон[ца] XVII - нач[ала] XVIII в. Младенец отстоит от Богоматери немного дальше и расположен чуть ниже, взгляд Богородицы обращён более к предстоящим, чем к Младенцу Христу, жест благословляющей десницы Иисуса Христа именословный. П[етербургская] К[азанская] и[кона] была написана и украшена до 1712 г. (до окончательного переезда царицы Прасковьи Феодоровны в С.-Петербург). Живопись ликов с белильной проработкой объёмов и притенениями исполнена в традиции "живоподобия" мастеров Оружейной палаты Московского Кремля, к[ото]рые и могли написать икону в нач. XVIII в.».(173)
Следует признать, что в данном случае решение вопроса в большей мере лежит в искусствоведческой плоскости. Так как пребывающая в настоящее время в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская» («Петербургская») Казанская икона Божией Матери является единственной уцелевшей из трёх «спорных» икон, остаётся надеяться, что когда-нибудь исследователям представится возможность атрибутировать её с максимальной точностью.
Что же касается «Казанской» Казанской иконы Божией Матери и «Московской» Казанской иконы Божией Матери, то, как видно из всего вышеизложенного, дискуссию о том, какая из них явленная, нельзя считать законченной. Соответственно, в настоящее время, основываясь на выявленной документальной базе, невозможно ни окончательно подтвердить утверждения о явленности («подлинности», «оригинальности») того и другого образа, ни опровергнуть их.
В последние годы - в связи с проведением работ по воссозданию Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) КБМ - некоторые представители духовенства и православной общественности озвучивают мысль о том, что после их окончания и возрождения собора, где пребывал считавшийся явленным образ, он будет явлен (обретён) вновь.
Так, в своём интервью под характерным заголовком «Митрополит Феофан: "Мне не верится, что первообраз Казанской пропал бесследно"», опубликованном в № 3 (03) за 2016 г. журнала «Православный собеседник», глава Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (И.А. Ашурков) заявил, в частности: «Когда я смотрю на воссоздаваемый собор Казанско-Богородицкого монастыря, мне не верится, что первообраз пропал бесследно. Говорят, что его сожгли. Но думается: если будет стоять собор, если будет облагорожено это место и на нём в полной мере начнётся иноческая жизнь - даст Бог, и Сама Царица Небесная в Её первообразе Казанском вернётся сюда. То, что невозможно у человека, возможно у Бога и у Его Пречистой Матери»!(174)
Аналогичного рода соображения прозвучали из уст местного архиерея в проповеди, произнесённой 8 июля 2017 г. в Петропавловском соборе г. Казани. «Есть прославленная икона Богоматери "Казанская", - отметил он, - которую мы все так чтим, которая является величайшей святыней всех православных - ведь нет православного дома, где не было бы Казанской иконы. Эта икона - история России. Но Господь накануне зловещих потрясений как бы показывает, что может быть с Россией - пропадает эта икона. Икона пропадает не просто так, но ради земных тленных ценностей, которыми была украшена риза. Говорят, что её сожгли. Но почему-то я глубоко убеждён - ни в коем случае не утеряна эта икона. Где-то она находится до поры, до времени и непременно должна вернуться туда, откуда её похитили. Будем молиться, конечно».(175)
Вместе с тем, подобные ожидания были и в прошлом. Как отмечает, например, Н.Н. Чугреева: «Поиски Явленного чудотворного образа неоднократно предпринимались, в том числе по инициативе членов Императорской Фамилии. По просьбе Великой Княгини Елизаветы Феодоровны в Шлиссельбургской крепости Стояна допрашивал князь А.А. Ширинский-Шихматов. Икону надеялись обрести к 300-летию Дома Романовых. К этому событию по инициативе Великой Княгини Елизаветы Феодоровны на месте явления иконы, под алтарём Казанского собора девичьего монастыря 20 апреля 1913 г. был освящён пещерный храм-часовня во имя Рождества Богородицы. Настоятельница монастыря с сёстрами преподнесли Великой Княгине Елизаветы Феодоровне "точный список с явленной чудотворной" иконы».(176)
Как справедливо отмечал И.М. Покровский: «Казань долго была главным, если не единственным местом, откуда распространялись по лицу земли Русской списки с подлинной явленной Казанской иконы. Распространителями их были монастырские власти и казанские иерархи, благословлявшие местными казанскими иконами разных знатных казанцев и приезжих лиц и делавшие иконами вклады в монастыри и храмы».(177)
Принимая во внимание все указанные обстоятельства и то, что, начиная с 1990-х гг., различными частными лицами и организациями предпринимались неоднократные попытки найти похищенную в 1904 г. из КБМ (и, согласно судебным выводам, утраченную) Казанскую икону Божией Матери, допустима вероятность предъявления в качестве таковой какого-либо из подходящих под позднее описание списков (копий) конца XVI - начала XVII вв. Причём, с учётом вышеизложенных выводов, опираясь на существующую источниковую базу, практически невозможно будет с научно-исторической точки зрения ни доказать, что данный образ является явленным («подлинным», «оригинальным»), ни опровергнуть этого.
Остаётся надеяться, что грядущая радость возрождения Казанского собора (собора Казанской иконы Божией Матери) КБМ не будет омрачена какими-либо спекуляциями вокруг поиска и «возвращения» явленной Казанской иконы Божией Матери, подобными тем, которые возникли в начале 2000-х гг. в отношении её «Ватиканского» списка.
Алексеев Игорь Евгеньевич, кандидат исторических наук (г. Казань).
Иллюстрации:
1. «Обретение иконы».(178)
2. «Казанская» Казанская икона Божией Матери, пребывавшая до 1904 г. в КБМ (г. Казань) (фото конца XIX - начала XX вв.).(179)
3. «Московская» Казанская икона Божией Матери, пребывавшая до 1918 г. в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Москвы (фото начала XX в.).(180)
4. «Санкт-Петербургская» («Петербургская») Казанская икона Божией Матери, пребывающая в Казанском соборе (соборе Казанской иконы Божией Матери) г. Санкт-Петербурга (современное фото).(181)
5. Казанская икона Божией Матери, пребывающая в храме святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, на Арском кладбище г. Казани (современное фото).(182)
6. Казанская икона Божией Матери, пребывающая в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (г. Москва) (современное фото).(183)
7. «Ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери, пребывающий в Крестовоздвиженском соборе КБМ (г. Казань) (современное фото).(184)
Сноски:
(1) Здесь и далее в тексте даты приводятся по календарю («стилю»), официально принятому в России на момент означенного события. - И.А.
(2) См.: [Наумова А.С.] Сказание о чудотворно-явленной Казанской иконе Божией Матери, с кратким описанием С.-Петербургского Казанского собора. - Санкт-Петербург: Типография А. Траншеля, 1867. - (2), 58 с., 1 л. ил.
(3) См.: Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии / Издание Санкт-Петербургского епархиального историко-статистического комитета. - Выпуск первый. - Санкт-Петербург: Печатня В. Головина, 1869. - II, (1), 160, 161, 77, (3) с.
(4) II. Епархиальные соборы и церкви в Санктпетербурге // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии / Издание Санкт-Петербургского епархиального историко-статистического комитета. - Выпуск первый. - С. 132 - 133.
(5) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года) // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1904. - Часть вторая. - С. 264.
(6) См.: [Елисеев Г.З.] Краткое историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой. - Москва: «В Университетской Типографии», 1849. - 65 с.
(7) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 274.
(8) См.: Там же.
(9) См.: Казанская чудотворная икона Божией Матери // Православный собеседник, издаваемый при Казанской Духовной Академии. - 1858. - Часть третья. - С. (591) - 412.
(10) Казанский Богородицкий девичь монастырь. История и современное его состояние. Священника Евфимия Малова. - Казань: Типография Императорского Университета, 1879. - С. 42 - 51.
(11) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года) // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1904. - Часть вторая. - С. 258 - 275.
(12) Там же. - С. 274.
(13) См.: Сказание о чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Московского Казанского собора протоиерея Д. Кастальского. - Москва: Типография И.Д. Сытина и К°, 1889. - 71 с.: ил.; Сказание о чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Протоиерея Д. Кастальского. - Москва: Издание причта Московского Казанского собора (Типография «Рассвет»), 1892. - 63 с.
(14) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 274.
(15) Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 08.02.2018)
(16) См.: З[авьялов] А.А. Чудотворная икона Казанския Божия Матери в С.-Петербурге // Санкт-Петербургский Духовный Вестник. - 1895. - № 16. - С. 363 - 367.; - № 18. - С. 406 - 411.; - № 20. - С. 447 - 450.; - № 22. - С. 487 - 491.; - № 24. - С. 532 - 534.; - № 25. - С. 550 - 553.
(17) См.: Священник Димитрий Булгаковский. Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса. С 5-ю рисунками. - Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Гоппе, 1896. - 39 с.: ил.; Священник Димитрий Булгаковский. Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса. - Казань: Типо-литография Окружного Штаба, 1914. - 40 с.
(18) См.: Священник Димитрий Булгаковский. Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса. - Казань: Типо-литография Окружного Штаба, 1914. - С. 8 - 9.
(19) См.: Указатель исторический, топографический, реальный и филологический, с объяснениями // Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (с 1632 по 1682 г.) / [Предисл.: Член Археографической Комиссии Павел Строев]. - Москва: «В типографии Августа Семена», 1844. - С. 35.
(20) См.: История России с древнейших времён. Сочинение Сергея Михайловича Соловьёва / Второе издание. - Книга вторая. - Т. VI - X. - Санкт-Петербург: Издание Высочайше утверждённого Товарищества «Общественная Польза», [1896]. - Стб. 997.
(21) См.: История русской церкви Макария, митрополита Московского и Коломенского. - Т. X: Период самостоятельности русской церкви. - Санкт-Петербург: Типография Р. Голике, 1881. - С. 162.
(22) См.: Указатель исторических достопримечательностей г. Казани. Составлен Ординарным Профессором С.М. Шпилевским // Издание Комитета по устройству в Казани Съезда Естествоиспытателей. - Казань: «В университетской типографии», 1873. - С. 25.
(23) См., например: Слово архиепископа Казанского Димитрия // Прибавления к Церковным Ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. - 1904. - № 33 (14 августа). - С. 1221.
(24) Архим. Феодор (Поздеевский). Казанская икона Божией Матери // Странник (духовный журнал современной жизни, науки и литературы). - 1907. - Том второй. - Часть 1-я. - С. 14.
(25) См.: В надежде на милость Божию. Предисловие к публикации статьи И.М. Покровского // Православный собеседник. - 2016. - № 2 (02) (август). - С. 46 - 47; Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. Отдельный оттиск статьи профессора И.М. Покровского из журнала «Православный собеседник» за 1904 год // Там же. - С. 48 - 65.
(26) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 259.
(27) См.: Там же. - С. 260.
(28) См., например: Конобеевский Ив. К вопросу о подлиннике и списках с Казанской иконы Богоматери // Русский Паломник. - 1904. - № 47 (20 ноября). - С. 811.
(29) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 259.
(30) Цит. по: Там же. - С. 282.
(31) См.: Дмитриевский А. В честь какой иконы Казанской Божией Матери установлен праздник 22 Октября? (Утешение и ободрение скорбящим об утрате святыни) // Труды Киевской Духовной Академии. - 1905. - Том первый. - С. (188) - 219.
(32) Там же. - С. 194.
(33) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 328.
(34) См.: Конобеевский Ив. К вопросу о подлиннике и списках с Казанской иконы Богоматери // Русский Паломник. - 1904. - № 47 (20 ноября). - С. 810 - 812.
(35) Там же. - С. 811.
(36) См.: Morel G. L'icône de Kazan // Revue Catholique des Église. 1904. № 10. P. 581 - 591.
(37) См.: Покровский И. Казань в религиозно-церковном отношении // Православная Богословская Энциклопедия. - Том VII: Иоанн Скифопольский - Календарь. - Санкт-Петербург: Издание преемников профессора А.П. Лопухина («Бесплатное приложение к духовному журналу "Странник" за 1906 г.»). - Стб. 696.
(38) Реферат на эту тему был прочитан священником Н.А. Романским 18 ноября 1904 г. на собрании церковно-археологического отдела Московского общества любителей духовного просвещения. (См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 330.)
(39) См.: Романский Н.А., свящ. Где находится подлинная чудотворная явленная икона Казанской Богоматери // Московские Церковные Ведомости. - 1904. - № 50. - С. 585 - 589.; - № 51 - 52. - С. 598 - 602.; - 1905. - № 4. - С. 41 - 46.; - № 5. - С. 51 - 53.
(40) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. (327) - 339.; - Ноябрь. - С. (478) - 489.; - Декабрь. - С. (620) - 643.
(41) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 328.
(42) Судебный процесс по делу о похищении иконы Казанской Божией Матери. Речь защитника Захарова прис. пов. К.В. Лаврского. Заключительная речь председателя суда С.В. Дьяченко. Приговор суда // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Июль - Август. - С. 221 - 222.; Казанский Богородицкий Девичь Монастырь. История и современное его состояние. / Священника Евфимия Малова. / Судебный процесс по делу о похищении в Казани явленной Чудотворной Иконы Казанской Божией Матери. Полный стенографический отчёт с приложением всех судебных речей. - Репр. изд. - Казань: Издательство Сергея Бузукина, 2012. - С. 221 - 222.
(43) Так в оригинале. - И.А.
(44) Судебный процесс по делу о похищении иконы Казанской Божией Матери. Речь защитника Захарова прис. пов. К.В. Лаврского. Заключительная речь председателя суда С.В. Дьяченко. Приговор суда // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Июль - Август. - С. 222.
(45) Базарянинов. По поводу святотатственной покражи явленной чудотворной Казанской иконы Божией Матери. (Публичное чтение в Тамбов. вагон. мастерских 12 декаб. 1904 г.) // Тамбовские Епархиальные Ведомости. - 1905. - № 5 (29 января). - С. 229 - 238.; - № 6 (5 февраля). - С. 269 - 279.
(46) Архим. Феодор (Поздеевский). Казанская икона Божией Матери // Странник (духовный журнал современной жизни, науки и литературы). - 1907. - Том второй. - Часть 1-я. - С. (7) - 18.
(47) См.: Афонина Е.В. «Старообрядческий след» в деле о похищении чудотворной Казанской иконы Божьей Матери [Электронный ресурс] // Полезные ссылки, статьи, пресс-релизы: сайт. - URL: http://www.tat-t.ru/www/script/2_20__2010_-_afonina..htm (дата обращения: 25.03.2018)
(48) См., например: Турцева Д. «Русский Шерлок Холмс» выяснил, что похититель не уничтожал Казанскую икону Божией Матери...» [Электронный ресурс] // Интернет-газета «Реальное время»: сайт. - (дата обращения: 25.03.2018)
(49) См., например: Некрасов В.А. Почитаемый Петербургский список Казанской иконы Божией Матери // Казанский собор (официальное издание Казанского кафедрального собора) (г. Санкт-Петербург). - 2011. - № 7 (67) (июль). - С. (1), 3 - 4.; Санкт-Петербургский список Казанской иконы Божией Матери [Электронный ресурс] // Казанский кафедральный собор (официальный сайт): сайт. - URL: http://kazansky-spb.ru/texts/ikona_bozhieimateri (дата обращения: 18.02.2018)
(50) См.: Некрасов В.А. Почитаемый Петербургский список Казанской иконы Божией Матери // Казанский собор (официальное издание Казанского кафедрального собора) (г. Санкт-Петербург). - 2011. - № 7 (67) (июль). - С. (1).
(51) См.: Там же. - С. 4.
(52) Там же.
(53) См.: Чугреева Н.Н. О Явленной Казанской иконе и «ватиканском» списке // Дом Бурганова. Пространство культуры. (Научно-аналитический журнал). - 2013. - № 3. - С. 8 - 25.
(54) См., например: Алексеев И. «По молитвам Пречистой Богородицы законный порядок в городе был восстановлен». (Обнаружено свидетельство о чудотворной силе «самого древнего и подлинного списка» Казанской иконы Божией Матери). [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическая служба «Русская народная церковь»: сайт. - (дата обращения: 18.02.2018); Мюллер Г.А. К вопросу сложения иконографического типа иконы Божией Матери Казанской // Православный собеседник. - 2004. - № 1 (6). - С. 4 - 20.
(55) См., например: Мюллер Г.А. Указ. соч. - С. 4 - 20.; Плюханова М.Б. «Кипѣние свѣта»: Русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории. - Санкт-Петербург: Издательство «Пушкинский Дом», 2016. - С. 194 - 198.
(56) Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 08.02.2018)
(57) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 264.
(58) До наших дней не сохранился. - И.А.
(59) См.: Мельников П. Несколько новых сведений о Смутном времени, о Козьме Минине, князе Пожарском и патриархе Гермогене // Москвитянин. - 1850. - № 21. - С. (1) - 12.
(60) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 265.
(61) См.: Указ. соч. - С. 7.
(62) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 265.
(63) Руская летопись по Никонову списку. Изданная Под смотрением Императорской Академии Наук. - Ч. 8 («Осьмая часть»): с 1583 до 1630 года. - Санкт-Петербург («В Санктпетербурге»): «При Императорской Академии Наук», 1792. - С. 209 - 210.
(64) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 265.
(65) Там же.
(66) См.: Там же. - С. 266.
(67) См.: Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (с 1632 по 1682 г.). - С. (115), 132, 316.
(68) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 266.
(69) Там же.
(70) Там же.
(71) См.: Там же. - С. 267.
(72) Руская летопись по Никонову списку. Изданная Под смотрением Императорской Академии Наук. - Ч. 8 («Осьмая часть»): с 1583 до 1630 года. - С. 167 - 168.
(73) Летопись о многих мятежах и О разорении Московского Государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев, по преставлении Царя Иоанна Васильевича; а паче о Междугосударствовании по кончине Царя Феодора Иоанновича, и о учинённом исправлении книг в Царствование благовернаго Государя Царя Алексея Михайловича в 7163 / 1655 году. Собрано из древних тех времён описаниев. - Санкт-Петербург («В Санктпетербурге»): [Типография Сухопутного кадетского корпуса], 1771. - С. 236 - 237.
(74) См.: Летопись о многих мятежах и о разорении московского государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времён многих случаев, по преставлении царя Иоанна Васильевича; а паче о между-государствовании по кончине Царя Феодора Иоанновича и О учинённом исправлении книг в царствование Благовернаго Государя Царя Алексея Михайловича в 7163 (1655) году. Собрано из древних тех времён описаний / Издание второе. - Москва: «В Типография Компании Типографической», 1788. - С. 225 - 226.
(75) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 267.
(76) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Ноябрь. - С. 481.
(77) См.: Там же. - С. 481 - 482.
(78) Там же. - С. 482.
(79) См.: Историческое описание первопрестольного в России храма, Московского большого Успенского собора и о возобновлении первых трёх московских соборов Успенского, Благовещенского и Архангельского, сочинённое Святейшего Правительствующего синода членом, большого Успенского собора протоиереем Александр Георгиевым Левшиным; а в каких вещах оное содержится, как первое, так и второе, то изъясняется в нижеписанных главах. - Москва («Печатано в Москве»): «В привилегированной типографии у Мейера», 1783. - С. 104.
(80) Там же.
(81) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 332.
(82) В дальнейшем В.А. Некрасов так характеризовал позиции по данному вопросу Г.С. Дебольского, П.С. Казанского и Д.Г. Булгаковского: «В 1710 году, - писал он, - священный памятник и свидетель изгнания поляков из Москвы и восшествия дома Романовых на царский престол - их семейный список чудотворного Казанского образа Богоматери - по повелению императора Петра I перенесён из Москвы в Санкт-Петербург, в освящение новой на берегах Невы столицы.
Этими же словами говорит о перенесении Московского списка Казанской иконы Божией Матери в 1710 г. в Петербург и протоиерей Г.С. Дебольский в своей книге "Дни богослужения Православной кафолической восточной церкви", т. I, 1901 г., издание 10, СПб, стр. 201 - 202. Но он не берётся судить, подлинная это казанская икона или же только список с неё (там же, стр. 198). Равным образом и в акафисте, составленном профессором Московской Духовной академии П.С. Казанским для Казанской иконы в Петербургском Казанском соборе и одобренном Синодом в 1867 г., говорится, что Пётр Великий взял Казанскую икону Богоматери из Москвы в Петербург - в Путеводительницы своему воинству... и, как ограждение и освящение новой столицы, в сердце города поставил (икос 5), но откуда и какую именно казанскую икону взял Пётр I, об этом в акафисте ничего не сказано. В анонимной книжке под заглавием "Чудотворная Казанская икона Божией Матери, находящаяся в С.-Петербургском Казанском соборе", изд. 5, СПБ, 1896 г., цензор архимандрит Мефодий, стр. 8 - 9, 13 - 14, и в иллюстрированном издании "Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. С.-Петербургская епархия", СПБ, 1908 г., стр. 455 а, проводится тот же взгляд на петербургскую икону Богородицы, как и в указанных выше "Историко-статистических сведениях о С.-Петербургской епархии". Священник Д. Булгаковский согласен с тем, что из Москвы Казанская чудотворная икона Богородицы перенесена в Петербург повелением Петра I, но, по его мнению, эта икона является списком с казанского первообраза». (Некрасов В.А. Почитаемый Петербургский список Казанской иконы Божией Матери // Казанский собор (официальное издание Казанского кафедрального собора) (г. Санкт-Петербург). - 2011. - № 7 (67) (июль). - С. 3.)
(83) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 332.
(84) См.: Там же.
(85) [Елисеев Г.З.] Краткое историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой. - С. 9 - 10.
(86) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Ноябрь. - С. 482 - 485.
(87) Там же. - С. 486.
(88) Мюллер Г.А. Указ. соч. - С. 7 - 8.
(89) Плюханова М.Б. «Кипѣние свѣта»: Русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории. - Санкт-Петербург: Издательство «Пушкинский Дом», 2016. - С. 195.
(90) См.: Там же.
(91) Там же. - С. 196
(92) Там же. - С. 197.
(93) Там же. - С. 197 - 198.
(94) [Елисеев Г.З.] Краткое историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой. - С. 10 - 11.
(95) См.: Некрасов В.А. Указ. соч. - С. (1).
(96) См.: Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 08.02.2018)
(97) Adam Olearii Außführliche Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien/ So durch gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auß an Michael Fedorowitz den grossen Zaar in Muscow/ und Schach Sefi König in Persien geschehen. - Schleßwig: «Gedruckt in der Fürstl. Druckerey/ Durch Johan Holwein», 1663 («Jm Jahr MDCLXIII»). - P. 301.; Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введение, перевод, примечания и указатель А.М. Ловягина; с 19 рисунками на особых листах и 66 рисунками в тексте. - Санкт-Петербург: Издание А.С. Суворина, 1906. - С. 323.
(98) В оригинале перевода - «было». - И.А.
(99) Адам Олеарий. Указ. соч. - С. 323.
(100) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 269 - 270.
(101) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Октябрь. - С. 334.
(102) Там же. - С. 337.
(103) Там же.
(104) Там же. - С. 338.
(105) «Трудно сказать, - писал профессор ИКУ Н.П. Загоскин (1851 - 1912) в своей книге "Спутник по Казани", - что побудило казанцев прислать таки, в конце концов, в Ярославль своих ратных людей: вынуждены ли были казанские "воровские заводчики", Шульгин и Биркин, уступить партии, не разделявшей их крайних взглядов и сепаратических стремлений, сами ли ратные люди потребовали похода - неизвестно; вернее всего, как и показали это последующие события, что посылка этого ополчения была просто комедиею, подстроенною предусмотрительными казанскими диктаторами для простого очищения, в виду возможности всяких случайностей, совести своей: ополчение, де, было послано, в Ярославле произошла ссора, ратные люди вернулись оттуда обратно, - разбирай после, кто был прав, а кто виноват... Так всё это, на самом деле, и вышло». (Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная книжка города. Под редакциею профессора Н.П. Загоскина. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1895. - С. 448 - 449.)
(106) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Ноябрь. - С. 479 - 480.
(107) Известно, что 29 июля 1612 г. к митрополиту Ефрему обратился князь Д.И. Пожарский с просьбой от Земского правительства рукоположить во митрополита Крутицкого игумена Саввино-Сторожевского монастыря Исаию, чтобы тот временно заведовал делами Московского патриархата по смерти патриарха Гермогена (Ермогена). Однако, как отмечал позже тот же И.М. Покровский в брошюре «Казанский Митрополит Ефрем, помазавший на царство Михаила Феодоровича Романова»: «Митр[ополит] Ефрем не поставил Исаию на Крутицы, быть может, потому, что он избран был на митрополию без церковного собора. Скоро сам митр[ополит] Ефрем был вызван в Москву и, находясь в царственном граде, непосредственно встал во главе русской иерархии». (См.: Казанский Митрополит Ефрем, помазавший на царство Михаила Феодоровича Романова. - Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1908. - С. 3.)
(108) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Ноябрь. - С. 480.
(109) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 271.
(110) См.: Дмитриевский А. Указ. соч. - С. 197.
(111) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 267 - 268.
(112) Там же. - С. 268.
(113) См.: Дополнения к четвёртому тому Актов Археографической экспедиции // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учреждённою Комиссиею. - Том четвёртый. 1645 - 1700. - Санкт-Петербург («Санктпетербург»): «В Типографии II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии», 1836. - С. 483.
(114) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 268.
(115) Там же. - С. 273.
(116) См., например: Бунин А. О значении слова пожар, в смысле названия местности, в старину. (К вопросу о месте сражения под Суздалем в 1097 г.) // Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским Московским Археологическим Обществом. - 1898. - №№ 5 - 6. - С. 166 - 168.; Рачинский Я. Сколько лет Красной площади? [Электронный ресурс] // Информационно-политический канал «Полит.ру»: сайт. - URL: http://polit.ru/article/2010/09/03/redsquare/ (дата обращения: 22.03.2018)
(117) См.: Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Русии самодержцев: (с 1632 по 1682 г.). - С. 316.
(118) См.: Там же. - С. 381.
(119) В документе значится: «По Красной площади стряпчих да жилецкие сотни, по списку; подле жилцов второй сотни дворовых людей; по другую сторону, подле рядов, дворянские да жилецкие ж сотни, по списку; а подле жилецких сотен трем сотням конюшеннаго чину». (Дворцовые Разряды, Высочайшему повелению изданные II-м Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. - Том третий. /С 1645 по 1676 г./. - Санкт-Петербург /«Санктпетербург»/: «В Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», 1852. - Стб. 532 - 533.).
(120) Рачинский Я. Сколько лет Красной площади? [Электронный ресурс] // Информационно-политический канал «Полит.ру»: сайт. - URL: http://polit.ru/article/2010/09/03/redsquare/ (дата обращения: 22.03.2018)
(121) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года) // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1904. - Часть вторая. - С. 272.
(122) Там же. - С. 271 - 272.
(123) См.: 40. - 1649 Сентября 29. Окружная царская грамота Маркеллу, Архиепископу Вологодскому и Велико-Пермскому, о праздновании явлению чудотворной иконы Казанской Богородицы в 22 день Октября // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учреждённою Комиссиею. - Том четвёртый. 1645 - 1700. - С. 61.
(124) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 622.
(125) Там же. - С. 626 - 627.
(126) См.: Там же. - С. 627.
(127) Дмитриевский А. Указ. соч. - С. 217.
(128) Так в оригинале. - И.А.
(129) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 627.
(130) В оригинале - «Лавре». - И.А.
(131) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 261.
(132) Там же. - С. 273 - 274.
(133) См.: Там же. - С. 260 - 262.
(134) См.: Там же. - С. 262.
(135) Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским, Руководствующий любопытствующего по четырём частям сея Столицы к дее - место - описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и частных заведений как старых, так и новых, С надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшего оных приискивания азбучною росписью умноженный. - Часть II. - Москва: «В Университетской Типографии, у В. Окорокова», 1792. - С. 7.
(136) В оригинале - «понятий». - И.А.
(137) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 631.
(138) См.: Там же. - С. 631 - 632.
(139) Там же. - С. 632 - 633.
(140) См.: 17. - 1614 Июня 1. Отписка стрелецкого головы Хохлова воеводам князю Одоевскому и Головину, о распоряжениях, сделанных им для встречи их и приёма в Астрахани // Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. - Том третий. - Санкт-Петербург («Санктпетербург»): «В Типографии II-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии», 1841. - С. 16 - 17.; 280. - 1614 Мая 29. Отписка воевод князя Ивана Одоевского и Семёна Головина стрелецкому голове Василью Хохлову, о порядке встречи и приготовлении им для постоя домов в Астрахани, и проч. // Там же. - С. 446.
(141) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 634.
(142) Там же. - С. 635.
(143) См.: Сказание о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани // Известия по Казанской Епархии. - 1867. - № 17. - С. (449) - 465.
(144) Подробнее см.: Алексеев И. «Приложившись к чудотворному образу казанской Богоматери, он заложил соборную церковь...» (Посещение Императором Павлом I Казанского Богородицкого монастыря и строительство второго Казанского собора...) [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия»: сайт. - (дата обращения: 28.03.2018)
(145) Так в оригинале. - И.А.
(146) Сказание о явлении чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани // Известия по Казанской Епархии. - 1867. - № 17. - С. 463.
(147) Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года) // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1904. - Часть вторая. - С. 283.
(148) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Ноябрь. - С. 486 - 489.
(149) То же // Там же. - 1905. - Декабрь. - С. 636.
(150) Там же.
(151) Там же.
(152) См.: Там же. - С. 641.
(153) См.: Покровский И. Явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери. (По поводу святотатственного похищения её из Казанского женского монастыря 29 июня 1904 года). - С. 283.
(154) См.: Там же. - С. 284.
(155) См.: Там же.
(156) См.: Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 638.
(157) Там же.
(158) См.: Там же. - С. 641.
(159) Там же. - С. 639.
(160) Там же. - С. 639 - 640.
(161) Судебный процесс по делу о похищении иконы Казанской Божией Матери. Речь защитника Захарова прис. пов. К.В. Лаврского. Заключительная речь председателя суда С.В. Дьяченко. Приговор суда // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Июль - Август. - С. 222.
(162) «В 1918 г., - указывает Н.Н. Чугреева, - М[осковская] К[азанская] и[кона] в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора (К похищению иконы Казанской Божией Матери // Мир. СПб., 1918. № 47. С. 3), в наст[оящее] время её местонахождение неизвестно». (Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html /дата обращения: 04.04.2018/)
(163) См.: Там же.
(164) Там же.
(165) Там же.
(166) Там же.
(167) Некрасов В.А. Указ. соч. - С. 4.
(168) Конобеевский Ив. Указ. соч. - С. 811 - 812.
(169) См.: Некрасов В.А. Указ. соч. - С. 4.
(170) Там же.
(171) Там же.
(172) См.: Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 08.02.2018)
(173) Там же.
(174) Митрополит Феофан: «Мне не верится, что первообраз Казанской пропал бесследно» // Православный собеседник. - 2016. - № 3 (03) (ноябрь). - С. 41.
(175) В канун Недели 5-й по Пятидесятнице митрополит Феофан возглавил всенощное бдение в Петропавловском соборе Казани [Электронный ресурс] // Новости Казанской епархии / Информационно-просветительский сайт Татарстанской митрополии «Православие в Татарстане»: сайт. - URL: http://www.tatmitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/?id=65407 (дата обращения: 04.04.2018)
(176) Чугреева Н.Н. О Явленной Казанской иконе и «ватиканском» списке. - С. 12.
(177) Покровский И. Печальная годовщина со дня похищения чудотворной иконы Казанской Божией Матери в Казани (Ответ на статью Московского свящ. Н. Романского: «Где находилась подлинная /явленная/ Казанская икона Божией Матери до злополучной ночи на 29 июня 1904 года») // Православный собеседник, издание Казанской Духовной Академии. - 1905. - Декабрь. - С. 636.
(178) См.: Священник Димитрий Булгаковский. Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от неё чудеса. С 5-ю рисунками. - Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Гоппе, 1896. - С. 21.
(179) См.: Чугреева Н.Н. О Явленной Казанской иконе и «ватиканском» списке. - С. 13.
(180) См.: Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 10.04.2018)
(181) См.: Санкт-Петербургский список Казанской иконы Божией Матери [Электронный ресурс] // Казанский кафедральный собор (официальный сайт): сайт. - URL: http://kazansky-spb.ru/ (дата обращения: 09.04.2018)
(182) См.: Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией Матери [Электронный ресурс] // Православная Энциклопедия: сайт. - URL: http://www.pravenc.ru/text/1320206.html (дата обращения: 10.04.2018)
(183) См.: Там же.
(184) См.: Там же.