
Литературная правда писателя Варлама Шаламова стоит особняком в русской литературе. Драматизм и трагедийность его произведений не вписывается в традиционный драматизм и трагедийность таких писателей, как Достоевский, Толстой, Солженицын... Его трагедийность и драматизм человеконизменные, если можно так выразиться (продаст за окурок, убьёт за пайку). Но они приняты, как должное читателями, ибо не подлежат для многих из них сомнению, поскольку рождёны, дескать, неоправданными репрессиями и лагерной эгоистической борьбой за выживание. Однако - человеконизменный - ещё не есть человеконенавистнический вариант творчества, чего тоже предостаточно, как в мировой, так и в нашей уже литературе. У Шаламова зачастую это обыкновенная духовная авторская бескрылость, неверие в человечность, обыкновенная житейская подлость его героев, непроходимый лагерный бытовизм. Но что обидней всего, что таковой своей позицией, похоже, и сам Шаламов не слишком тяготился до 1972 года, пока не написал письмо в «Литературную газету». Тяготился, может, и раньше. И нельзя сказать, что низменное в его произведениях преобладает: все-таки больше, наверное, обыкновенного неверия писателя в то достоинство, с которым многие люди, попав в сложнейшие условия заключения тех лет, несли свой крест, как полагается человеку.
1. Замалчивание ошибок, как психологических неустоек в непонимании и неверии в людей знаменитого страдальца и правдолюбца, я считаю уже полувековым самообманом его приверженцев.
Русская литература нашла в Шаламове - жестокого летописца, который был тоже необходим. Но потеряла писателя, стойко противостоявшего человеконенавистнической философии, как художественных и публицистических воплощений, которая наряду с нормальной всегда была в мире и, которой он подыграл своей человеконизменной.
В одном из первых рассказов под названием «Причал ада» сборника прозы и стихов «Колымские тетради» он описывает, как их встречали колымские «старожилы», назовём их так: «К проволоке изнутри прижались люди. Они что-то кричали, и вдруг к нам полетели буханки хлеба. Хлеб перебрасывали через проволоку, мы ловили, разламывали и делили. За нами были месяцы тюрьмы, сорок пять дней поездного этапа, пять дней моря. Голодны были все. Никому денег на дорогу не дали. (Это слишком неуместная фраза - Г.М.) Хлеб поедался с жадностью. Счастливчик, поймавший хлеб, делил его между всеми желающими - благородство, от которого через три недели мы отучились навсегда». И тут возникает вопрос: а как же те, кто кидал хлеб, бывшие годами в этих северных широтах, почему же они тоже «навсегда» не отучились от благородства? На Колыме существовало понятие «земляк», то есть откуда бы ты ни был - из Москвы, из Новосибирска, из любого другого места - ты «земляк», потому что ты с Большой земли, с «материка»! А мы, колымчане, (думали, наверно, люди из-за колючей проволоки) вас, земляков, и встречаем с Хлебом (соли вы сами найдёте, а не найдёте, так и без соли...). Колымчане кричали, ища земляков: _ есть кто из Москвы? Из Новосибирска? Из Вологды?.. Но вологодский Шаламов почему-то не услышал этого зова. Или услышал, но решил не откликаться: может урка какой кричит... Зачем мне отзываться-то?..
Самый первый рассказ книги «Колымские тетради» «Тропа» нам кое-что объясняет. Там очень художественно (Шаламов отменный прозаик и поэт, понимающий природу и красоту) пишет о тропе к избушке, в которой очень хорошо пишутся стихи. Видимо это была избушка на Вишере, где Шаламов сидел первый срок, и была у него какая-то свобода бесконвойника, например.
На тропе растут подснежники, прекрасные зеленя вокруг... Но вот он увидел, как КТО-ТО, смял подснежник на тропе! На его суверенно-творческой тропе! И всё - стихи уже не пишутся! Художественный мир очень привередлив, и каждый художник охраняет и лелеет свою тропу в него. Мир этот - причудлив, суеверен и даже эгоистичен - всё можно простить художнику! А Шаламов художник не маленький. И всё же какой-то неприятный осадок остаётся от первого рассказа книги, особенно после того, когда мы уже заглянули и в следующие рассказы.
Рассказ «Тишина», естественно, не даёт нам надежды на какое-то более оптимистическое отношения автора к действительности: «... столы в лагерной столовой - грязные, липкие столы, за которыми мы обедали всю нашу здешнюю жизнь». Да, в лагерных столовых зачастую именно так, но и далеко не всегда! И поражает лагерный стереотип - «всю нашу здешнюю жизнь», так же, как «отучились навсегда». О людях пишет тоже с большой неохотой: «...Я кое-кого знал из этих полутрупов - по тюрьме, по транзиту»,- пишет он. Из бывших партийных работников и их же бывших жертв, из которых - сначала начальник посадил подчинённого, а потом и сам «загремел» вслед за ним. И вот они тут вместе. И уже «полутрупы». Но «полутрупы», как не крутись, зачастую трупами потом и оказываются...
И как писатель относится уже непосредственно к трупам? Шаламов относится спокойно. В рассказе «Графит», датированным 67 годом (Шаламов уже был на свободе более десяти лет!) сразу в начале рассказа пишет о том, что графитом лучше всего, оказывается, подписывать бирки, которые вешают на ногу покойника. Есть, конечно же и другие применения графита - и на «воровские карты» он идёт, и в картографии, в топографии без него не обходятся... И - почти поэтические строки о графите: «Легенда требует графита для бессмертия. Графит - это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас, сопротивляясь времени лучше, чем камень», «Бумага - одна из личин, одно из превращений дерева в алмаз и графит. Графит - это вечность». Но концовка рассказа нас возвращает снова к бирке на ноге мертвеца: «Картограф, прологатель новых путей на земле, новых дорог для людей, и могильщик, следящий за правильностью похорон, законов о мёртвых, ОБЯЗАНЫ (разрядка моя Г.М.) пользоваться одним и тем же - чёрным графитовым карандашом».
На этом рассказ кончается, но стоит заглянуть в середину этого же рассказа «Графит»: « Тридцать седьмой год принёс следствию и лагерям много людей с золотыми зубами. У тех, что умерли в забоях Колымы - недолго они там прожили, - их золотые зубы, выломанные после смерти, были единственным золотом, которое они дали государству в золотых забоях Колымы». Не зря, выходит, автора заинтересовал графит, наряду с золотом зубов. Но стоит вспомнить поэта Анатолия Жигулина, бывшего на Колыме в те же годы, что и Шаламов, но не в 37-м году. Но тоже в достаточно произвольные годы (48 -51). И предстаёт несколько другая картина Колымских забоев.
ЗОЛОТО
Глыбу кварца разбили молотом
И, весёлым огнём горя,
Заблестели крупинки золота
В свете тусклого фонаря.
..................................
Что нам золото?
В дни тяжелые
Я от жадности злой не слеп.
Самородки большие, желтые
Отдавал за табак и хлеб.
Всё просто у Жигулина. Можно сослаться на то, что это - поэзия. Но у Шаламова тоже - не публицистика. И у него тоже всё просто, но тенденциозно-упрощенческими, как гробовыми истинами сюжетов, писатель пользуется чаще. Можно сказать, что постоянно, ибо сама лагерная жизнь к этому располагает и от этого якобы зависит. Какое-то место подвигу здесь не проглядывается, хотя человечество знает много примеров, когда шли на «костёр» и на «амбразуру» за лагерную правду, пусть даже не совсем правдивую правду.
2. Но если продолжить события в рассказе «Тишина», то Шаламов, как художник, здесь уже более объективен, подробен и народен, так сказать. Но продолжает, однако, теорию «полутрупов». «Были в бригаде и ещё какие-то люди, закутанные в тряпье, одинаково грязные и голодные, с одинаковым блеском в глазах. Кто они? Генералы? Герои испанской войны? Русские писатели? Колхозники из Волоколамска?
Мы сидели в столовой, не понимая, почему нас не кормят, кого ждут? Что за новость объявят? Для нас новость может быть только хорошей. Есть такой рубеж, когда всё, что ни случается с человеком - к счастью. Новость может быть только хорошей. Это все понимали, телом своим понимали, не мозгом».
Но трагедия, кажись, кончается с принесением пищи.
«- Хлеба только по пайке, - торжественно объявил бригадир, - остального от пуза».
Суп, каша, кисель - от пуза!? Ешь, значит, сколько хочешь! Это же праздник для голодных людей! Но Колыма, хоть сытая, хоть голодная, ставит на людях свои отпечатки - даже на вольных людях - убеждает нас писатель. «Наши начальники, наши смотрители, десятники, прорабы, начальники лагерей, конвоиры - все уже попробовали Колымы, и на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубила лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро». Но почему это «тавро» должно быть обязательно отрицательным?
Очень хорошо понимает художник Шаламов ситуацию трагического, холодного пространства самой дальней части нашего государства со всеми вытекающими, так сказать, преисподней страны советов...
Но опять же вспоминается тот же поэт Жигулин:
«Владей моим сердцем, навеки владей. Край жил золотых и железных людей». Тоже своего рода «тавро» на сердце поэта в первую очередь...
Можно, конечно, сказать, что за три-четыре года Колыму не поймёшь: столько пробыл на Колыме поэт Жигулин. Но Колыму можно понять и за один день, объясняет Шаламов, как понял это ВОЛЬНЫЙ (разрядка моя - Г. М.) человек, и сразу обрел колымскую печать - не на лице пока: «На розовом лице чистенького черного человека не было ещё ни одного пятна, не было клейма. Это был новый старший воспитатель нашего лагеря, только что приехавший с материка. Он и не согласился со старым обычаем, когда оставшийся (со дна, по гуще) суп и каша уносилась в барак блатарям. Он и настоял, чтобы здесь же раздали пищу слабым и голодным. Но когда убили сектанта, что, наевшись каши, пошел в побег, то этот новый человек изменил мнение о «слабых и голодных», сказав, что он не знал, «что они такие гады». И, значит, по Шаламову, уже за один день заимел колымское «тавро»! Пока ещё только в душе. Колыма ломает и вольных, и заключённых одинаково. Главное здесь - нельзя нарушать старый колымский порядок: суп со дна бачков, самую гущу его - блатарям в барак! Пусть подавятся. Немало крови пролилось за это «право» сильного по всем местам заключения. Но «гады» здесь не из тех, кто пошел в побег, как сектант,а кто остался на правах сильного доедать «со дна погуще», но эта суть ускользает, как от воспитателя, так, по-моему, и от автора рассказа...
Топорное это правило «со дна погуще» «блатарям», как начальству какому, - оно, действительно, было по лагерям и не только... На фронте старшина всегда заботился о командном составе вовсе не так, как о тех, кто непосредственно ходил в бой. Комсоставский паёк - кому не известен? Само государство его утвердило. Я понимаю, что это совсем не то правило, как у блатных, но вопрос в том: надо ли слишком налегать на эту сторону дела писателю? Ведь что получается. Всё началось глобально и трагично, но кончилось всего лишь супом и кашей, наевшись которой, сектант решился на самоубийство: побежал, и его пристрелили. И следуют буквально гениальные слова Шаламова: «...иногда человеку надо спешить, чтоб не потерять воли на смерть». Для этих слов, может, он и писал рассказ Тишина. Но «воля на смерть» здесь неотвратимо образуется через кашу и суп (ещё кисель), которые, худо - бедно, дают каждый день... И, значит, «волю» эту человек имел всегда. Тогда и причина совсем иная, которая осталась за кадром...
Но вот они собрались возле печки, сектант не поёт гимнов - тишина. Смертельная тишина. И люди уже не думают, наверное, о супе и каше, а думают о своей и чужой жизни. Всё - таки Шаламову удалось возле простейшей железной печки создать трагическую ноту этим рассказом «Тишина». Но не уйти от впечатления быстрого слома вольного воспитателя. И о колымском морозе, который помогает начальнику заставить заключенных работать (колымская поговорка: «что-то стало холодать - не пора ли нам поддать!), то есть поработать киркой, ломом, лопатой..., в чём нет ничего страшного. И как-то обидно, что подобное - ставится во главу угла произвола, наряду с супом и кашей. Но... что автор рассказа должен здесь ставить во главу угла? Где другие причины и другие примеры другого поведения людей? Как вольных, так и заключённых?.. В том-то и дело, что у Шаламова их в данном случае, попросту, нет. Он сам закрыл возможность появления в этих условиях других людей. И даже себя тоже дегероизировал.
И создал условия, которые не были бы столь трагичны, если бы не сектант, которому захотелось умереть, чтобы не ходить в полутрупах среди полутрупов, тем самым исполнить авторскую задумку о моменте «тишина».
3. Процитирую несколько абзацев тех событий, в которые, честно говоря, не верится: «Новое пополнение и вовсе не имело имён. Зимой 1938 года начальство решило пешком отправить этапы из Магадана на прииски Севера. От колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать - сорок. Остальные оседали в пути - обмороженными, голодными, застреленными. По фамилии никого из этих прибывших не знали - это были люди из чужих этапов, не отличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах». Но документы на них какие-то должны быть? А если не было, то можно ли из них (раз такое дело!) оставлять в живых этих 30 - 40 человек, как свидетелей? И такое впечатление, будто Шаламов был одним из выживших «тридцати - сорока» человек. Ибо всё «увиденное» и даже «услышанное» говорит об этом. Неужели местное начальство взяло на себя подобное действие по уничтожению стольких людей, завезённых на Колыму, похоже, для этого уничтожения, как будто на материке места не нашлось для пятисот покойников. Их на Колыме и хоронить-то хуже - вечная мерзлота. Все трупы по дороге будут, как есть, валяться до самого лета! Да и летом их на Колыме не особо спрячешь. Я бы поверил в это, если бы эти события происходили в 45-м году или позже, когда по Указу Сталина была отменёна смертная казнь, но не в 38 году, когда она действовала через смертные приговоры. И не думаю, что в тридцатые годы (конца их) произволы были более лютыми, чем послевоенные (тоже в конце сороковых), когда и срока стали по 25 лет, когда и заграница объявила нам холодную войну: она ведь всегда влияла на наши внутренние дела и события...
Шаламов упоминает Гаранина, который, по рассказам заключённых уже из наших лагерей, был американским шпионом. А настоящего Гаранина, начальника Дальстроя Гаранина, этот шпион убил в пути и с его документами явился на Колыму, чтобы творить произвол!
Но зачем американскому шпиону уничтожать «врагов народа», врагов советской власти? Не лучше ли было поднять восстание да уйти через пролив на Аляску? Дальше Шаламов пишет: «Бригады сливали - людей не хватало, а правительство обещало дать рабсилу, требуя план. Каждый начальник прииска знал, что за людей с него никто не спросит»... Тут явное противоречие: «правительство обещало дать рабсилу» - с материка, надо полагать, а та рабсила, которая рядом, уже на Колыме, безжалостно уничтожается!? Шаламов продолжает: «Начались чтения на поверках, разводах, бесконечных приказах о расстрелах. Эти приказы были подписаны полковником Гараниным, но фамилии людей с прииска «Партизан» - а их было очень много - были названы, выданы Гаранину Анисиным». Другим произвольщиком. Шаламов пишет, что Анисин бил людей постоянно, хотел ударить и его, Шаламова, но возле его, заметив кирку, раздумал бить Шаламова...
Слышал я байку, что Гаранин заходил в БУР, где сидели человек триста воров со многой охраной. Блатные ему и говорят: «Что, сука, пришел пугать нас! Плевали мы на тебя и на твоего усатого! (Сталина, значит). Гаранин молча вышел, а на завтра в БУР завезли усиленное питание и даже что-то из спиртного. Но это байка. Но не байка, а достоверный художественный рассказ Шаламова, списанный как бы с натуры, в котором красномордый, отъевшийся бригадир Гришка Логун (рассказ «Термометр Гришки Логуна») избивает одного за другим до полусмерти своих же заключённых. Этого было сколько угодно по всем лагерям. Но не до «полусмерти», а то ведь кто потом работать будет? Работа всегда была на первом месте, а люди, без которых она не могла быть сделанной - были на второй. Но это второе обеспечивало - Первое! А куда без этого «Первого»?
«Власть - это растление. Спущенный с цепи зверь, скрытый в душе человека, ищет жадного удовлетворения своей извечной нечеловеческой сути в побоях, в убийствах». И вот один из таких «зверей» ударил Шаламова. Он упал. «Зуев несколько раз ткнул меня валенком в бок, но мне не было больно». Это было безволием, которого не было ещё в случае с Анисиным. Зуев заставлял писать Шаламову на него помилование. Но он не знал, как Шаламову было трудно писать, да и никто там не мог предположить, чего стоило бывшему писателю снова взяться за перо, хотя бы для заявления, письма, жалобы... Даже это стоило немалых усилий. «Трудно было мне писать, и не потому, что загрубели руки, что пальцы сгибались по черенку лопаты и кайла и разогнуть их было невероятно трудно. Можно было только обмотать карандаш и перо тряпкой потолще, чтобы имитировать кайлище, черенок лопаты. Когда я догадался это сделать, я был готов выводить буквы.
Трудно было писать, потому что мозг загрубел так же, как руки. Нужно было оживить, воскресить слова, которые уже ушли из моей жизни, и, как я считал, навсегда».
И всё же это похоже на грустную поэтическую, очень грустную реалию прозы (в данном случае, можно сказать, гениально - литературную!), чем на реально житейский факт лагерной действительности, где далеко не всё сводилось к трупам или полутрупам.
4. Шаламов - превосходный прозаик, рассказчик, чувствующий живую природу, сопереживающий ей. В рассказе «Храбрые глаза» вольнонаёмный геолог, отправленный вместе с несколькими заключёнными в геологоразведочный маршрут, убивает прекрасного зверька ласку абсолютно неоправданно, не по-людски, как изверг. У ласки и были эти самые «храбрые глаза» перед смертью: «Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед её взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу ещё не рождённых, не родившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмудовым были бы далеко от сломанной лиственницы, родились бы и вышли в трудный и серьёзный таёжный звериный мир». Рассказ помечен 1966 годом написания. Это нередкая удача писателя, подсмотревшего оптимистическую трагедию живой природы, но не человеческой породы.
В людях очень редко видит Шаламов «храбрые глаза» в роковой час.
Но вот случай «храбрых глаз» исключительно человеческой породы, женской породы, как у ласки, хотя глаза - то эти как раз писатель не запечатлел. У отпетой воровки их быть не может, которая зарезала нарядчицу, получив десять лет, а потом убила, пытавшегося её изнасиловать охранника из его же автомата, всадив в него целую очередь. Нарядчицы, они тоже всякие бывают. Бывают и чистые стервы, которые сами просят, чтобы с ними поступили по крайности. Что касается насильника-охранника, то он до Аглаи Демидовой не один десяток женщин заключённых изнасиловал, то есть тоже сделал десятки преступлений. И после неё, если бы она его не убила, сделал бы не меньше преступлений. Но Демидова за него получила 25 лет (закон есть закон, а она совершила самосуд, хоть и праведный). Однако художнику никто не мешал увидеть и тут «храбрые глаза», но он озабочен был совсем другим: «Демидова была магазинной и квартирной воровкой...», Юридическая сторона дела здесь выше морально литературной. Ведь Аглая Демидова сделала, может быть, лучший поступок своей жизни, но кто это здесь поймёт?...
«На Колыму нас везли умирать и с декабря 1937 года бросили в гаранинские расстрелы, в побои, в голод. Списки расстрелянных читали день и ночь. Всех, кто не погиб на Серпантинной - следственная тюрьма Горного управления, а там расстреляли десятки тысяч под гудение тракторов в 1938 году - расстреливали ежедневно под оркестр, под туш по спискам, читаемым дважды в день на разводах - дневной и ночной смене».
Везти на Колыму из Москвы очень много надо было «карасину» иметь молодой республике, но ясно, что предателям (это были опять, конечно, они) этого народного керосина не жалко. И всё же... неужели самое большое начальство, подписав сотни тысяч приговоров для работы на Колыме, вдруг не спросило бы само себя - а где золото с Колымы!?? Мы что, зря стараемся что ли? Судим и судим - все в поту, понимаешь! А золота всё нет и нет!? Ведь тех, кого не убили, те доходяги и фитили - много ли они добудут золота?
Может, золото доверяли добывать только «друзьям народа»? Но в те времена понятия не было, чтобы держать заключённых в разных зонах: все были в одной зоне и в одной бригаде работали, и работу делить смысла не было, пусть даже доверия было меньше к «врагам народа». Но бригадиру всегда виднее, кто лучше работает. А «враги народа», как правило, работали лучше и честнее. И доверия в работе им было тоже больше, хотя это и не афишировалось. Вспомните бригадира Тюрина из рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» - то был действительно человек, и по-настоящему с храбрыми глазами. Но у Шаламова «идейно» всё по-другому: «Орудие государственной политики, средство физического уничтожения политических врагов государства - вот главная роль бригадира на производстве, да ещё на таком, которое обслуживает лагеря уничтожения... Поэтому бригадир идёт по проверенному, по надёжному пути - выбивает эти кубики из работяг-доходяг, выбивает в самом реальном физическом смысле - кайлом по спине, а как только выбивать становится нечего, бригадир, казалось бы, должен стать работягой, сам разделить судьбу убитых им людей». Несуразица какая - то...
Вспомните из кого «выбивал» (не работу, а проценты) бригадир Тюрин? Не из работяг, а из прорабов, учётчиков и прочих людей - тоже зэковского, а то и вольного статуса...Но и бригаду держал в предельно рабочем состоянии: иначе нельзя - загубишь всё и всех. Не получишь денег, не получишь зачётов, дополнительного питания... Но и в этом случае, не помню, чтобы кто-то умер от голода или от побоев даже, не говоря уже о расстрелах. Не те были годы? Но годы заключения Солженицына и Шаламова совпадали, начиная с 45-го года. Места заключения, правда, были исключительно разные. Но лагерно-тюремная жизнь настолько стереотипна по всем местам, как одежда, как питание, как неписаные законы общения между собой заключённых, что изменить во всём этом ничего невозможно. Внося некоторые коррективы в климат и местонахождение. Всё остается так, но жестче на Колыме, на Соловках и слабее на «материке»... И это вся разница.
Самопожертвования «отцов-бригадиров» «материковых» зон в те времена ничем не отличались от колымских. Они были повсеместными. Очень жаль, что мало было сказано и написано о них. Солженицын тоже не собирался освещать это. Его интересовала в основном судьба Ивана Денисовича, но более ответственный автор не мог пройти мимо явления «отца-бригадира», каковым по существу был его Тюрин. Автор рассказа об этом не пишет, но получается - именно это. Отцы-бригадиры были в любой зоне, но остались не в поле зрения почти всех тогдашних летописцев.
5. Есть, правда, пример, самопожертвования «бригадира» в рассказе Шаламова «Последний бой майора Пугачёва», но уже с безрассудным самопожертвованием «майора» какого-то эгоистического безрассудства. Сам погиб и погибли все «бригадники». Могли бы кое кто и освободиться, помучившись, но переживши... Рассказ экранизировали, и где-то даже выправили по-режисёрски, отчего он стал «злободневнее» и кроваво ярче.
И вот я смотрю этот фильм же, наверное, пятый год подряд перед празднованием Дня Победы, как будто самое обидное из этой Победы, - и самое в ней важное. И удивляюсь незамысловатости сюжета, узнавая знакомый упрощённый метод объяснения жизни. Дав герою рассказа фамилию «славного мятежника», писатель, естественно, и не даёт ему другую, не мятежную судьбу, так же, как и его товарищу Солдатову была уже уготована участь стойкого и верного сподвижника бунтаря. И тут хочешь - не хочешь, автор рассказа, а за ним и кинематографисты впадают в ситуацию слишком очевидного заданного плана. Даже о конъюнктуре говорить было бы ошибочным, ибо предельная упрощённость (Пугачёв - значит, бунт) - это для слабоумных. Такие совпадения в художественной литературе всегда мстят за себя. Ну, представьте себе: лагерный поэт Пушкин, без всяких сравнений. Ну, действительно, фамилия такая у лагерного поэта! И как же Пушкин потускнел бы в наших глазах на то время, пока у лагерного поэта срок не кончился...
А новоявленные пугачёвцы, как нам ненавязчиво пытаются объяснить кинематографисты, наверное, в тот бой и шли-то за восстановление будущих (сегодня - уже и настоящих) демократических принципов в стране. Хотя бы подсознательно, а не просто умереть в бою, но на свободе. Шли ещё и для того, чтобы, если повезёт, добраться до самолётного ангара и если удастся, то и улететь через Аляску в Америку, а там - демократическая страна!
Вспоминается, как многие тогдашние заключенные Колымы (слышал от бывших колымчан), когда его спрашивало начальство: - «Срок!?», смелый зэк нередко отвечал: «До Трумана»! То есть не двадцать пять лет ему сроку, а до тех пор, пока его не освободит американский президент Трумэн! Колыма и Аляска (американская) почти рядом. И не трудно догадаться, что направлял «пугачёвцев» замысел писателя, а он, писатель, был человеком не безыдейным, как помнится, и передать идею своему герою, хотя бы скрытую, - что может быть легче.
Что ни говори, а гибли в лагерях заключённые сотнями тысяч, а сейчас на так называемой свободе, без всяких репрессий гибельный счёт на миллионы пошел. За что, как говорится, боролись...и воевали.
Но вернёмся к военному фильму. В первую очередь - о немцах. А у них, как принято зачастую у нас в кино о войне, изначально в голове чего-то не хватало: может, из-за быстрого подхода наших войск, может, от природы такие были. И во время поджога бараков с военнопленными, для их уничтожения, почему-то не вывели машину из зоны близкого огня, потом ею воспользовались военнопленные для побега. Бараки уже горят, но военнопленные в считанные мгновения разбирают потолок. Который, надо понимать, не очень крепко был сделан, а потом и крышу - тоже не очень крепко сделанную...
А на вышке пулемётчика не оказалось меткого, а в машине вооруженный олух шофёр и ещё несколько вооруженных олухов немцев... Другие немцы - нерасторопные тоже - стреляли, стреляли, строчили, строчили, но в кого надо, разумеется, не попали. Так и хочется сказать словами юмориста: «...ну тупые немцы! Ну ту-пы-е...».
А наши-то, наши-то ещё тупей оказались, особенно эти - особисты. Не то что, допустим, у писателя Виталия Богомолова в «Моменте истины». Ведь они-то в первую очередь должны были подумать о том, что в той местности, где находится лагерь военнопленных, при подходе наших войск возможны побеги. Военнопленные по залпам орудий знали: где-то близко линия фронта! И рисковали. Иногда удачно. Имитация с побегом власовцев по заданию врага, допустим, когда идут армия и танки, уже ничего не могла бы решить для какой-то пользы этого врага. Но особисты, верные «своему» шаблону особистов, начинают издеваться (не хуже фашистов) над несчастными людьми, попавшими в ситуацию плена, когда сдавались батальонами, а единицы ничего не решали, и вот настал момент... Когда бы истина должна была восторжествовать, и некоторые бойцы могли бы вновь вернуться в строй...
Но тут их стали вынуждать, чтобы они признались в измене Родине. И не иначе. Как будто, если будет доказано обратное, то особисты понесут от своего начальства неминуемое наказание. Бывало, наверно, и так, но всегда ли!? По Шаламову, похоже, было всегда, поскольку особисты всегда были потенциальные враги его Родины. Советская власть побеждала всегда с большими, неоправданными потерями. И Берлин взяла, чуть ли не случайно. Но победить особистов у себя в стране, хотя бы тоже случайно, всё же не могла. По Шаламову, так они вообще были кастой не побеждаемой, и представляли собой одну генерацию с лагерной вохрой. На ком, в конце концов, и отыгрался майор Пугачёв, а вместе с ним и писатель Шаламов.
«Последний бой», естественно, разыгрался на исключительно на прострельной местности. И кинематографисты дали зрителю зловещую панораму правды убийства тех - вынужденных дважды «предателей» родины. Откуда и Солдатова полуживого доставили в санчасть: не на свидание ли с генералом к тому времени уже демократически настроенному, понявшему свою и не только свою «ошибку» политики в целом (назревала уже хрущёвская оттепель), как и хирург-лепило-философ (не сам ли Шаламов?), к тому времени уже склонный понять генерала...
6. Прозаик Варлам Шаламов необыкновенно кинематографичен: объективно показателен, конкретен, откровенен, художественно краток. Размышления у него логически-блочные: отчаянная ненависть к советской власти, обусловленная порождением ею детдомовцев, блатарей, урок, выродков лагерного начальства, открытием множества лагерей и тюрем; она, советская власть, сделала целые континенты сиблагами, ураллагами, дальстроями...
Ну как с ним не согласишься!? Но дело в том, что Шаламов всё это ещё более усугубляет. Ведь, если бы он написал сценарий «Холодное лето пятьдесят третьего...», то не иначе как поубивал бы урками всех жителей-персонажей, оставив, наверное, одну глухонемую бабку свидетелем, которая и рассказать-то бы ничего толком не смогла, на чём и закончился бы сценарий...
Трагически, дескать, но справедливо. Домыслы мои небезосновательны, но разговор об этом конкретно ещё впереди.
Шаламов, как публицист, поэт, прозаик и возник во весь рост в амнистию 53-го года из ненависти к ней, хотя и большинство рассказов писались уже на свободе после 54-го года. Не он один был ею недоволен. Она создала много кривотолков. Амнистия почти не коснулась 58-й статьи. И осуждённые по этой статье пережили большую обиду, и впоследствии, кто из них владел публицистическим или художественным словом, высказались по этому поводу довольно резко. Обида пала, как ни странно, не столько на тех, кто её придумал, а большей частью на тех, кто под неё «подпадал»: на бытовиков-хулиганов, воров, спекулянтов... Варлам Шаламов в рассказе «Рива Роччи» напишет: «Все уголовники («все» - любимое слово писателя, распространённое по лагерям: «все вы гады», «все вы суки» очень часто говорят в лагерной жизни) по амнистии Берии были освобождены «по чистой» с восстановлением во всех правах. В них правительство видело истинных друзей, надёжную опору».
писателю, поэтому - переборы, переборы, переборы... Сразу по объявлении амнистии пошли далеко не все уголовники на свободу, хотя под скидку срока «на половину срока» подпадали многие. Главных уголовников, «тяжеловесов», амнистия не коснулась, а все так называемые «малосрочники», наделали много шума, освободившись, не столько дела, которое Шаламов связывает не больше - не меньше, как с «мутными кровавыми потоками», распространившимися по всей России. И потом, «по чистой, с восстановлением во всех правах» не ушел никто. Сама Справка об освобождении, а не паспорт (паспорт выдавали в городе, где судили) - была уже клеймом. Даже паспорт не выдадут без этой справки.И отметят её в паспорте. Паспорт и потом без этой справки недействителен был! И стоило снова попасть под суд, как возвращались все прошлые судимости - где тут было «по чистой»? А сам «гуманный» акт этой амнистии говорил о повальных некогда нарушениях в уголовных делах того времени. По уголовным статьям многие тоже сидели почти «не за что». Политические заключённые в большинстве своем того замечать не хотели. Варлам Тихонович вообще негодовал, поскольку на дух не переносил всех этих урок, блатарей из бывших детдомовцев, страдая от долгого сидения гепертрофированной интеллигентско-лагерной советофобией на всех уголовников, или попросту «бытовиков», называя их с расхожей от 58-й статьи издёвочкой «друзьями народа».
Чего стоит этот пассаж художественно-публицистической галиматьи из того же рассказа Рива Роччи: «По Магадану, по всем посёлкам Колымы (опять «всем») бродили убийцы, воры, насильники, которым при всех обстоятельствах надо было есть четыре или по крайней мере три раза в день - если не наваристые щи с бараниной, то, по крайней мере, перловую кашу». Только освободились - и сразу «воры», «насильники», «убийцы»!? Ах, да - потенциальные. Но, видимо, не только потенциальные. Поскольку далее, характеризуя пресловутых «друзей народа», он пишет: «Мутный кровавый поток плыл по колымской земле, по трассам, прорываясь к морю, к Магадану, к свободе Большой земли. Другой мутный поток проплыл в Лену, штурмовал пристани, аэродромы, вокзалы Якутии, Восточной и Западной Якутии, Восточной и Западной Сибири, доплыл до Иркутска, до Новосибирска и так дальше на Большую землю, сливаясь с мутными, столь же кровавыми волнами магаданского, владивостокского потоков. Блатари изменили климат городов - в Москве грабили столь же легко, как в Магадане!»
Слов нет, в 53-м году амнистированные уголовники доставили немало хлопот всему населению страны - воровали, грабили, убивали (сейчас и без амнистии этого всего раза в три больше), но не столько, не столько было этих «мутных кровавых потоков»!
Больше всего было мелкого воровства и грабежа, как необходимого (прошу прощения) преступления для обыкновенного пропитания, когда и крупные дела делались тоже, если случится, повезёт сволочи - уголовнику... А убивали они чаще всего друг друга, продолжая на свободе свои зоновские войны между воровскими группировками (ворами, суками, беспределом...).
Но сами эти стычки в конце концов привели к тому, что в Москве, в Марьиной роще собралось тысячи полторы неглупых воров и сук для того, чтобы договориться о мире во всём блатном мире! Но, по рассказам, из этого ничего не вышло... Однако распри сколько-то приутихли. В последствии даже были случаи существования в одной зоне сук и воров без поножовщины... Пока не возродилась из бывших воровских группировок уже клановая мафиозная вражда, где, действительно, кровь полилась большая-пребольшая со всяким современным огнестрельным и взрывным оружием...
7. А при амнистии 53-го года освободившиеся простые мужики, или, так называемые «фраера», сидевшие за разные мелкие преступления, не испытали какого-то особого давления со стороны блатных, потому что, прежде всего, не было у них ничего такого после заключения-то, чем бы могли поживиться у них блатные. Но Шаламов нашел «что» у них всё-таки было! В том же рассказе «Рива Роччи» он объяснил «что» именно: «В пути продуктов не оказалось достаточно. Менять у жителей никто не мог, ибо имущества не было, не было и жителей, которые могли бы продать что-нибудь съестное. Блатари, захватившие пароход и командование (капитан и штурман), на своём общем собрании вынесли решение: использовать мясо фраеров (вот оно это «что»! -Г.М.) соседей по пароходу».
Но неужели на том «общем собрании» (Шаламову надо вызвать ассоциации с профсоюзом, комсомолом или другого вида собраниями: воры собирались на сходки - не мог этого не знать Шаламов) кто-то бы не высказался за то, что вот, мол, братцы, как никогда сейчас близка свобода, материк... и прочее. Потерпеть надо, а потом своё возьмём, а ведь за мясо фраеров не просто посадят снова, а расстрел могут дать! С 1952 года расстрел уже был. Можно, правда, предположить и то, что каких только придурков среди блатарей не бывает! Могли, возможно, и на такое решиться! Явно сомнительным кажется следующий факт: «Фраеров резали, варили в пароходном котле и постепенно, но по прибытии зарезали всех. Остался, кажется, капитан, или штурман». Которые, надо полагать, тоже ели «фраерское мясо» (может, мясо фраеров своей вольной команды!), если блатари без него не могли обойтись, чтобы с голоду не умереть! Но есть сомнения ещё и в том: как блатари ухитрились использовать «параходный котел» для варки кусков фраерского мяса? Котёл принципиально герметичен, и вода в нём ядовитая. В топке котла (допустим, в какой-то посуде) не сваришь: сгорит и посуда, и «фраерское мясо» сгорит. На самом котле не сваришь - температуры не хватит. Камбузный котел не называется - «пароходным». Видимо, писателю надо было, чтобы всё выглядело зловеще, и он пишет: «...варили в пароходном котле». А свою достоверность он подтверждает следующим образом: «Я хорошо знаю подробности этой истории, потому, что из Барагона в этом этапе (Уже на свободе - этап!? Тогда где был конвой или сопровождающие люди этого вольного уже этапа, когда резали фраеров?) уезжал товарищ и одноделец Новикова - Блунштэйн. Блунштэйн поторопился выйти из колёс машины, попытался ускорить её ход и погиб». Как будто не «выйти из колес машины» было бы безопасней. И почему известный случай с блатарями-людоедами (такого просто невозможно было спрятать!) не попал в газеты? Не свои, так зарубежные? И всё-таки интересно: что говорил капитан по прибытии парохода в родной порт, встречающим родственникам! Может быть, так: мол, съел я ваших мужичков - не обижайтесь, так получилось - блатари заставили...
8. Ведь о художественном вымысле произведения разговор идти не должен, поскольку в письме к Сиротинской Варлам Тихонович очень щепетилен по отношению к реальности в своём творчестве: «Каждый мой рассказ - это абсолютная достоверность документа». Свою художественную концепцию писатель в том же письме сформулировал так: «Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя цитадель реализма. Всё, что выходит за документы, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом». И ещё: «Художественный крах «Доктора Живаго» - это крах жанра. Жанр просто умер». И таким образом под «смерть» подвёрстывается вся романная литература (и не только романная) после «Колымских рассказов»: «Бог умер. Почему искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман». Но «толстовский» - значит, традиционный, чему множество обратных подтверждений. А я-то думал, что шаламовский реализм единственно на кого не распространяется, это на его «блатарей» (и ещё немного на сталинскую советскую власть), когда запросто летят куски варёного «фраерского» мяса в нашу литературу, пролетев, наверно, и всю заграницу...
Наталья Иванова в статье «Варлам Шаламов и Борис Пастернак: к истории одного стихотворения» (ж. «Знамя», № 9, 2007 г.) цитирует Шаламова, где Шаламов просвещает Пастернака о ГУЛАГе и «готов» отдать Пастернаку для романа некую «концентрацию РЕАЛЬНОСТИ (разрядка моя -Г.М.): «Белая, чуть синеватая мгла зимней 60-й ночи, оркестр серебряных труб, играющих туши перед мёртвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм».
Нормы в лагерях всегда завышены от бригадирских приписок (не выполнил норму на 151% - не получишь зачёты, не выполнил на 61% - не получишь полную пайку), а выполнить её, норму, даже на 100% никому не под силу. Значит, начальству надо каждый день расстреливать в лучшем случае ползоны заключённых! Спрашивается, а кто ОБЩИЙ план будет выполнять через несколько дней!? Может, для примера расстреляли несколько человек? Так бы и написал, а то ведь «списки расстрелянных». Не один, значит, и список-то был! Но за план, как таковой, всегда отвечал начальник лагеря (прорабы, инженеры, бригадиры - все были из заключённых), с которого план спрашивали - вынь да положь! Самого могли расстрелять за саботаж. На Колыме золото добывают, руду, ведут большое строительство, а дурак-начальник рабочую силу порасстрелял! Где обыкновенная самоохранная логика начальства: речь о какой-то жалости или справедливости не идёт. По рассказам, на Колыме по всем светлым речкам бесконвойники рыбу заготовляли постоянно («трясочки-то не поешь - не поработаешь» - колымская поговорка). Об американской тушёнке, завозимой постоянно на Колыму и Чукотку, нам здесь уральским заключённым, почти всегда полуголодным, бывшие колымчане все уши некогда прожужжали.
Колымское начальство всё-таки не такое жестокое (к себе хотя бы), наверное, было. И старалось, чтобы люди способны были на выполнение плана. Доходягу, ты его хоть сто раз «расстреляй» - он всё равно план не выполнит.
Почитаешь Шаламова и подумаешь: как же люди с Колымы возвращались? Как же он сам возвратился? Может, лучше нам вспомнить строки опять того же поэта, когда: «Шумно греется у огня /Чумазая шоферня».Или :»Привет тебе, Колымский колкий стланик, сибирских кедров самый младший брат!»... Или стихотворения «Хлеб», Бурундук», где произвол не скрывался тоже, но он имел другую окраску:
В барак входили пара,
Ногами топая в сенях,
И сразу падали на нары,
Тяжелых валенок не сняв.
А хлеб несли из хлеборезки.
Был очень точно взвешен он.
И каждый маленький довесок
Был щепкой к пайке прикреплён.
О горечь той обиды чёрной,
Когда порой по вечерам,
Не сделавшим дневную норму,
Давали хлеба двести грамм!
Обратите внимание: не расстреливали! А ещё и хлеба давали двести грамм! Живи - не хочу!!! Что касается общего вывода стихотворения, то он не очень пессимистичен, он просто традиционно труден, как тяжелейший подневольный труд. И не только подневольный. («Кто не работает - тот не ест»). Труд, он весь и всегда такой в принципе...
Прошли года...
Теперь, быть может,
Жесток тот принцип и нелеп.
Но сердце до сих пор тревожит
Прямая связь:
Работа - хлеб.
И много ещё чего можно цитировать бодрого, скажем так, о Колыме поэта Жигулина. Это потом. Варлам Тихонович не любил уголовников, блатарей особенно... И об этом много им написано. «Моё отношение к блатарям знали все...» (Шаламов). Но и о своих «единоверцах» из 58-й статьи, освободившихся на Колыме по окончании срока, и по амнистии «до пяти лет» писал: «А те единицы из пятилетков, кто не получил довеска, не умер, не попал в архив номер три, те давно освободились и поступили на службу - убивать - десантником, надзирателем, бригадиром, начальником участка (о вольных фельдшерах не пишет, каковым был сам) на том золоте и сами стали убивать бывших своих товарищей».И золото, оказывается, было, кроме, как на зубах. И крепкие , видать, люди были эти «пятилетки». Не в этом дело. Шаламов, кажется, ненавидит их больше, чем саму советскую власть... За что же такая ненависть к «пятилеткам»?
Варлам Тихонович, оказывается, ничем, в общем-то, не отличался тогда от тех большесрочников, которые всегда ненавидели малосрочников. Всего лишь за то, что малосрочник раньше его пойдёт на свободу: жестокий, несправедливый лагерный стереотип. Господи! Кому только они, большесрочники эти, не испортили настроения перед освобождением! Но причём тут реализм - художественный или даже филосовско-публицистический метод мышления? Ведь и его очеркистика - разве не претендует хотя бы на обыкновенную человеческую мораль?
9. Но где-то всё - таки Шаламов осознаёт, что если он сам себя (раньше касалось других его героев) не поставит на излом этого самого реализма в каком-то случае что ли, то перестанут верить всему, что им написано.
Будучи здесь же, на Колыме, работая уже вольнонаёмным фельдшером, когда он «был самый главный по врачебной линии», пишет о событиях примерно 51-52-го годов. Рассказ «Вечная мерзлота», предлагая читателю следующий диалог между им, вольнонаёмным фельдшером и работающим здесь же, в лагерной больнице «поломоем» из заключённых:
- Я предупреждаю вас, гражданин фельдшер, я жить не буду, если меня спишете с этой работы. Я буду жаловаться.
- Ну, хватит болтать, иди. Завтра в бригаду. Перестанешь разбрасывать чернуху.
В результате: «...заключённый Леонов покончил с собой» - пишет автор рассказа, которого предупреждал этот Леонов, что на общих работах у него были какие-то проблемы. Он не был бывшим, например, блатарём, он не был уголовником, сидевшим по бытовой статье: он имел 58-ю статью, как некогда сам Шаламов. А сейчас Леонов его называет «гражданин фельдшер» - почти как «гражданин начальник». Значит, этот «фельдшер» имел какой-то мандат от местной советской власти. И даже в каком-то смысле представлял её! То есть находился в положении, как те самые «пятилетки», освобождённые по окончании срока и поступившие (со слов самого же Шаламова) на службу «убивать - десантником, надзирателем, бригадиром...». Выходит и он, вольный фельдшер, тоже «поступил»!? И сразу... со смертельным исходом. Но вот резюме писателя-реалиста в конце рассказа «Вечная мерзлота»: «Я понял внезапно, что мне поздно учиться медицине и жизни». Поза честного бедолаги. Один у него такой Леонов был, пока учился «медицине и жизни»? Лагерные фельдшера, или как их называют «лепилы», строго зависят от начальства, и не только медицинского начальства. Начальство с вечера предупреждает (через штабного посыльного обычно), что назавтра освобождённых от работы не должно быть больше, например, человек десяти-двадцати: освобождай только самых больных, иначе (подразумевается) сам загремишь на общие работы...
И заключённый, проработавший много лет в качестве «лепилы», так или иначе, становится заложником - не всегда умного или прямо подлого начальства, которое руками этого «лепилы» загубило не одну, без всяких сомнений, жизнь человеческую. Даже на свободе стоит только врачу поставить не тот диагноз - и больной может умереть, а тут... один и тот же диагноз: «не темни», «не коси», «не разбрасывай чернуху»!.. (Но нет никаких доказательств, кроме рассказа «Вечная мерзлота», что Шаламов ЛИЧНО был таким же «лепилой»!!!). И мои доводы нельзя считать доказательством, а лишь догадками, которые напрашивались сами собой.
Но крайне разочарованный человек в жизни, Шаламов не порывает с писательством: через него можно как-то поквитаться с советской властью и с блатарями - порождением советской власти...
10. Читаю письмо Шаламова к Сиротинской, где он ниспровергает классиков, предлагая литературному миру литературно-философскую концепцию критического реализма «новой прозы» «Колымских рассказов», где вполне очевидно, как писательская психология большесрочника давит и давит на психологию малосрочника, то есть пока на Солженицына. Когда Шаламов прочитал «Один день Ивана Денисовича» - лучшую литературную вещь, как я считаю у Солженицина, то воскликнул: «Появился ещё один лакировщик действительности!». В рассказе Солженицына не было обычных, по Шаламову, блатарей, не таскали на волокуше больных людей на работу, не зачитывали «при факелах» «расстрельных списков» за невыполнение нормы выработки. У Солженицына описана обыкновенная, не каторжанская, не колымская зона - все это можно было понять Шаламову, но Солженицын отсидел всего восемь лет, а Шаламов восемнадцать, кажется, в общей сложности... Что касается классиков, Достоевского, Толстого, Пастернака.., то большинство из них вообще не сидели! Достоевский, правда, сидел, но не на Колыме же! Да все они «малосрочники» перед Шаламовым. Разве могли они понять, что пришлось понять самому Шаламову, описанное им в очерке «В лагере нет виноватых: «В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость - потому что слишком опасно. Горе - потому что бесполезно. Канонический, классический «ближний» не облегчит твою душу, а сорок раз тебя предаст начальству: за окурок или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что - по-русски».
Здесь нет ничего нового относительно стереотипа лагерного мышления определённой философии, которая не принадлежит ни Западу, ни Востоку, а принадлежит тому, кто сам такой...
11. И вот люди с подобной философией, дождавшись своей амнистии, которую объявили всего через два года после известной амнистии 53-го года и которая была, насколько помнится, не менее людной на освобождённых, чем первая, - понесли её, эту «философию», вместо «мутных кровавых потоков», что характеризовало первую, как писал Шаламов, понесли её доверчивым российским людям на свободу, на просторные интеллигентско -патриотические кухни, где жаждали правды, какой бы она ни была!..
Так вот, «мутные кровавые потоки», а точнее тех, кто их творил, были «загнаны обратно за решетку» через какое-то время (пишет Шаламов), но философию пагубную для России никто никуда «загонять» и не собирался: она всем понравилась своим неприкрытым «реализмом» и заворожила своей неотвратимостью. Она загипнотизировала всех! Она разрослась по ветвям: национализм против слабого национализма, то есть русского, терроризм против оккупантов, то есть русских, экономическое давление на дураков - «совков». Эта философия подкрепилась - и официально, и мемориально, и исторически-литературно. От неё как от «печки» пошли все наши изустные разговоры обо всём и обо всех, с большим не юридическим креном антисоветизма (анекдоты, сплетни, байки про Сталина, Ленина, Будённого и бог знает ещё кого - всё годилось для будущего морального обвала).
Подобное стало неподконтрольно. Перестали контролировать то, что если кто-то скажет, что русская нация слабая и продажная..., тем более, что она, действительно, становилась такой - куда деваться! А раз так! То и дать этой нации рыночные отношения. Дать ей демократию и плюрализм. Дать ей настоящую цивилизованную мафию! Вместо вульгарного мелкого грабежа и воровства.
Скажите: мог ли один Шаламов сделать морально-политическую погоду в стране? Да нет. Нужны были многие и многие. Но его личная ненависть к системе (была она, система, далеко не совершенной, но всё-таки жизнеутверждающей по возможности) помогла сделать переворот в стране, сделать русский народ полузэковским и сократить на миллионы. Послать девушек на панель, мальчиков на ничем неоправданные войны, школьников - наркоманить, средний возраст приучили к алкоголю... То есть - сделать всё так, как надо было давно нашим недругам. Ведь любая власть (монархизм, капитализм, социализм) может быть благотворной для страны, если у власти люди, любящие свою страну и свой народ, но в том-то и дело, что таких людей во властных структурах совсем оказалось немного, и не они задают тон, как правило...
У Шаламова есть, несомненно, и правдивые произведения о Колыме и людях на её земле. Просто не могло не быть. Но, видимо, лучше будет, если об этом расскажет кто-нибудь другой...
12. Так я думал и писал лет десять тому назад.
Но вот я встречаю интересную работу Макса Гончарова «Человек Шаламов» и выписываю из неё интересные цитаты. Шаламов говорит: «Каждая минута лагерной жизни - отравленная минута. Там много того, что человек не должен знать, не должен видеть, а если видел - лучше ему умереть». Но всё зависит ещё и от того, - какими глазами это «видеть». Лагерный фельдшер Шаламов, наверное, видел не больше, чем любой фельдшер на фронте. Заключённый концлагеря вынес не меньше, чем любой лагерник из наших лагерей, но сколько же мы знаем обыкновенного душевного противостояния этой самой смерти от просто «видеть».
О поэте Жигулине или о поэте Борисе Ручьёве Шаламов бы тоже, наверно, сказал - «лакировщики действительности»! Ведь в самой популярной колымской песне, которую приписывают Борису Ручьёву, говорится: «...От качки стонало зэка, обнявшись как родные братья»... Главное здесь то, что ни сук, ни воров, ни «друзей народа», ни «врагов народа» тут нет! Все люди «братья» даже в заключении. А вот человек, тоже зэк, готовится достойно умереть: «Друзья накроют мой труп бушлатиком, /На холм высокий меня снесут, /И закопают землёй меня промерзшею, /А сами грустно запоют...»
Просто прелесть! Так бы и умер под песню друзей! Получается: смерти шаламовских героев - смертью этой песни поправ! И далее ещё душевней: «И ты стоять будешь у ног покойника. /Платком батистовым слезу утрёшь. /Не плачь, не плачь, моя милая, хорошая: /Ты друга в жизни еще найдешь».
Почти пушкинская позиция: «Как дай вам Бог любимой быть другим».
Никуда наш человеческий дух, стало быть, не делся со времён Пушкина до самых страшных нынешних времён. Возможно, Шаламову было тяжелей? Наверно. Но мог ведь поэт, если действительно поэт, хотя бы спроектировать нормального человека, если под рукой его не оказывалось. Это закон жизни (даже не литературы!). Божественный закон жизни с верой в Бога и в человека. А ему, как сыну священника, его почему-то всегда не хватало. Но мы, читатели, всё же попытаемся понять и его, резкого, не всегда справедливого, но стремящегося к справедливости писателя самых трагических картин бытия.
Потом Шаламов это сам всё поймёт. Но пока...
13. Шаламов, 1972 год: «Блатная инфекция охватывает общество, где моральная температура доведена до благоприятного режима, оптимального состояния. М (общество) будет охвачено мировым пожаром в 24 часа». (Цитата из работы Макса Гончарова). «Чем не пророк», - говорит Макс Гончаров. Да, в 24 часа может начаться мировой пожар, но не от блатной инфекции: она может быть только ползучей на многие годы. И она давно есть, и не блатная уже, а мафиозная инфекция, что даже Шаламов не предсказывал, не пророчествовал на неё. Ему ли знатоку «сучьей войны» было не предсказать именно её, мафиозную инфекцию. А мафиозно -фашисткая (как нынче на Украине), каковая проявляется всё чаще при свержении властей - она, действительно может разжечь мировой пожар - и в 24 часа, и даже в считанные минуты, завладев соответствующим оружием...
Далее: «...несмотря на разные действующие лица своих рассказов, все они: как будто на одно лицо, и это лицо трагичное». И ещё говорит Шаламов, что после Освенцима, Хиросимы, и Колымы (Серпантинной) - всё дидактическое в искусстве отвергается. Но вот пришло новое поколение писателей: Алексей Иванов, Алексей Шорохов, Захар Прилепин, Роман Сенчин... и много других ... Скажи им, что отменяется то, другое... Может, они и согласятся...
14. И, наконец, знаменитое письмо Шаламова в «Литературную газету» 15 февраля 1972 года. Поместив портрет живого писателя в чёрной рамке, который признался, что он является советским писателем, все советские писатели и советские журналисты этой газеты этим самым признались, что они сами не совсем уже и советские. 20 лет была ещё советская власть, а они уже «признались» в неверности ей. Это их дело! Но зачем сразу презирать советского Шаламова? Ведь он хорошо помнит, что Шолохов, даже получая Нобелевскую премию, не отказывался ни от чего советского. Ярослав Смеляков тоже ни от чего советского не отказывался за многие годы заключения. Наверно они и были примером для тогдашнего Шаламова. Макс Гончаров цитирует далее его дневник: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежит мне самому», «... для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет». С большим уважением, выходит, человек говорит уже о своём государстве после многих лет недоверия ему. В его эпоху «развитого социализма», который назывался у нас «застоем», когда доллар стоил 60 копеек от нашего рубля! А сейчас вот застоя никакого нет: то кризис, то второй, то третий!.. Значит, было, за что тогдашнее время Шаламову уважать. Но с панталыку его быстро сбили. Начали печатать без его ведома и согласия его рассказы в «Посеве» и в «Новом журнале», тем самым резко ограничили отечественные издания: никто не хотел печатать «предателя». Макс Гончаров цитирует Бориса Лесняка, хорошо знавшего Шаламова: «Суждения его стали категоричными, возражения раздражали, тон стал менторским, вещательским, пророческим. Резко менялось его отношение к людям, недавним его кумирам». «Я верю в одиночество как лучшее, оптимальное состояние человека». - Говорил Шаламов, крайне доведённый непониманием близко знакомых людей. Он искал общества официального хотя бы в Союзе писателей, но и там не был понят, несмотря на его заявления, протестующие против публикаций его за границей: «Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений». «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представить меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся».
«Снята», скорее всего, не «проблематика» «Колымских рассказов», а всё, что было в них ложного (он это прекрасно уже чувствует!). Это сняла сама жизнь, как считает уже «советский писатель» Шаламов! И снята для него надоевшая ему самому его же человеконизменная философия, надо понимать. В те старозэковские времена считалось среди диссидентов и множества простых заключенных делом доблести и геройства, если ты крупно оболжешь советскую власть, ибо она сама врала на каждом шагу. Писатели здесь преуспели больше всего. Получалось так: чем больше наврёшь на советскую власть, тем лучше, выходило, для правды!
И даже теперь, (т.е. в том 72году) некоторые из этих писателей посчитали, что «Письмо» Шаламова в «Литературную газету» обусловлено «признаком гражданской слабости» «перед лицом власти».
Ещё цитирую Гончарова от Солженицина: «...Потом вдруг - его тягостное отречение от «Колымских рассказов»... От дела всей своей жизни - так просто отрёкся... Меня это крепко задело. Кто? Шаламов??? Сдаёт наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма снята жизнью»?! И помещено-то в газете было почему-то в чёрной рамке, как если бы Шаламов умер» (Солженицын).
Никак не хотели понять люди, что не Колыма снята жизнью, а враньё о Колыме снято жизнью и литературой, как думал наверняка уже сам Шаламов. Всех бы устроило, если бы он продолжал оговаривать своих колымских героев, хотя бы тем, что Серпантинку он сравнивал с Хиросимой и Освенцимом. Но наверно и он не мог представить, что его сомнительная художественная правда о Колыме настолько заразительна, что и по сей день не снята, эта «ЕГО» правда жизни. И конца этому не видно.
15. ДРУЗЬЯ НАКРОЮТ МОЙ ТРУП БУШЛАТИКОМ
Об этом Шаламову пока только мечтать приходилось... «И всё - же, всё - же, всё - же...» - как сказал большой, большой русский поэт.
А предсказатели «чёрной рамки» ошиблись не на много (года на полтора), поскольку можно ли считать дальнейшей жизнью то состояние больного человека после 73 года - о чём речь впереди...
Лично для меня Шаламов только с этой чёрной рамки и начинается. Как будто он в ней, наоборот, оживает. И можно его перечитывать и по-настоящему уважать. И сразу останавливаюсь на рассказе «Полковник Фрагин», датированном 73-м годом, то есть уже после «чёрной рамки». В рассказе говорится, что Фрагин был генералом и проявил себя не только в боях на войне, но и борьбой с троцкизмом, несмотря на то, что был евреем, как и Троцкий. Но чем-то еврей Фрагин не понравился русскому маршалу Шапошникову, и он его понизил до полковника. И Фрагин вынужден был работать за северный паёк и северную зарплату, ибо семья...и прочее. Здесь на Колыме он, начальник КВЧ, впервые рассказал правду о войне, вносил собой какую-то культуру, спортивные соревнования вроде шахмат, и прочие необходимые вещи, и продолжил как бы борьбу с троцкизмом, но уже без разрешения начальства, тайно, но неуклонно. Узнав, что Шаламов «сидит» за троцкизм, он стал его тайно преследовать и всячески затруднять его жизнь. Но что меня сразу подкупило в этом рассказе: враг Шаламова заимел человеческое лицо, с человеческими слабостями и главное: с личной неприязнью к другому человеку! Не стало у Шаламова этих выродков -начальства, паразитов-алкоголиков надзирателей, которые были у него всегда, как типические герои в типических обстоятельствах. Так же, как герои зэка, про которых он тоже сказал: «...все на одно лицо», (соцреализм - наоборот), только из одних отрицательных персонажей. В этом же рассказе возобладал очеловеченный сюжет ЛИЧНОЙ неприязни. На чём, собственно, подвизалась всегда вся мировая литература в своих лучших образцах.
Сначала - личная неприязнь (иногда, наоборот,- любовь) и только потом все «идейные соображения». И, как в лучших образцах лучшей литературы, Шаламов, здесь - герой рассказа, заключённый, (затем вольный поселенец) стал преследуемый, обыкновенно через административную возможность вольного человека, наделённого властью.
С большим удовольствием описывает Шаламов человека-врага, врага уже не только от «системы», а от личной неприязни к нему, к троцкисту. Шаламов будто об этом давно мечтал, чтобы описать настоящего человека-врага: «...седовласый, с вьющимися кудрями подполковник, элегантный, с всегда чистым подворотничком, надушенный каким-то дешевым, но не тройным одеколоном, был гораздо симпатичнее, чем младший лейтенант Живков, предшественник Фрагина на посту начальника КВЧ».
И этот, слов нет, симпатичный человек зауважал героя Советкого Союза Андрусенко, как участника войны, как сослуживца... Не помешало и то, что Андрусенко судили за мародерство и грабежи... Культурный, образованный, талантливый Шаламов не заинтересовал полковника, если и заинтересовал, то всё равно, как враг, с троцкистским прошлым... Но постойте. Шаламов, насколько я помню, от троцкизма нигде, никогда и не думал отказываться. Но тогда - что такое троцкизм? Об этом мы все смутно осведомлёны. Но кто нам, собственно, теперь мешает быть осведомлёнными? Случись, допустим, перманентная революция на большинстве стран земного шара. Где установилась бы кабала догматических, лжесоциалистических режимов, как своего рода глобализм социалистического стереотипа идей со своей экономикой и культурой... и собирается долго жить... То не стал бы он лучше, что нам предсказывают СМИ о глобализме олигархическом, когда уже и речи никто не ведёт о каком-то даже капитализме, а когда два-три богатейших клана планеты где-то в своих верховных кругах будут бороться за единственное между собой верховенство... А внизу будет копошиться несчастное Человечество со всей своей музыкой, литературой, философским и техническим интеллектом... Будет ли это лучше?..
Уго Чавес, смелый, самоотверженный человек, гениальный патриот своего народа, говорят, не чурался троцкизма...
Портрет Троцкого нашли при обыске и аресте когда-то у Ярослава Смелякова, бывшего «комсомольского» поэта, который и после всех сидений и финского плена, не отказался от принципов подлинной (не ложной) советскости. И тоже имел недоброжелателей (чтоб не сказать врагов) из тех писательских кругов, что, по всей вероятности, и Шаламов. И тоже имел «чёрную рамку» в 1972 году, но уже посмертно...
Как видите, рассказ «Полковник Фрагин» может оказаться не таким и простым - ведь кто может запретить проектировать его даже таким образом, каким предложил я? Хотя никогда не уважал троцкизм. И не верил ему...
Но стал уважать Шаламова, как человека и как писателя, набравшегося мужества отречься от своего обмана, как некогда отказался Александр Зиновьев от своих «Зияющих высот». Это и сам Бог велел. Покаяний русская литература знает от Толстого до - Шаламова - множество. (Все каялись - и Есенин, и Пушкин, и Бунин, и Горький...). И не зря, наверное, Шаламову памятники стоят - и в Вологде, и на Колыме. И в других северных местах... стоят, как жестокому летописцу, чей опыт забывать нельзя. Но неплохо бы, конечно, и Анатолию Жигулину в Магадане поставить памятник, если его нет. Или хотя бы памятник его «Бурундуку».
БУРУНДУК
Раз под осень в глухой долине
Где шумит Колыма - река,
На склонённой к воде лесине
Мы поймали бурундука
По откосу скрепер проехал
И валёжник ковшом растряс,
И посыпались вниз орехи,
Те, что на зиму он запас.
А зверёк заметался бедный,
По коряжинам у реки.
Видно, думал: «Убьют, наверно,
Эти грубые мужики».
«Чем зимой-то будешь кормиться?
Ишь ты, рыжий какой шустряк!..» -
Кто-то взял зверька в рукавицу
И под вечер принёс в барак.
Тосковал он сперва немножко,
По родимой тайге тужил.
Мы прозвали зверька Тимошкой.
Так в бараке у нас и жил.
А нарядчик, чудак-детина,
Хохотал, увидав зверька:
«Надо номер ему на спину.
Он ведь тоже у нас зэка!..»
Каждый сытым давненько не был,
Но до самых тёплых деньков
Мы кормили Тимошку хлебом
Из казённых своих пайков.
А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк
Но если открыть книгу сборника стихов Шаламова «Колымские тетради»
на последней странице, то не надо долго думать, чтобы понять, о чём эта
последняя страница поэта. Не о том ли времени, когда он ходил живой под
чёрной рамкой.
Я падаю - канатоходец,
С небес сорвавшийся циркач,
Безвестный публике уродец,
Уже не сдерживая плач.
Но смерть на сцене - случай редкий,
Меня спасёт и оттолкнёт
Предохранительная сетка
Меридианов и широт.
И до земли не доставая
И твёрдо веря в чудеса,
Моя судьба ещё живая,
Взлетает снова в небеса
* * *
От солнца рукою глаза затеняя,
Седые поэты читают меня.
Ну что же - теперь отступать невозможно.
Я строки, как струны, настроил тревожно.
И тонут в лирическом грозном потоке,
И тянут на дно эти тёмные строки...
И, кажется, не было сердцу милей
Сожженных моих кораблей...
Ведь только так, наверное, он и мог спокойно, с достоинством от всех
страданий физических и душевных умереть. Но согласно данным...после
своей «посмертной» чёрной рамки в 1972 году Шаламов прожил ещё десять лет до 82 года, творчески почти ничего не создав, хотя какие-то «рабочие тетради» вел в Доме инвалидов, куда его поместили при осложнении всех его болезней, в основном, психоневрологических с 1973 года по 1979год, где помогала ему И.П. Сиротинская разобраться в своих рукописях и дальнейшей уже посмертной работой над ними до 2011 года, пока сама жила и работала. Она и писала: «Определённую роль в этом периоде сыграл тот шум, который подняла вокруг него с второй половины 1981г. группа
его доброжелателей. Были среди них, конечно, люди действительно добрые, были хлопотавшие из корысти, из страсти сенсаций». И надо ещё сказать, что в 1981 году состоялась последняя публикация Варлама Шаламова в Париже (стихи) и отделение Пен-клуба наградило его премией Свободы...
Но три года с 79 по 82 как-то невнятно прочитываются. То ли он находился в Доме инвалидов, когда его обследовала медицинская комиссия в 82 году, направив его в интернат психохроников, где он простудился и умер через два дня, то ли его туда направили раньше почти на три года?.. Этот конец я не мог вычитать... Но всё поставила на своё место статья, написанная после 20 лет тех событий, то есть в 2002-м году, статья Елены Захаровой-Хинкис, отец которой - Ханкис Виктор Александрович, переводчик, хороший знакомый Шаламова, статья «Последние дни Варлама Шаламова». В ней и говорится:
«И вот мы пришли в Дом инвалидов и престарелых №9. Надо сказать, что в то время я была студенткой 5 курса мединститута, подрабатывающая фельдшером «на скорой», кое что повидала и считала себя опытным человеком. Но то, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояли две койки, две тумбочки и стол. Грязь, запах. Два старика (у В.Т. в то время ещё был сосед) - один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не застеленной койкой, одет в какое-то тряпьё, измождённый, всё время дёргается, лицо ассиметричное. С ним отец поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в которой была зажата погнутая алюминевая кружка. Ни о разговоре, ни тем более о медицинском осмотре не могло быть и речи. Я выскочила на улицу, через несколько минут вышел отец.
- Ну что? - спросил он,- как ты думаешь, может мне похлопотать, чтобы его перевели в другое место?..
- Не знаю, по-моему, ему ничем помочь нельзя».
Но помогли и очень существенно. Взяли на себя чуть ли не весь уход за больным...обмывали его, переодевали, кормили...чуть ли не ежедневно.... И впоследствии, когда он уже, перевели его в интернат для психохроников, нашли его и там, где он умер через два дня...И Елена Захарова взяла на себя обман, что родственница (а то ведь захоронили чёрт знает где) и получила свидетельство о смерти. И далее пишут в автобиографии: «несмотря на то, что Шаламов всю жизнь был неверующим, Елена Захарова настояла на отпевании. Отпевал Варлама Шаламова протоиерей Александр Куликов, бывший впоследствии настоятелем храма св. Николая в Кленниках (Маросейка). Поминки по Варламу Тихоновичу организовал философ С.С. Хорунжий. Шаламов похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. На похоронах присутствовало 150 человек. А. Морозов и Ф. Сучков прочитали стихи Шаламова...
То есть истинные друзья и доброжелателя у него были и есть. Это, прежде всего, его друг Фёдор Сучков, бывший узник, сделавший Шаламову бронзовый памятник, которому не повезло впоследствии: голову с гранитного постамента отпилили неизвестные и унесли...но благодаря АО «Северсталь» памятник восстановлен.
В мировой литературе были три страдальца затяжной смерти, почти адского состояния - это смерть Николая Гоголя, которого залечили с пиявками на лице и ухитрились захоронить чуть ли не заживо, уснувшего летаргически... Когда произвели эксгумацию выяснилось, что на крышке гроба были следы отчаянного воздействия на неё «умершего»...
Эрнеста Хемингуэя сдала жена на многомесячное поругание больного человека в психиатрическую больницу...
Варлам Шаламов - и в жизни, и в смерти ни от кого не отстал, и никого не превзошел в муках своих... Каждому своё, как говорится.













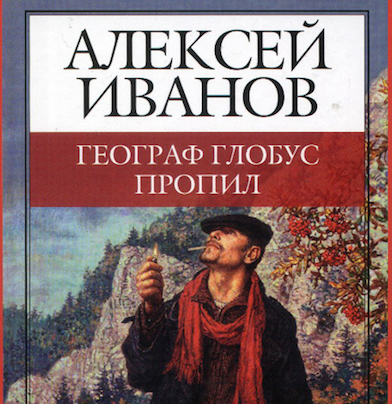

















6. Ответ на 3., Писарь:
5. Ответ на 1., Lucia:
4. Ответ на 2., СТАРИЦИН:
3. "На дне или холодное лето 55-го".
2. ответ неизвестному
1. Re: Большесрочник Варлам Шаламов