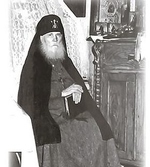Эпистолярное учительное наследие святителя Феофана издавна высоко ценилось самыми широкими кругами православных читателей в России - равно и пастырями, и монашествующими, и обычными мирянами.
 Всегда присутствующее в письмах Феофана предельно искреннее и живое слово, неизменно доброе и горячее отношение святителя к каждому, кто состоял с ним в переписке и жаждал его мудрых ответов о смысле и истинных путях христианской жизни, подлинно православная основательность всех его советов - четких и ясных, абсолютно чуждых какого-либо начетничества и псевдодуховного клерикализма - вот уже более столетия способствуют постоянному интересу православных россиян к этой части просветительских литературных трудов Вышенского затворника.
Всегда присутствующее в письмах Феофана предельно искреннее и живое слово, неизменно доброе и горячее отношение святителя к каждому, кто состоял с ним в переписке и жаждал его мудрых ответов о смысле и истинных путях христианской жизни, подлинно православная основательность всех его советов - четких и ясных, абсолютно чуждых какого-либо начетничества и псевдодуховного клерикализма - вот уже более столетия способствуют постоянному интересу православных россиян к этой части просветительских литературных трудов Вышенского затворника.
Владыка Феофан никогда не считал себя учителем-«старцем», но лишь другом-советчиком своих пасомых. Сам неизменно стремясь жить в свободе «о Духе Святе», он старался по возможности приучать к этому же и свою паству. Той же истинной - христианской! - свободой как основой подлинной любви к Богу проникнуты и все его богословские труды, посвященные столь драгоценной для него теме спасения человека. Недаром позднее протоиерей Георгий Флоровский, давая в одной из своих книг общую оценку богословскому наследию святителя, отметил в качестве важнейшей составляющей христианского миросозерцания и пастырской мысли Владыки именно его духовную широту: «В мировоззрении Феофана есть какая-то вселенская смелость, большая духовная свобода и гибкость, свобода от быта» (Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1939. С. 396).
По сути, ради этой свободы - даже от «церковного (точнее - «синодального») быта» - он и ушел «на покой» в Вышенскую обитель, где занялся самым главным делом своей жизни: духовным писательством и смиренным архипастырским учительством, в конце концов и стяжавшими ему не только любовь всей православной России, но и причисление к лику российских святых. Именно так Церковь оценила духовный итог мудрого писательского дара святителя Феофана, которым он до самой кончины стремился служить спасению ближнего, утверждая, что «лучшее употребление дара писать есть обращение его на вразумление и пробуждение грешников от усыпления» (Епископ Феофан. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Изд. 7-е. М., 1894. С. 27).
В свое время автором этих строк была обнаружена и идентифицирована (при разборке материалов фотоархива ныне уже покойного старого москвича Леонида Вениаминовича Никонова) фотокопия неизвестного письма Владыки Феофана (от 21 июля 1891 г.). Вскоре же текст письма был издан (см.: Диакон Георгий Малков. «Бога имея пред очами...» Неизвестное письмо святителя Феофана Затворника // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия «Богословие - философия». М. 2007. № 2(18). С. 127-137).
Среди тем, затронутых в письме (ответе на вопросы неизвестной корреспондентки из провинции), присутствует, в частности, и тема Льва Толстого.
Вот небольшой фрагмент письма, непосредственно касающийся антихристанских публицистических брошюр, издававшихся Л. Толстым, - с выражением предельно ясной отрицательной позиции Владыки Феофана ко всему его учению в целом как учению, безусловно, сатанинскому: «...Книжек, противных вере, не читайте, и речей таких не слушайте. Если случится что услышать, изгоняйте то из головы, и старайтесь восставить в силе святое учение веры, пока вычистится сознание и атмосфера душевная. Наш Граф Лев Толстой-сумасшедший много разбросал книжек богохульных, и сам лично непрестанно хулит всё святое... Это враг Божий и слуга диаволь. - Уж не пробрался ли он в Ваше захолустье?!! Индийские чудотворцы - фокусники, какие и у нас бывают. Спириты то же выделывают. Замысловатые штуки... Всё это вражьи проделки - на пагубу нам. Блюдитесь от сеятелей лжи пагубной!» (Диакон Георгий Малков. «Бога имея пред очами...»... С. 134-135).
К вопросу о реальном, по сути, антихристанстве Л. Толстого святитель Феофан вообще не раз возвращался в своих письмах. Тема эта весьма его волновала - в силу того духовного соблазна для русского общества, что вносили безграмотные (с точки зрения православной догматики и екклизиологии), но казавшиеся чрезвычайно «духовными» и чуть ли не профетическими как самому Толстому, так и его почитателям, псевдоевангельские самостные фантазии известного писателя. Так, в письме к протоиерею Н.Ф. от 1 июня 1885 г. святитель взволнованно обращался к нему: «Слыхали-ль вы про евангелие Льва Толстого?... Теперь слышу, что у него также тайком распространяются еще две статьи: критика догматов Церкви и - в чем моя вера...Тут... сокровища премудрости изрыгнуты... хулы на Церковь Божию, на св. Отцев и даже на Апостолов, кои все будто - суть исказители учения Христова... Сам же он не верит - ни в Святую Троицу, ни в Воплощенное домостроительство, ни в силу таинств... Сын Человеческий у него - то разум всечеловеческий, то сущность человечества. Есть ли Бог, - не видно...
Как будущей жизни нет у него, а люди продолжают жить только в потомстве, то вся забота у него - составить программу счастья на земле. Внемлите. Се пункты:
1) не противься злу: пусть бьют, режут, грабят; молчи и терпи;
2) суды не нужны;
3) ни полиции, ни жандармов, ни войска... Всё это насилователи свободы.
4) с женою не разводись, хоть она и неверна. Брака у него тоже - нет.
5) Война богопротивна - и войска не нужно...
Радуйтесь, российстии людие!
Зло потихоньку расходится. Уродливый план осчастливления не привьется, а все пункты неверия не останутся без последователей» (Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Выпуск I и II. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и издательства «Паломник», 1994. Вып. второй. С. 27-28).
В другом письме (без даты - но явно второй половины. 1880-х гг.) святитель замечает о Толстом: «Он очень не любит... догматов, ибо не любит Церкви. А почему Церковь ему не по сердцу, - не видно... Одно видно, что она против его учения. Но в этом не укор, а хвала. Ибо его ученье самое фантастическое... Мне представляется, что он близок к помешательству... Так у него все нелепо...» (Там же. С. 134).
В еще одном письме, опубликованном в 1895 году в Тамбовских Епархиальных Ведомостях, Вышенский затворник, отнюдь никогда не «затворявшийся» от российской религиозно-общественной жизни (одно время он даже собирался ответить в печати на антихристианские измышления Толстого), так характеризовал последнего: «У этого Льва никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос - простой человек. В его писаниях - хула на Бога, на Христа Господа, на Св. Церковь и ее таинства. Он разрушитель царства истины, враг Божий, слуга сатанин, как написал сам св. апостол Павел волхву Еллиму, противившемуся его проповеди на острове Кипре (Деян. 13, 8-10). Этот бесов сын дерзнул написать новое Евангелие, которое есть искажение Евангелия истинного. И за это он есть прóклятый апостольским проклятием. Апостол святый Павел написал: «кто новое Евангелие будет проповедывать да будет проклят, анафема (Гал 1: 8)....он (Толстой) есть подделыватель безчестнейший, лгун, обманщик...
Если дойдет до вас какая-либо из его бредней, с отвращением отвергайте... В наших духовных журналах он разобран до последних косточек, и всесторонне обличен в безумии и злоумии. Но журналы духовные кто читает?» (Там же. С. 42).
Особенно святителя интересовал характер и уровень толстовской критики церковных догматов, которая - после ознакомления Феофана с толстовскими писаниями - оказалась, по его мнению, всего лишь «страшной путаницей», следствием или «лукавства или же глупости» знаменитого писателя, взявшегося вовсе не за свое дело (см.: Там же. С. 136). И чуть подробнее по этому же поводу он замечает в другом письме, давая окончательную свою оценку околорелигиозным фантазиям Толстого: «Критику... мне прислали наконец. Она есть критика «Догматики преосв. Макария» и разбирает догматы, как их изображает этот Владыка. Но все же в виду имеется показать несостоятельность учения православной церкви. Из всех статей Толстаго эта самая ничтожная. Он бежит по Догматике, как вагоны по чугунке..., и заметки его самыя беглыя и неверныя от быстроты полета...
Вон начали его тузить, в «Православном Обозрении» и в журнале «Вера и Разум», и в Киевском Философском Трехмесячнике. Однакоже в наше время неверия и распущенности умственной и нравственной статьи его, при всей несостоятельности, могут иметь пагубныя последствия, особенно для учащейся молодежи» (Там же. С. 137-138).
Пагубные последствия явились вскоре и для самого Льва Николаевича... Отлучение от Церкви - что может быть страшнее для всякого «нормального» человека? Отлучение от Вечной Жизни во Христе?
Страшно впасть в руки Бога Живого - особенно тому, кто всю жизнь убеждал себя, что живет и творит «новую веру» во имя Божией Правды, творя, однако, ложь и эту же ложь унеся с собой и в могилу... Потому, верно, страшна и эта его могила - без креста и Христа: как будто в барском лесу любимая собачка похоронена...
Господи, по велицей милости Твоей, если возможно, просвети и прости Его мученицу-душу - хотя бы за гробом!