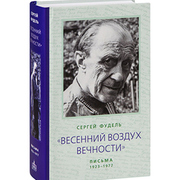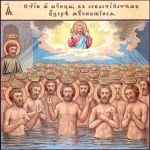Много ли среди нас остается сегодня людей, хорошо помнящих благодарственный молебен 9 мая 1945 года, совершенный во всех храмах Русской Православной Церкви? Автор книги воспоминаний «Мальчишка-москвич в годы войны» (издательство Саратовской митрополии, 2015) Федор Викторович Кондратьев, тогда 12-летний мальчик, был на этом молебне - вместе со своей мамой, в Ильинском храме, что в Обыденском переулке, недалеко от возрожденного Храма Христа Спасителя.
 «В
День Победы в храме, наверное, было больше военных, чем обычных
прихожан. Я не видел разве что генералов, но пришли полковники, майоры
и, конечно, масса рядовых и сержантов, все с орденами и медалями, а
многие с нашивками на груди, свидетельствующими о полученных на фронте
ранениях.
«В
День Победы в храме, наверное, было больше военных, чем обычных
прихожан. Я не видел разве что генералов, но пришли полковники, майоры
и, конечно, масса рядовых и сержантов, все с орденами и медалями, а
многие с нашивками на груди, свидетельствующими о полученных на фронте
ранениях.
После благодарственного молебна многие сразу пошли на Красную площадь...»
Федор Кондратьев - человек, весьма известный в психиатрии, профессор, доктор медицинских наук, врач-эксперт высшей квалификационной категории, заслуженный врач России, в течение тридцати лет - руководитель экспертного отделения Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Автор многих научных работ и экспертных заключений по самым резонансным уголовным делам. И при всем этом, вопреки советской действительности - с детских лет человек верующий. Родители мальчика Феди, врачи Виктор Алексеевич и Валентина Алексеевна, принадлежали к той части русской интеллигенции, которая с верой не рассталась, несмотря ни на что, и детям своим сумела передать ее начала. Почва оказалась плодородной: «В один прекрасный день, слушая богослужение, я, шестилетний, стоял у открытого окна и любовался на стрижей и ласточек, стремительно летающих в ярко-голубом небе. И вот, когда хор запел Херувимскую песнь, я вдруг почувствовал то, что иным словом как "благодать" ни тогда, ни в последующие годы жизни определить оказалось невозможным...» - это тоже из детства, из книги «Мальчишка-москвич в годы войны».
Конечно, книга посвящена не только Церкви. По сути, это - хроника взросления; мальчик, которого война застала восьмилетним, проживает иной день за год и меняется от главы к главе. Вот он только-только узнал о начавшейся войне и, совершенно не осознавая ужаса происходящего, готов едва ли не кричать «ура». Многим ведь тогда казалось, что наша Красная армия уничтожит этих фашистов за какие-нибудь две недели. Но вот - первая беда (бомбой уничтожен дом Фединой тети и крестной), первые похоронки в соседских семьях, первые признаки голода... Война входит в жизнь, ее лицо все ближе, все страшнее. Вместе с Федором Викторовичем мы возвращаемся в самый страшный день московской осени 41‑го: «Мрачный день с мокрым, липким снегом. Булочная была закрыта, и мне не надо было стоять в длинной очереди. Я пошел во двор: никого из ребят - ни старше, ни младше - нет. Стал катать снежную бабу и вдруг заметил, что падающий снег - серый, и вместе со снежинками с неба сыпет пепел. Что это такое - спросить не у кого, двор пустой (...) Магазины оказались закрытыми, но откуда-то из задних дверей магазинов выходили люди с мешками на плечах. Тоже странно. А воздух на Кировской (ныне Мясницкой) улице становился все более серым. Кто-то сказал: жгут документы. Иногда проезжали троллейбусы в сторону вокзальной площади, и они были настолько переполнены - люди висели даже на задних бамперах, - что было трудно понять, как троллейбус еще тянет. И ни одного милиционера, ни одного военного. И это как-то странно.
Я пошел на Комсомольскую площадь, к трем вокзалам. У Казанского вокзала огромная толпа, валяются какие-то свертки, чемоданы, ковры, закрученные в рулоны, все это на растоптанном сером снегу, и вещи никто не подбирает. Народ какой-то, как мне показалось, ошалелый: кто рыдает, кто кричит, а кто и дерется, и здесь ни одного милиционера. Из каких-то слов окружающих я понял, что немцы прорвали фронт, Москва беззащитна, власти в городе нет, надо бежать...».
Ошеломленный мальчик спешит домой, рассказывает о происходящем бабушке - и видит разительный контраст ее реакции с реакциями впавших в панику людей: «Да, Федюша, это война, но ты не бойся - Бог нас сохранит».
Война - суровая школа, но самые важные уроки в ней - уроки веры, мудрости, любви к людям, жертвенной готовности помочь ближнему - ближнему в евангельском смысле, то есть хотя бы даже и незнакомому - быстро взрослеющий Федя получает именно от своих родных: мамы, Валентины Алексеевны (ее памяти посвящена книга), отца, бабушки, крестной (тети Шуры), двоюродного брата, будущего писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Взрослые, окружающие Федю, не боятся горькой правды, не питают иллюзий, они предпочитают видеть всё как есть. Приехавший с фронта в отпуск 22-летний Вячеслав откровенно рассказывает о том, «что у них на передовой была на взвод одна винтовка и одна буханка хлеба, а командиры были просто неграмотными в военном деле, поскольку грамотных перед войной расстреляли». Любознательный и чуткий Федя рано понимает, что страна, в которой он живет, - вовсе не оплот справедливости и гуманизма, что в ней многое не так, как надо. Но это не мешает ему любить Родину. Тема любви к ней входит в текст воспоминаний тихо, исподволь, без малейшего пафоса. Для людей, окружающих мальчика, любовь к сражающейся России - действительно не пафос, а нечто само собой разумеющееся, то, о чем и говорить-то не нужно. Это неотъемлемая часть их культуры, и они умеют отделять Родину от власти.
Смерть стучится во все двери. Федя узнает о гибели Лизы, подруги его предвоенного детства, девочки, в которую он был немножко влюблен. Через дачную станцию Крюково, на которой жила со своими родными эта девочка, несколько раз перекатывался фронт, люди прятались в самодельных укрытиях-щелях, и вот, Лиза просто неосторожно высунулась из щели...
Фронтовые друзья старшего Фединого брата Володи, приезжавшие в Москву на побывку вместе с ним - молодые, красивые, щеголеватые, полные естественной радости жизни и жажды жить, - гибнут вскоре после возвращения на фронт, и с этим невозможно смириться...
Да и тыловая жизнь становится все сложнее. Но мальчик Федя отнюдь не держится за мамину юбку: его отличают самостоятельность, любознательность, активность, а когда нужно - недетская решимость в борьбе с несправедливостью. Его отец служит в ПВО Москвы, старший брат, которому в 41‑м исполнилось только семнадцать, как уже сказано, на фронте; Федя - единственный мужчина в доме, и он осознает свою ответственность за маму и бабушку. Оглядываясь на свое детство через много-много лет, в послесловии к своей книге он напишет: «Все пережитое в годы войны, что сейчас вновь предстало передо мной, заставляет меня как-то по-иному посмотреть на своих ровесников по тому времени: 8-12-летних мальчишек. Мы, взрослые, недооцениваем их инициативу, возможности, самостоятельность в действиях и в суждениях, способность извлекать уроки из жизни.
Я очень благодарен за эти военные уроки судьбе и, конечно, своим родителям, научившим меня видеть, слышать, чувствовать и понимать.
Оглядываясь на уроки жизни, полученные мальчишкой-москвичом в годы войны, я осознаю, что они создали тот фундамент моей личности, на котором сформировалось чувство долга - долга заботиться не только о собственной, родной маме, но и обо всем, что включает в себя понятие Родинамать».
Язык воспоминаний Федора Кондратьева очень прост, начисто лишен претензий на литературные красоты. У автора нет цели кому-то что-то доказать, кого-то к чему-то призвать или произвести на кого-то особое впечатление. Автор просто рассказывает нам всё, как было, он говорит правду - горькую и прекрасную. Мне представляется, что сейчас настало или должно настать время именно таких книг: простых, прямых, ясных, честных. Книг-свидетельств, а не книг-манифестов.
Если разобраться, Федору Викторовичу и сегодня не легче, чем в сорок первом. Возраст, инвалидность, вдовство - все это тяжкий крест; но 82-летний доктор решительно утверждает, что он счастлив. Он по-прежнему нужен людям, он много работает, борясь теперь уже не только за здоровье пациентов, но и за нравственное здоровье общества: большинство его последних работ посвящено разоблачению сектантских культов. А главное - он знает: старостью и смертью жизнь отнюдь не кончается, напротив.
«Господи! Какое счастье быть в постоянном со-бытии с Тобой! Не прошу Тебя ни о чем, только не лиши меня этого счастья - без Тебя я буду одинок, и я страшусь этого!
Господи! Ты дал мне долголетие и возможность идти по жизни согласно указаниям Твоим - и жизнь моя была счастливой. Мне не нужна новая, вечная жизнь здесь, на земле, я хочу в Твой горний мир. Прими меня, Господи!».
Это уже не из воспоминаний, нет, это из молитвы, которую русский врач Федор Кондратьев - мальчик военной поры - выстрадал, взрастил в своем сердце и прислал нам с просьбой - сделать так, чтоб она служила и другим людям тоже. И мы решили завершить этой молитвой книгу «Мальчишка-москвич в годы войны».
Газета «Православная вера» № 9 (533)
Марина Бирюковаhttp://www.eparhia-saratov.ru/Articles/da-ehto-vojjna-no-ty-ne-bojjsya