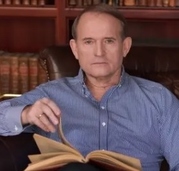Нынешний год - пушкинский. В
2014-м мы отмечаем две «околокруглые» даты - 215 лет со дня его рождения
и 190 лет со дня отъезда из Одессы в Михайловское...
Нынешний год - пушкинский. В
2014-м мы отмечаем две «околокруглые» даты - 215 лет со дня его рождения
и 190 лет со дня отъезда из Одессы в Михайловское...
Михайловское - особое пространство в космосе русской цивилизации. Хорошо
бы время от времени каждому русскому в нём проживать хотя бы один день.
Пятнадцать лет назад мне довелось побывать в Святогорье на праздновании
200-летия Пушкина. Воспоминание о поездке радуют сердце. Вернувшись
домой, я на яркой свежей эмоции написал очерк, который назвал «Русский
рай». Это о том дне, в который можно возвращаться, в который можно
проникнуть. Быть может, эти записки окажутся кому-то интересными и
нужными...
10 февраля 2014 года - 177 годовщина ухода А.С. Пушкина в вечность. В
Михайловском крест над его прахом. Когда-нибудь в миг Второго пришествия
он там воскреснет.
Олег Слепынин
День Пушкина. Святогорье
1. УТРО
- Вставайте, мальчики, вставайте!.. Уже девять!! - голос пролетал снизу
через чердачный люк. Это проснулась и забеспокоилась бывшая жена
Николая, моего приятеля, благодаря которому я и попал в Пушкинские Горы.
.
Николай провернулся в своей раскладушке со спины на бок, открыл и смежил
очи и подтянул одеяло к виску. Очевидно, я последовал его примеру,
потому что через полчаса хрипловатый голос Лены, взлетев к нам на
чердак, вновь оказался неожиданным.
.
- Ну что же вы!.. Я уже и к монастырю сбегала. Там не пускают, оцепление... Говорят, всё перекроют, чуть ли не Ельцин приедет.
.
«Здравствуйте!» - сказал я себе слово-паразит и проснулся.
.
Дело в том, что для меня было бы немыслимым не прийти на литию (что ж
тогда и приезжать-то было!) Именно поэтому вчера, в день приезда, я и в
монастырь не стал всуе подниматься, узнал: лития на могиле раба Божьего
Александра - в одиннадцать ноль-ноль. Вот и зарифмовалось:
06.06.1999.11.00. А то единица тысячелетия в этой сложной схеме
смотрелась как-то сиротливо.
- Встаём, - не сразу ответил я.
- Как хотите! - Лена не расслышала, а может, какое-то неведомое мне
соображение заставило её произнести эти слова. Дверь внизу на веранде
стукнула. И калитка взвизгнула... Ушла.
Николай перевернулся с бока на живот и натянул, выкинув из-под шеи руку, одеяло на затылок.
Я медленно выделился из раскладушки (с неё резво не вскочишь) и
посмотрел на свои кроссовки, посмотрел как на пыточное орудие: за
вчерашний долгий день они таковыми выявили себя вполне. Кроссовки и
теперь, с жадностью выставив белёсые дёсны, ждали услады.
Этот дом в Пушкинских Горах вместе с хозяйкою Клавдией Васильевной
достался Николаю и Лене неделимым наследством от их молодости.
Клавдия Васильевна, старушка чрезвычайно добрая, определила нас на
чердак. Про оплату она речь заводить не стала, лишь тактично
пожаловалась: «Пенсию задерживают всё и задерживают». Когда ещё в поезде
«Луга-Псков», в поезде разболтанном и грязном, словно б из-под
блокадной бомбёжки, Николай сказал, что спать придётся на чердаке, я
вслух подумал: «Может, в монастырь попросимся?»
Но вот лишь только просунул я голову в люк и увидел золотистое огромное
пространство чердака, куда солнце, казалось, втекало прямо через оба
окна - с противоположных (чего и не бывает) сторон, увидел беленько
застеленные раскладушки и почувствовал, как вкусно пахнет сеном, то ясно
стало, о лучшем обиталище и мечтать не стоит.
Средь этого сладостного запаха сена я и проснулся.
С Николаем Чернецким я познакомился в славном украинском городе Ч., куда
его занесли очень личные жизненные обстоятельства. В молодёжной газете
мне привелось заниматься анонимным поэтическим конкурсом. Николай
активнейше поучаствовал, поражая жюри нечеркасскостью поэтических
изысков и нарядностью псевдонимов. «Николай Нидвораев» - один из них. И
действительно, как открылось, у него ни кола, ни двора, но осколки семей
в Питере и ещё где-то.
Горазд он оказался урифмовывать происходящее. Сценки и ситуации,
приправленные добродушной иронией, ловко помещались им в стихотворные
столбцы. И лирика его бытийно-пейзажная на литературолюбивых моих
приятелей произвела приятное впечатление. А ещё он чудил: ел грибы
древесные, совершенно подозрительные, босиком хаживал, не пил (вообще),
ну и н курил. И ежегодно приезжал в Пушкинские Горы.
Несколько раз он говаривал, видимо, вкладывая в это какой-то смысл, что здесь он обычно всегда ходит босиком.
«Что ж, - теперь подумал я, - совпали наши интересы.» И я без глубоких угрызений вставил стопы в его шлёпанцы.
2. МОНАСТЫРЬ
Действительно, у Анастасьевских монастырских ворот, на которые я вышел,
стоял крепкий худощавый парень, десантура, серьёзно экипированный.
«Ладно, - решил я безсуетно, - не стоит печалиться: излишняя печаль
ведёт к чрезмерному знанию!» А я и так знал, что в 11-00 буду в
монастыре. Отчего-то во мне объявилась такая уверенность. Уверенность,
конечно, могла и не оправдаться. Но это уже не имело значения:
настроение стало радужно-приподнятым.
Вдоль монастырской стены я двинулся к главному входу, к Святым воротам.
Прямо под Успенским собором, под массивной белой стеной приткнулась
машина телевизионщиков; провода, сплетясь на тротуаре, уходили вверх. У
телевизионщиков - у каждого - на лацкане розовела аккредитационная
карточка: «Пресса».
Около главных ворот царило оживление - омоновцы, армейские, в штатском,
кого-то пропустили, кого-то развернули. Я достал удостоверение члена СП
России. Армейский с энтузиазмом ухватился за красную книжицу...
Несколько дней назад, в Петербурге, я как-то уже пробовал ею воспользоваться.
Николай вергилил, водил Петербургом, впрочем, безо всякой системы, без
всякой нумерации кругов. Случайно прикоснулись мы и к безднам города, и в
выси заглянули. Денег, если помягче выразиться, у нас было мало. А цены
на всех бирках в округе вели себя двояко. С одной стороны они скромно
изображали из себя арифметические величины, а с другой - подмигивали,
корчили рожи и показывали язык.
При ничтожности наших капиталов время мы посвящали достойнейшему: беседам.
Тема одной из бесед была такова: «Прилично ли человеку хаживать по мемориальным усадьбам (квартирам)?»
Один из нас пытался сформулировать ту мысль, что без приглашения хозяина
расхаживать по его квартире (или усадьбе) как-то и неловко.
- Себя поставь на место Пушкина, - попросту предложил я Николаю. - Вот
придут к тебе в дом без твоего ведома и начнут в каждую щель нос совать...
- Да... - протянул он. И я понял, что он не против такой перспективы. -
Только вот дома нет, - развёл он руками. - А они всё-таки приглашают нас
в свои квартиры своим творчеством!
Вот тут у нас на бесцельном пути оказалась квартира любимого нами Ф.М. Достоевского.
- Так что, приглашал своим творчеством?
- Сейчас узнаем.
Спустились в вестибюль; приткнулись к кассе; приценились. Н-да, в планы не входило.
- А по удостоверению Союза писателей - правда нас двое, а оно одно - пустите?
Кассирша, женщина интеллигентная, страдающая, кажется, от язвы,
сообщила, болезненно морщась, что бесплатно они пускают лишь работников
культуры.
Неприятно задетые, но и в несколько приподнятом настроении, мы покинули
таинственный музей, удостоверившись в очередной раз, что отсутствие
денег иногда даёт гораздо больше, чем их наличие.
У монастырских ворот моё удостоверение изучили быстро. Объяснять ничего
не стали, лишь проговорили: «Нет, нет, нет», отстраняя от калитки.
Тут в толпе возник величественный Валерий Ганичев во главе «официальной
писательской делегации». Он, в отличие от вчерашнего, как-то холодно со
мною поздоровался. И мне пришло в голову, что он никак не хочет, чтобы
кто-то посторонний, например я, стал напрашиваться к нему под крыло.
Сказать правду, мысль подобная (что увидев меня, махнёт рукой, мол,
вперёд!) да, мысль такая во мне жила, но жила она лишь какие-то
ничтожные секунды, после чего к своему позору и сдохла. Писатели прошли.
Кажется, не все верили своему счастью, что их восприняли всерьёз и
пропустили.
«Даже интересно, - сказал я себе, - как же это мне-то удастся пройти?»
Народа у входа в монастырь скапливалось всё больше и больше. Густело и
военных. И я решил вернуться к дальним, Анастасьевским воротам. В
кармане у меня имелось ещё и корреспондентское удостоверение украинской
газеты «Молодь Ч.» Удостоверение это (Посвiдчення) я как-то постирал
вместе с рубашкой. Мыльная вода прошла, нашла лазейку, под пластик.
Пришлось пластик разрезать, высушивать-проветривать...
В результате картонка сгорбилась, печать обморочно побледнела, а подпись
редактора... Думаю, что лучше «Лотоса» - порошка ещё не придумали: сквозь
пластик выводит чернила. Видок у документины был ещё тот! Такие
удостоверения, пробитые пулями, хранятся в школьных музеях... Но зато на
обратной стороне белой картонки как было ярким золотом напечатано на
разных языках (и даже на русском) «ПРЕССА», так и осталось первозданно.
Часовой повертел «Посвiдчення N 16″, потряс головой и совершенно
серьёзно кивнул: «Проходите». Впереди на тенистых монастырских дорожках
маячили новые посты. «Похоже, - соображал я, - они здесь для того, чтобы
лечь костьми на пути террористов, если те влетят на машине через
ворота.» «Кто это?» - услышал я относящееся ко мне. «Пресса», - очевидно
ответили любопытному. Я шёл делово, помахивая фотоаппаратом. И вот уже
ступеньки - взлетел, храм, лица огнями свечей вышиты... Панихида служится о
рабе Божьем Александре, сумрак, ладан, теснота, хорошо-то как!..
Приложившись ко кресту, обошёл собор; за алтарём гробница: «Александр
Сергеевич Пушкин». На меня смотрела Людмила Мирошниченко, женщина
красивая и восторженная, с красными цветами и в обширной шляпе. «А я без
цветов, - сказал я.» - «Давайте мы вдвоём мои положим», - сразу
предложила она.
Наши цветы мгновенно растворились в цветочном холме. «Меня прямо
распирает от радости! - говорила Людмила. - Дожили! Праздник... Я вам
сейчас стихи почитаю...»
Это по-русски - и цветы не думая отдать и стихи на ухо случайному
человеку читать... За эти дни, верно, она десятку людей так стихи читала.
Поговорили, познакомились.
- О Украина, - она сочувственно покивала головой, поправляя одновременно
и шляпу и очки. На лице её была искренняя боль. - У меня такая же
ситуация, я в Коми одна...
С нею можно проговорить и сутки напролёт. А можно б на этом и
расстаться: всё родство высветилось в мгновенном понимании друг друга.
Так, наверное, вояки разных фронтов, сойдясь на панихиде... Именно так: я
временами ощущаю себя ратником Поля Куликова, как, верно, и многие
здесь.
«Молитесь, родные, по белым церквам.
Всё навье проснулось и бьёт по глазам.»*
Ангела Хранителя Вам, Людмила!..
Вот появилось священство. Впереди владыка Евсевий, архиепископ Псковский
и Великолукский; празднично, в золоте. День воскресный, день рождения
Пушкина... Мы посторонились, пропуская священство и хор... И тут вот что-то
произошло. С противоположной, левой стороны могилы возникло какое-то
вращение, там образовались опрятно одетые молодые люди, в их среде в
свою очередь возникло завихрение и из него возник первый министр С.
Степашин. Значит, одиннадцать ноль-ноль, предположил я. Нас с Людмилой
оттеснили. Инопланетные головы телевизионных камер с любопытством стали
внюхиваться в происходящее.
Тут же возникли известные лица. Депутат-жириновец А. Митрофанов, псковский губернатор Е. Михайлов, артист М.Казаков...
Речь о Пушкине завёл культуролог Панченко, в записной книжке о нём
осталось: «левак»**. Пока он говорил, я присматривался к лицам.
Бесспорно, из всех выделялся Михаил Казаков. На нём была какая-то
невиданная - яркая и асимметричная, как бы лоскутная, кофта (или
рубаха?). Когда началась лития, вид артиста стал выражать: ну и скука!
На толпу, находясь чуть в отдалении за свитой министра, он то одним
глазом поглядывал, высоко вскидывая острый нос, то другим. Он был
независим и раскован... До такой степени, что случись мне быть живописцем,
я б непременно изобразил его в образе «как нога на ногу». То есть
именно в этих двух ногах и был бы весь портрет, ничего более, вальяжно,
надменно, чопорно, гордо.
Артист - это художественно.
Вчера в Пушкинском научно-культурном центре (НКЦ - как все здесь
называют) Казаков читал... Вот что интересно, так ведь ему удумалось
составить и вычитать программу, что Пушкин вышел надменноглазым
русофобом... Но другие читали со сцены - получалось как раз наоборот.
Этакая битва внутри Пушкина... Но за «Осень» артист сорвал вполне
заслуженный аплодисмент, там сквозь манерность чтения живое и огненное
из строк брызнуло, как от прорыва циркулярки-солнца...
Охранники напряжённо посверкивали по сторонам, готовые прикрывать, стрелять, крушить...
Когда примечаешь такую настороженность, такую серьёзную охрану средь
мирного праздного люда, прямо вдруг протестно и подумаешь: вот задайся
кто целью - и стоял бы на моём месте человек, у которого б на запястье
не фотоаппарат «Praktica» болтался, а граната РГ-42...
Вот же мысли лезут, вот же грех какой! И это при том, что к
С.Степашину-то и неприязни нет. Точно отмечено, не лучшие чувства и
мысли рождаются в магическом поле власти. Похожая мысль, помнится,
возникла, когда попал я на 400-летие Богдана Хмельницкого под Чигирин, в
Субботов. Я стоял чуть на возвышении. Кучму водили по огромной осенней
площади буквально как диковинного зверя, многосотенная толпа, словно
жгуты чёрных волос, бурлила за ним, огибая его, кто-то бежал, кто-то
подпрыгивал...
Кучма к тому моменту уже надул всех, кто за него голосовал: он издал
свой первый указ. Но тот указ не был, как обещалось, указом «О придании
русскому языку статуса официального». Президент-кидала приблизился.
Взгляды наши встретились. В глазах его застыл звериный ужас существа,
выведенного из уютного зоосада. В руке у меня бессмысленно подрагивал
прут...
Лития и митинг закончились. Спускаясь по лестнице, я нагнал Владимира
Бондаренко, представился. Он сказал, что помнит, знает, чем тихо меня и
порадовал, а в довершение предложил прислать что-нибудь в «День
литературы» и охотно согласился сфотографироваться у колодца...
Объяснимо ли желание сфотографироваться ощущением праздника, когда ясно чувствуешь, что все любят всех?
За Святыми воротами меня поджидали Николай и Лена.
- Я проспал, - признался Николай. - Пришёл - не пустили.
Он был в своих кроссовках...
- Поднимусь к Пушкину, - Лена развернулась и вошла как вкатилась в
сумрак ворот. Она была полновата и полноту её нисколько не скрадывал
трикотажный физкультурный костюмец с линялыми белёсыми разводами, словно
б костюмцем этим вытирали остатки мела с доски.
- Сейчас в Михайловское пойдём, на поляну, - Николай заглядывал в ворота.
- Мне бы домой зайти, альманахи взять...
Мысль была: для укрепления наших финансовых возможностей, попробовать заняться распродажей «Новых страниц».
Этот альманах мы издали в Черкассах год назад, в девяносто восьмом; на
снежной обложке Николай Гоголь работы Юрия Селиверстова. Думали, что в
девяносто девятом, нынешнем, сделаем второй выпуск, на обложке которого
будет селивёрстовский Пушкин.
Гоголь на первом выпуске был аргументом в дискуссии.
- Зайдём, возьмём, - Николай умчался вслед за Леной.
___________________________________________
* Из стихотворения Юрия Кузнецова «Поединок».
** левак - в наше время, очевидно, совсем не то же, что «левый».
___________________________________________
3. ДОРОГА В МИХАЙЛОВСКОЕ
От турбазы через лес вышли мы к опушке, где вчера средь деревьев стояли
какие-то зелёные военные машины. Со смущенным косноязычием Николай вчера
предупредил: с этого места... вот сейчас за деревьями... отсюда вид...
Подразумевалось: за соснами вид красивый. Сказал, слово молвил... В
привычной жизни за каждым словом иногда чудится глубина толщиной в
роман.
Но слова, описывающие чувства, часто кажутся не толще плёнки мыльного пузыря.
Николай хоть и слово молвил, но и не сильно впечатление смазал.
Занавес сосен ушёл, дали многоцветные открылись; я словно б вдруг
взлетел, в несущемся дельтаплане оказался! Тут равно близки и небо и
земля... Небо, почти мраморно вымощенное облаками, проходило прямо над
головой, стелилось над зелёными линиями оврагов и холмов, над тенями и
солнечными пятнами - к ленточке чёрно-синего леса. Там, где-то над
Михайловским, смыкается небо с землёй...
Я восхитился: небо, как на родине моей, на Колыме! Николай потом урифмовал в эпиграммку этот возглас...*
__________________________________________
* Для отчётливости портрета Николая, нужно, наверное, озвучить её:
«Населяя степи Украины,
Романтичен геть не по годам,
С грустью поэтической Слепынин
Вспоминал родимый Магадан.
И приехав в Пушкинские Горы,
Восхищая гибкостью ума,
Восторгался: - Дивные просторы!
Чудный вид! Ну просто - Колыма!»
Но это будет позже. Я замечу ему, что рифма на фамилию нехороша. Он отзовётся почти сразу:
«Срифмовал: «Украина - Слепынин»...
Рифма слабая, что говорить.
Он с декабрьской рифмуется стынью -
Да препятствует южная прыть.
С ним легко рифмовался бы «спиннинг»,
И адепт православных идей
Назывался тогда бы «Слепынинг» -
Но тогда бы он был иудей...
Вот зовись он хотя бы «Слепыний» -
Мудр и благостен не по летам,
Был созвучен бы гордой латыни,
Как Светоний какой-нибудь там.»
Эпиграммы эти явятся, когда нынешний день светозарный закутается в другие дни, словно в шубу, светясь сквозь...
________________________________________
Облака, само русское небо - как ладонь над глазами странника...
Сегодня весь этот гигантский объём далей был заполнен солнцем. Каждая
травинка земли, всякая точка в воздухе содержали его целиком, круглое,
ясное.
По посёлку и лесу мы шли таким порядком: Лена впереди, следом за ней
Чернецкий, а я - шлейфом. Двигались мы с нарастающей скоростью, я
отставал. Николай циркулировал между мной и Леной.
- Тут надо быстро ходить, - учил меня Николай.
- Для чего? - отвечал я, имитируя прибавление шага.
- Чтобы всё успеть, нужно либо надолго сюда приезжать, либо быстро ходить.
В шлёпанцах мне было легко идти. Но спешить никуда не хотелось.
- А куда нужно успеть, куда опаздываем? - Я не мог понять, о чём речь.
- В Михайловское, Савкино, - стал терпеливо объяснять Николай, - в
Тригорское, Петровское, повидать художника одного, других знакомых...
- Я не заблужусь, - заверил я его. - Идите.
И они - умчались.
Солнечное небо накрыло всё зримое куполом тишины. Под ногами мягко
развернулась желтоватая дорога и убежала вдаль меж полей. Всюду - и
дальше и ближе ко мне - появились люди, идущие в сторону Михайловского.
Несколько человек меня тут же и обогнали. Но и я шёл, как оказалось, не
тише всех. Нечаянно я нагнал молодого человека богатырского роста. Он
катил за собой в нарядной коляске младенца. Обгонять мне никого не
хотелось. Ребёнок спал, солнце золотым жарким платком накрывало его
лицо.
- Ему солнце прямо в лицо, - проговорил я. - Может, развернуть коляску?
- Что вы! - простосердечно улыбнулся молодой человек. - Он любит солнце, привык так спать.
Разговор наш завязался совершенно естественно. Я не мог промолчать: у
меня младшее дитя подобного же возраста. А он не мог без улыбки
ответить: характер такой.
Он тут же рассказал, что родом из соседней деревни. Вырос в
Пушкиногорье, во Пскове закончил строительный факультет и теперь
работает в соседнем районе прорабом. Работает у частника, платят. В
Пушкинские Горы он приезжает к родителям на выходные. Сейчас за
завтраком увидел по телевизору Степашина и решил прогуляться в
Михайловское.
- Мы уже вчера тут шли утром... - Переключился вдруг он на иное. - А здесь
- вот интересно! - Он показал через золото одуванчиков на поле, на холм
слева. - Воздушные шары. Все разные, цветные...
- Разные? - Я с усилием заставил себя поинтересоваться подробностями
(говорить не хотелось, здесь и просто дышать - счастьем было). - Ну,
например?
- Одна - в форме, - он чуть смутился, - бутылки водки.
- Реклама, - догадался я. - А какой водки?
Он ответил. И я зримо увидел этот, ныне пустынный, желтовато-зеленый
холм с деревцами с левой стороны, заставленный монгольфьерами диковинных
фасонов и расцветок.
- А вон там, - он показал - коровы паслись...
На взгорке, у края деревеньки Бугрово теперь пасся большой пепельный конь, обмахивался хвостом.
- Какие?
- Обычные, коричнево-белые, пятна такие... Когда шары стали взлетать.. У
них двигатели, форсунки... Такой рёв! Думал, коровы разбегутся. А они -
только морды к шарам повернули. Первый шар над ними полетел, туда, в
сторону Кириллово, они развернулись - и за ним... Прямо как табун лошадей -
галопом...
На этом же месте вчера Чернецкий рассказывал мне о своём давнем
путешествии в Крым. Он был с приятелем и двигались они как придётся -
где автостопом, где пешком. Однажды ночью (дело зимой было) они
забрались в случайный поезд. Приткнулись в пустое купе. Приятель лёг на
нижнюю полку, тюками белья обложился. А Николай залез в багажную полость
над входом и там упаковался в свой спальный мешок. Проводница их
обнаружила утром. Точнее, не обоих, только приятеля. Как водится, шум
подняла. Заглянула в багажный отсек: «А это ещё что за барахло?!»
Ухватилась за угол спальника - и на себя. Николай был закрыт на молнию
изнутри и понял, что зацепиться не успеет, рухнет вниз головой. Капюшон с
лица его поехал, и он надумал изобразить мертвеца, приоткрыл рот,
вытаращил глаза... - Вопль был, - рассказывал Николай, - что называется -
Маргарита свиста не услышала. Крик был за пределами восприятия...
И всё это и многое иное проходило через меня к Михайловскому сельцу. И сгорало многое тут же.
Всё стремилось к Михайловскому, зримыми пунктирами были движущиеся люди...
Каждый, как оправдание своей жизни, нёс своё. Попутчик мой вёз в
колясочке сына, я помахивал пакетом с «Новыми страницами», в которых
жила моя повесть «Русь-Колыма»...
Мы распрощались в Михайловской роще на многолюдной аллее под высоченными соснами, пожали крепко друг другу руки.
- Счастливо! - проговорил я, вбирая в себя его крупное светлое лицо. Отпуская руку, спросил его имя. Он ответил.
Имя его, к теперешней моей досаде, по поговорке, влетев в одно ухо, вылетело в другое и растаяло в многоголосье леса.
Младенец, разметавшись в коляске, спал.
- Счастливо.
А я и был абсолютно счастлив.
Не знаю, как бы выразить это ощущение спокойного солнечного счастья и
пронизывающей всё благодати... Так бывает в храме после Литургии, когда
присутствие Духа Святого с тонкой радостью ощущается въяве. Здесь нет
зла и все открыты друг другу, здесь нет нелюбви и смерти. Здесь как бы и
времени нет. Потому что время - это род огня, незримого,
очистительного, божественного. Здесь всё очищено, этот день - Русский
Рай... Рай это не место и не время, это Дар Господний. Кажется, такова и
этимология - дар. Или одна из этимологий. Шли не к Пушкину, идя к
Пушкину, тут парили в дарованном Господом владении. Так ощущалось.
Все печали и скорби остались за границами этого дня.
Вот и муж нашей хозяйки Клавдии Васильевны...
Он болен, кажется, смертельно, совсем не встаёт. Николай про него как-то
рассказывал, ещё здорового, любившего выпить: прочитал за жизнь две
книжки - но фило-ософ, повторяет из года в год : «Правильный писатель
Гоголь: как подметил, что мужики говорят о колесе - доедет ли до Казани.
Тупые русские мужики!» И вообще всё в России плохо - было, есть и
будет...
Мужа Клавдии Васильевны я видел лишь мельком в полупотёмках, лежащим в
пышной белизне постели: впалые бритые щёки, худое онкологическое лицо.
Лежал он в кухоньке. Я зашёл за водой. Он вдруг с воодушевлением
заговорил: «Вот у русских фамилии! Полежаев, например! Потому что
полежать любят, ленивые...»
Его жизнь, его болезнь остались за границами шестого июня...
И ещё вот.
Разместившись вчера у Клавдии Васильевны, мы отправились на концерт в
НКЦ. Путь наш лежал через лесок. Пьяноватый встречный парень, ведомый
приятелями и подругой, попросил закурить. Отказом он был так
разочарован, что вдруг и взорвался - осколки злобного мата просвистели
через кроны сосен.
- Видишь, - усмехнувшись, сказал Николай, когда конфликт был исчерпан, - тянется народ к Пушкину! Ведь доехать же надо было.
И развеялась эта картинка перед границами русского рая: мат - запах ада...
4. ПОЛЯНА
Поляна - скромно сказано, очень скромно. Тут можно б и хороший аэродром
разместить. Во всяком случае, белый павильон эстрады, затерявшийся у
противоположной опушки леса, смотрелся не крупнее, чем мяч, утонувший в
траве футбольного поля. Чтобы добраться до эстрады, нужно сначала дойти
до ярмарки-городка, где на сборных прилавках, на раскладушках и в
палатках разложены кафелем книги и альбомы, заставлены матрёшками, где
бойко, с очередями, торгуют пирожками и пивом; пройти, искушаясь, через
всю эту пёструю толчею, пересечь травянистое пространство, где в мураве
под нежарким солнышком расположились, как цветы, кружками компании,
перекусывают, отдыхают, но и прислушиваются, что приходит через чёрные
кубы динамиков; и наконец влиться в обширный полуэллипс людей,
облепивших бело-колонный павильон.
Стихи читал неизвестный.
Чтение стихов на лесной поляне перед большим скоплением людей - в этом
есть что-то невероятное. И любопытное. Одни, сидящие в траве, хотят
что-то услышать, другие, на подиуме, что-то огласить, искусство своё
показать, в каком-то смысле и фокус: вышел неведомый человек, - зрители
примолкли, - ррраз! и человек словно б вывернулся наизнанку - и вместо
него - букет благоухающих цветов! Ах какая радость! Человек оказался
вестником цветущего сада!..
На эстраде произошло движение. Председатель правительства прощался с народом и писателями. Его заинтересованно обступили...
Ноги утомились в ходьбе. Посидеть захотелось. Обойдя эстраду, зайдя в
тень под огромные сосны, где народа было немного, я разулся и
примостился на какой-то полуразрушенный, поросший зелёным мхом пенёк,
умостив под себя шлёпанцы.
Я водил босыми стопами по щекочущему ковру сотканно-сплетёному из
желтоватых сосновых игл; мягкое солнце на моём лице перемешивалось
верховым ветром с тенью; закинув голову и прикрыв глаза, я слушал
прилетающие с эстрады голоса и обрывки разговоров, сотворяемые рядом;
воздух радостью был пропитан, без связи с этими речами.
Вблизи от меня, под соснами какие-то приятные люди выпивали, а
фольклорный коллектив - в красных вышитых сарафанах и кафтанах -
истомившись ожиданием своего часа, принялся прямо здесь и петь и хоровод
водить. Скоро им замечание сделали. Они успокоили: всё нормально. И
даже не надолго, минут на пять понизили мощь своих голосов... Тут же
кто-то с телекамерой брал интервью у смоленского поэта-балагура, кто-то
фотографировался, а кто-то вёл неспешную приглушённую беседу.
Невдалеке я приметил Валентина Курбатова; представился, показал-подарил
альманах. Он обеспокоенно поинтересовался: указан ли художник.
- Конечно, конечно, - поспешил я его успокоить, - вот тут: Ю.И. Селивёрстов.
- Это хорошо, а то жена его обижается, когда не указывают; я покажу ей...
Писатели стали выходить под сосны; понятно, дело к обеду, стекло
блеснуло. Я рассудил, что пора бы мне заняться и альманахами и вышел на
солнце, в пестроту тысячелицую, в океан людской, наряженный в июньские
радостные одежды.
Тут же меня окликнул Чернецкий. Сфотографировались, присев на помост
эстрады, Лена щёлкнула; за спиной танцевали-пели девушки в кокошниках.
- Наташу не видел?
- Она около входа, - он пальцем показал направление, - вместе с Романом и Аришкой... Буковского не видел?
- Не-а
5. НАТАША И РОМАН
С Наташей я познакомился вчера во дворце НКЦ.
Когда мы с Николаем проникли в вестибюль дворца, концерт уже начался;
проникли, при отсутствии пропусков, через какие-то задние или боковые
двери, где как раз и сидел охранник, но он почему-то нами не
заинтересовался. Пройдя через многодверный коридор, мы вышли в холл, где
перед газетным лотком, спиной к нам, стояла стройная женщина.
- Наташа! - окликнул её Чернецкий.
- О-о! - проговорила Наташа, обернувшись и не сразу его узнав.
- И ещё раз: - О-о! - с такой иронично-добродушной интонацией, что если б
кому-то довелось переводить это её восклицание на иной язык, то можно б
вполне было и так перевести : «Сто лет бы тебя не видеть, горе
луковое!»
На её столике лежали стопками какие-то зеленоватые журналы и газета «Звонница».
Из зала доносилось подрагивание динамиков. Наташа нервничала:
- Где же Роман?.. Мне выступать скоро...
Роман - сын её, юноша лет семнадцати, белобрысый, с хорошим спокойным
лицом, появился, наконец, подменил маму. Мы отправились в зал. Позже
Николай рассказал мне о ней, о Наташе Лаврецовой.
Прежде она жила в Ленинграде, была замужем, муж - физик-ядерщик; однажды
она оказалась в Заповеднике и поняла, что нормальный человек жить может
только здесь.
Роману было года два, она его в охапку - и в Пушкинские Горы. Гейченко
для Наташи даже должность пробил. По специальности она лесник. Почему-то
в заповеднике такой должности не было.
Ленинградская семья со временем распалась. А здесь образовалась новая,
вышла Наташа замуж за Буковского; эрудит, полиглот, главный экскурсовод
заповедника. Дочка у них родилась, Арина, лет семь, что ли, назад.
Теперь Наташа живёт в Пскове и как поэтесса с писательской делегацией
приехала на праздник...
Говоря о Буковском, Чернецкий интеллигентным жестом описал его житейскую
проблему: пьёт. В перерыве концерта Николай даже мельком меня с ним
познакомил: породистое лицо общительного свойского человека. Через пять
минут я его увидел на площади перед НКЦ около киосочка, где продавали
запечатанную в пластмассовые стаканчики водку.
Через Поляну я пробирался в направлении, указанном Николаем.
Действительно, на выходе около ворот, сооружённых как и ограда из
золотистых жердей, ошкуренных нетолстых сосёнок, я увидел Наташу и
Романа. Перед их столиком стояли люди.
- Распутин с Ганичевым вчера привезли, - говорила Наташа о зеленоватом
журнале «Роман-газета ХХI век». - А это - «Звонница», газета псковской
писательской организации, раз в год выпускаем...
Торговля, как я понял, шла у них ладно.
- Давно здесь?
- Да вот только что! - без паузы ответила она. - Романа полдня найти не
могла. Отсыпался! - Наташа рассчитывалась с прибалтийскими людьми. -
Гулял до рассвета. С девчонкой! А столик у него остался... Газета
«Звонница», смотрите, пушкинский выпуск... Без столика - ничего продать не
могла...
Я напросился со своими альманахами к ним в компанию и скоро понял, что
Наташа выбрала самое удобное место. Тут при входе-выходе, кроме нас
вообще никто ничего не продавал. Народ перемещался через ворота в обе
стороны пульсирующими волнами, то густо, то пусто, с какой-то неясной
периодичностью.
- Ставьте «10″, - посоветовал мне Роман. - Кто захочет купить - купит и
за десять. Я уже убедился. А то за пять - совсем не серьёзно.
Стоять втроём у столика было совершенно неудобно. Я присел на бревно
изгороди, в угол стыка изгороди и распахнутых ворот и оказался хоть и в
стороне, но над столиком, как над схваткой, в которой сшиблись высокая
литература и полезные деньги.
Время от времени откуда-то со стороны усадьбы доносился негромкий гуд
колокола. Часов я не носил и подумал, что это где-то отбивают склянки.
Потом усомнился: интервалы между ударами были явно случайны. Спросил
Романа о звоне, тот не знал. «Новое что-то...»
Наташа числилась в «официальной писательской делегации» и всё время
порывалась уйти на банкет. Но всё время её что-то задерживало. Отчасти -
торговля. Оказалось, увлекает.
Ариша, дочка Наташи, время от времени подходила к нам с приятелем, своим
ровесником, стеснительно испрашивала дозволения, получала денежку и
отправлялась поедать мороженое или пить воду.
Подошли бывшие Чернецкие. Сказали, что пройдутся по своим местам:
Савкино, Тригорское... Николай позвал меня с собой. Я отказался: мне и
здесь хорошо было.
Через час сидения на заборе во мне выковалась рекламная фраза, двигающая
торговлю. Гвоздевую эту фразу произносил я редко и исключительно
адресно, но она неизменно срабатывала. Я говорил: «В альманахе есть моя
повесть, которая лично вам понравится». Адресовалась фраза определённому
типу интеллигентных начитанных людей, в основном женщинам. Этот тип у
меня ассоциировался с польстившим мне отзывом: «она меня потрясла...»
Когда-то я спросил Юрия Лощица, что он думает о названии «Русь-Колыма».
Юрий Михайлович высказался в том смысле, что название можно счесть и за
русофобское: вся Русь - Колыма.
Я стал объяснять: - Нет, смысл совсем иной. Смысл в том, что Колыма -
тоже Русь, во-первых, там мученическая православная кровь пролилось,
во-вторых, это моя родина, а в-третьих, в бассейне Колымы лежит золото
для будущих куполов...
Наташа несколько раз кого-то спрашивала: «Не видели Буковского?» И
однажды пояснила какой-то женщине: «Пропал! С утра все его ищут. Я уже
переживать начинаю».
Она поручила Роману газеты и журналы, выловила Аришу и умчалась, наконец, на банкет.
Роман - ровесник моего старшего сына. Порадовало, что тоже не курит.
Простое лицо, открытая, без наворотов, речь, а в лице какая-то дума
тайная, вынырнет когда-нибудь из него, явится...
Альманахов у меня было немного, да и из тех половину раздарил, так что
скоро они все и разошлись. Только-только торговое дело поднадоедать
стало - разошлись. Роману, кажется, тоже это занятие наскучило.
- Хотите, можем в Тригорское сходить? - предложил он.
- Хочу! - обрадовался я. Мне казалось, что без Николая мне в Тригорское не попасть. - А не поздно?
- Сейчас, наверное, часов шесть или семь (и Роман часов не носил). А темнеть станет не раньше одиннадцати.
6. МЕЖДУ СОРОТЬЮ И МАЛЕНЦОМ
- Вы же не были на Савкиной горке?.. Через Савкино пойдём. У нас там изба. Только нужно это барахло куда-то пристроить...
Действительно, идти на прогулку с кипой газет и журналов никак не хотелось. Роман разобрал столик, я подхватил сумку.
За мостиком, по дороге к усадьбе, мы вскоре увидели небольшие колокола,
висящие на перекладине. Вот откуда доносился звон. Звонили все, кому
хотелось. Табличка указывала, что звонить запрещено. Звякнули и мы.
- Раньше я всех здесь знал, - говорил Роман. - Я же здесь с двух лет. А теперь новых полно.
В этих словах было переживание: дозволят ли новые оставить на хранение столик и сумку.
- Теперь всё переменилось.
Да и я заметил: о временах Гейченко говорят со слезой незримой: «старое
Михайловское». Всё то, что было ещё год назад - сломано, новое
выстроено. Мне их печаль неблизка, главное-то осталось: дали, озёра,
небеса, холмы, валуны... Но старожилов нововведения явно раздражали.
Вчера, придя с Николаем в Михайловское (а погода была славная, а дали -
неоглядные, лишь кроссовки мучили), я неожиданно попал в барский дом. Мы
узнали, что на экскурсии запись на всё лето закрыта, «дикарём» и
попасть невозможно.
«В каком смысле?» - один мой добрый приятель в таких случаях задаёт именно такой дурацкий вопрос.
Из небес сияло солнце, народу всюду, во всех аллеях и у всех строений
было множество, а в музее дело шло к закрытию. Запускали последнюю
группу. Если б не это обстоятельство, я, может, и не вдохновился бы
зайти в дом поэта без приглашения. Рисковать с удостоверением СП, после
конфуза у квартиры Достоевского, я не стал, приподнял из нагрудного
кармана «Посвiдчення N 16″ и понял, что с прессой никто связываться не
хочет...
Лампа зелёная, старинные портреты, перья гусиные, дуэльные пистолеты -
ожидаемо было. Правду сказать - особенное впечатление произвели обои.
Таких не бывает. Для каждой комнаты свой замысел. Это не обои - наряды,
коллекция от кутюрье; комнаты, как невесты купеческие... Ну и полы. Полы -
доски лаковые, золотистые, по-паркетному некрашеные, на них, как в
сауне, темнеют сучки и разводы. А то, что на крыше не солома, но
американская металлопластиковая (или что-то вроде этого) красная
черепица потом обсудили. Не дом - ларец. В детстве каждый, верно, мечтал
построить подобное диво - из зелёных, синих, жёлтых и красных кубиков.
...Однако, представляется, что и эта черепица не устоит в каком-нибудь
новом набеге(отчего-то при всяком общественном потрясении исчезает
пушкинский дом),, например, при попадании натовской крылатой ракеты...
Даст Бог, отстроим и после ракеты, когда наши самолёты пролетят над
Манхаттаном парадным победным строем. Главное, чтоб дали не свернулись.
Николай поджидал меня на выходе из музея.
- Ну и как?
- Театрально. Богато. Толста златая цепь на шее заказчика.
- Дуб, что ли, строил?
- Не знаю, может, кот. Но круто.
Тут же мы зашли и в «домик няни»...
Николай вообще-то человек спокойный. Можно даже с уверенностью сказать:
флегматик в чистом виде. Но в «домике няни» он вдруг вскипел.
- Зачем?! - вскричал он, обращаясь к милой смотрительнице.
Я удивился.
Оказалось, поменяли местами светёлку с банькой, вывернули домик
зеркально. Смотрительница начала было объяснять: «По новейшим
исследованиям...» Николай отмахнулся, вышел в сердцах.
- А где пушечка?! - с презрением и ненавистью (что уж вообще не
свойственно ему), обращёнными неизвестно к кому, проговорил Чернецкий,
стоя перед домом поэта.
- Пушечка в музее, - успокоил я его.
- Внутри?
- Внутри.
И он успокоился.
Роман заглянул в какой-то из подсобных домиков, кажется, в «дом
управляющего», сказал, что он сын Буковского. Дозволили. И мы налегке
отправились в Савкино.
- В Савкино у нас пол-избы, - рассказывал Роман. - Буковский там живёт. Может, спит...
Мы пошли вдоль Сороти, мимо мельницы, через грязь и болотину; разулись.
Слева озеро Маленец, справа - река плавная... Грязь если чем и хороша для
русского, так тем, что в любой момент её смыть можно: и Сороть под
боком, и мы под Богом. Вода тут недавно отступила, разъединились Маленец
и Сороть, лишь в одном месте мы решили, что нужно повыше подвернуть
брюки... Навстречу попался мужчина в плавках.
- Пройдём?
Мужчина был розов, где-то подгорел на зелёном травотканном бережку.
- Запросто. Но лучше снять штаны.
Сняли.
- Может искупаемся?
- Не простудитесь? - Роман взял надо мной шефство.
Я ответил, мол, закалён, обливаюсь ледяной.
.
Похоже, это усугубило опрометчивость недавнего шутливого сомнения в том,
что Пушкин заболел, искупавшись в Днепре в середине мая. Угораздило же
меня сочинить пародию на пушкиноведческий доклад (докладов в те дни
довелось наслушаться - и шарлатанских среди добротных - с избытком)...
Закалён не закалён, а через сутки я буду лежать, жаром горя, уносясь в
поезде в сторону днепровских широт, сыпя искрами простуды; от моего
кашля и чиха будут шарахаться встречные поезда. И я вполне отведаю, что
значит находиться «в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого
лимонада»... Роман предупредил, что тут вообще-то и утонуть можно...
.
Хорошо, я не заверил, что не потону. Потому что переплывая чёрную речку,
довелось увернуться от моторного катера, на котором (почему-то все в
тёмном) неслась хмельная компания с визгом и воем.
Теперь можно понять и так, что переплыв середину Сороти, я нарушил
границу, за которой, как лезвие ножа, летал катер чёрной стражи.
...А Роман искупался у берега... Постояли на плотной сочно-зелёной траве,
подсыхая, ввиду часовенки на Савкиной горке. Какая-то женщина в
голубоватом платье и соломенной шляпе сидела на скамеечке на удалённом
от нас склоне.
.
Для меня название «Савкина горка» было, как, допустим, для многих
название «озеро Джека Лондона». Но вот если вы бывали на цепи
фантастических колымских озёр, то услышав упоминание об озере Джека
Лондона, воскликните «О!» Так теперь и я, услышав «Савкина горка»,
воскликну «О!», а прежде название было - невидимый звук.
7. САВКИНО
Мы прошли по кривенькой безлюдной улочке избяной сказочной деревеньки.
Избы сторонились в зелёный пятнистый сумрак больших дерев. Роман сказал,
что в Савкино четырнадцать дворов. Слышать это было удивительно, я и не
ведал, что бывают такие маленькие деревни: по городским меркам все б
люди в одном подъезде уместились, вот ужас!
Пушкин хотел купить Савкино, хижинку построить, поставить в ней книги
свои и проводить тут несколько месяцев в году. И я б здесь избушку
купил, поставил бы книги, подключил компьютер... Роман показал на
современную усадебку. Дом директора, который недолго руководил после
Гейченко.
- Что и успел, - с некоторой смущённой весёлостью отметил Роман, - так отстроить себе этот дом...
...На фронтоне избы, к которой мы подошли, был балкончик - городскими
ветрами занесён, как росток, и прижился. Но изба - настоящее всё!.. Всё
трепетало во мне. Вошли. Пол, стены, потолок (а потолок высок дворцово) -
всё деревянное, щелястое, древнее... Возвеселилось во мне кровь... Память
предков, что ли, ожила? Сколько лет и зим людьми изжито, сколько песен...
Перегородка, книги до потолка. Лестница на чердак.
.
- Там кабинет у мамы.
В избе лестница во второй уровень, в кабинет...
Я примеривался, как бы я тут жил.
- Можно заглянуть?
Любопытно было с балкона глянуть.
- Конечно... Сейчас чаю попьём.
Ах, как бы тут славно прожить детство! Всё сказка, всё тайн полно.
Кабинет литератора... Ну да вы знаете. На столе книги, бумаги. У всех
примерно одно и тоже, у кого порядок и аккуратность, у кого иначе. Стол
он и есть стол. Чем и отличается от обычного, что присутствует на столе
литератора незримая скатерть самобранка, рождающая как бы из ничего
сочинения...
Странное чувство - быть в гостях в доме без хозяев. В кухне на столе у
окна листок с английским рукописными словами. Роман прочитал, посмеялся и
пересказал мне.
Записка назначалась Буковским Арине. Он уходил на работу, когда та
спала. Нежность была разлита по всем строчкам письма, которое в руках
Романа светилось солнцем. Одно слово (в скобках) было на русском:
«кастрюлька». «Завтрак, солнышко, возьми в кастрюльке...»
На полке пачка новых выпусков журналов и газет.
Скажи мне, что ты читаешь, и я всё пойму.
Но это в обычном мире, не здесь... «Знамя»... «Октябрь», н-да... «Новый мир»,
угу... «День литературы»... «Завтра»...Знакомый библиотечный набор. Здесь всё
читаемо.
- Где же Буковский? - Роман скребанул по сусекам. - Дома-то жрать нечего. Кроме хлеба - ничего.
- Ты есть хочешь? - догадался я.
- Да конечно... И как тут Буковский живёт?
По лицу вижу - больная тема. Не лад в семье, не лад...
- Да и что у нас за семья?! Буковский в Пушгорах, мама с Аришкой во Пскове, я в Питере...
Выпили чаю, перекусили хлебом.
- Ну что, на Савкину?..
Вышли на зады, на бедный огород. Сразу за ним и Савкина горка. Это холм
аккуратно-круглый над Соротью; зелёный, с серой брусчатой часовенкой, в
трёх шагах против которой каменный крест из земли стоит. А под тем
крестом лет пятьсот назад положен был Сава поп. Говорят, монастырёк тут
стоял. Намоленность со сладостью ощутилась. И свою молитву бедную
приложил.
Только сфотографироваться надумали, увидели-услышали Наташу, машет снизу рукой, платье длинное - живописно.
- Поднимись, щёлкни нас, - прошу я.
- Потом. Идите сюда...
- Может, она с банкета чего пожрать принесла? - Роман заинтересовался.
Наташе было хорошо, весела пришла, только Романа разочаровала: «Куда
там! В-ч. напротив сидел...» Передохнув на скамейке у дома, она не без
суровости материнской потребовала отчёта о торговле.
Роман отчитался.
- Мы в Тригорское собрались, - отчитался и я в свою очередь.
- Давайте, сходите.
8. ТРИГОРСКОЕ
Солнце в небе имитировало движение, ласково светя, показывало, что якобы и сегодня знает свой запад.
В небе время от времени пролетали дельтапланы.
- Странно, что им разрешили тут летать.
- Почему?
- Там лес еловый заповедный... В нём цапли живут, у них гнёзда на елях... В
детстве как-то зашли (а там дерево к дереву - высоченный непролазный
лес), так они нас всех обдрыстали.
- Что-что? - мне хотелось представить чужое детское переживание в угрюмом лесу.
- Ну, помётом... Мама когда-то двух птенцов выпавших подобрала, во дворе у
нас бегали... Даже какая-то центральная газета о ней написала...
Цапли на елях... И в Библии есть: Господом устроено: «ели - жилище аисту...»
По тропкам через холмы зелёные поднялись мы к тригорскому кладбищу, где
было когда-то городище Воронич, поклонились резным крестам, стоящим над
четой Гейченко... И всматривался я в старинные надгробия Осиповых-Вульф,
представляя горестные часы давних похорон, людей, толпящихся у свежих
могил...
В тригорском парке народа уже почти никого не было. Мы прошли по
солнечной дорожке вдоль огромного деревянного дома, который никак, в
моём представлении, не похож на помещичий дом, но скорее на колымский
барак. Да ведь и точно: барский дом сгорел, а здесь первоначально была
фабричка полотняная.
- Там «дуб уединенный», - показывал Роман. - А это «скамья Онегина»...
Мы вознамерились на ней передохнуть, посмотреть с обрыва на Сороть и
развёрнутые дали. Но у нас за спиной пискнула рация, из звука этого
материализовались два милиционера. Они обмолвились о штрафе, не
допустили. Ну что ж, нельзя так нельзя, хоть и тропинка к скамье
протоптана размашестей прочих.
На мостике около пруда повстречался нам худощавый мужчина в светлых
одеждах и попросил его сфотографировать. Скучновато ему было бродить по
парку в одиночестве, поговорить хотелось, спросил:
- Вы откуда?
- Он местный, - ответил я за Романа. - А я - в данный момент - с Украины.
Отчего-то я испытал неловкость, словно моя в том вина, что Украина роет
рвы, отгораживаясь от России, что уже даже кажется проигранной та война
которую вёл гетман Богдан Хмельицкий, говоря: «...живём мы в безпрестанных
бронях и кровопролитиях с врагами и гонителями нашими, хотящими
искоренить Церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей».
А по пророчеству преп. Серафима Россия до конца выстоит. И он канавку
копал вокруг храма, которую и сатана не одолеет. В конце времён
вознесётся храм... Отделяют Украину от тех, кто спасётся, от того, что
устоит. И в этом вся трагедия Украины, боль ужасная.
- Сегодня я с одним человеком с Украины уже встречался, - заговорил он
быстро, будто тоже испытав неловкость. - Рассказал, что недавно его
занесло туда к вам; конюхом в какой-то агрофирме работает. А Пушкинские
Горы восьмой год подряд приезжает...
Сфотографировали его, распрощались. И Роман высказал удивившее меня предположение.
- А ведь этот конюх, похоже, Чернецкий.
.
- Не может быть! - поразился я изощрённой подозрительности юноши. - Ты думаешь?..
- С него станется, - ответил Роман неохотно.
Эта неохотность была того рода, что Роман относился к Чернецкому
отчего-то со скепсисом. Мы помолчали. И он спросил о чернецких стихах.
- Ну а как вам его стихи?
Вообще-то, как я понял, Роман не большой любитель текущей поэзии, но,
думаю, после моей защитительной речи, стихи Н.Ч. он в какой-то момент,
предпочтёт другому времяпровождению.
Попутно я думал: Что за ерунда! Какая ещё «агрофирма»? Какой ещё
«конюх»?.. Он, конечно, чудак, ест древесные грибы... При случае спросить
нужно.
А когда выпал случай, Николай открестился от «конюха», глаза округлив... В тот момент я ему поверил.
- Может, перекусим, - предложил Роман. - Там на выходе кафе есть. Только бы ещё не закрылось.
Кафе работало, но за большой многолюдный день ассортимент исчерпался
почти полностью: в продаже имелись лишь сигареты «прима» и сладкая
зелёная вода «тархун».
Рядом пролегало шоссе, с которого и взлетали моторные дельтапланы. Один
взлетает, другой садится, пять минут - сто рублей. Очередь была не то
чтобы большой, но неиссякаемой.
Я спросил Романа о вчерашних воздушных шарах. Он их не видел.
- Эх, я бы полетел! - вздохнул он.
- Народ от скуки мается, - прокомментировал я и подумал, что было бы
здорово, глянуть на Святые горы, леса и долы с высоты полёта серой
цапли. Тем более на полёт я, кажется, заработал альманахами, точнее,
своей повестью.
Это было бы здорово: написав повесть и попав с нею на престижное
Совещание молодых писателей 1989 года, потыкавшись по редакциям,
забросив её, через десять лет переписав, радуясь, что она не была
напечатана (и вообще - чудаки же те, кто её хвалил), затеяв русофильский
альманах и худо-бедно издав его, взять - и прокатать на дельтаплане в
пять минут заработок... Красиво. Но ещё ведь и с Клавдией Васильевной
нужно б как-то рассчитаться.
Мы присели передохнуть на шоссейный бордюр.
- Летите? - поинтересовался миниатюрный спортивный человек, выпрыгивая
из седла велосипеда. На нём был пластиковый костюм, подобный лёгкому
аквалангу, а на голове бейсболка с пеликаньим козырьком. Весь его наряд
был сцеплением сверкающих красок - синей, рыжей, белой...
- Думаем.
- А что ж тут думать?! - удивился он. - Я на Тайване был, там на
дельтаплане минута - 25 долларов. А здесь - всего четыре! И не минута, а
пять!!
- Конечно, - рассудили мы, - прямой расчёт.
9. СОЛНЦЕ ЗНАЕТ СВОЙ ЗАПАД
- Сейчас к одним людям зайдём, молока попьём.
- Продают?
- Продают, - бодро отвечал Роман. - Только с нас могут и не взять денег.
Мы возвращались в Михайловское новой для меня дорогой.
- А что за люди?
- Мать девчонки одной, - теперь он говорил неохотно. - С нею ночью гуляли...
- Что-то серьёзное? - я с любопытством примерял его переживания на своего сына, ему ровесника.
- Да нет... В школе учились вместе. Теперь она в Питере. Но мы там не
виделись... Она изменилась сильно. Питер портит. Стала курить... И
матерится... Мне такого не надо.
Дом стоял на высоком холме. Сорокалетняя полноватая женщина обрадовалась Роману. Я предложил деньги за молоко. Она отказались.
.
Веранда изнутри светилась: была обшита струганными досточками. Нас
усадили за стол перед широким окном. Поставили стаканы и банку с
молоком... Еды вкуснее, чем молоко со свежим хлебом, человечество всё-таки
ещё не придумало. А вид на солнечно-зелёные просторы сквозь окно - как
из высокой смотровой башни.
Хозяйка и Роман заинтересованно поговорили об общих знакомых, о
празднике, о пушкиногорских новостях. Она говорила, улыбалась, но
какой-то настороженный вопрос всё время был в её взгляде.
- Ром, скажи, - вдруг спросила она о своей дочери, предложив нам ещё налить молока, - она курит?
Я бы на месте Романа ответил уклончиво. Этого от него и ждал. Он помолчал, горечь в нём, видно, сильна была.
- Курит, - ответил.
- Вот же!..
Роман заспешил: успеть бы забрать из музея вещи, пока сигнализацию не
включили, а то и завтра их не получить: завтра понедельник, выходной...
Дорога, как ручей, понесла нас неспешно, как прежде проносила своими
всхлмьями, поворотами и ложбинами миллионы людей. Вот «три сосны», вот
лес, где цапли обитают, а вот Маленец - чернеет с левой стороны.
В Михайловском охранник-милиционер поведал, что всё уже поставлено на сигнализацию, он при всём желании не может открыть.
И нас оставили силы.
Солнце уменьшилось, растратив своё пламя, в дымку укуталось; возможно, на западе.
Кто-то подсказал, что для сотрудников в Пушкинские Горы с поляны пойдёт автобус.
Мы добрели до поляны. Действительно, невдалеке от ворот сидели на
скамейке и стояли поодаль несколько женщин. Одна из них попросила
милиционера, чтоб тот по рации поторопил шофёра... Солнце неизвестно куда
исчезло и в воздухе возникла серенькая рябь. На обезлюдившей поляне
одиноко сворачивалась последняя палатка, чернявые люди разбирали каркас,
остатки товара загружали в две небольшие красивые машины...
Всегда навевает грусть ветер, шевелящий мусор на широком пространстве,
где отшумел праздник; белый пластмассовый стаканчик катился по дорожке...
10. РУССКИЙ ДЕНЬ
Выбравшись из автобуса, мы зашли на турбазу. Роману хотелось повидать маму. Наташа спала. Ариша помахала нам с балкона...
Когда мы проходили через край стадиона, Романа окликнул девичий голос.
Компания юных пушкиногорцев, пиво попивая, сидела под деревьями. Роман
кивнул им: «Привет!» И проговорил негромко:
- Она...
- Так иди к ним в компанию!
- Не хочется. Скучно с ними.
Поразительно: в семнадцать лет точно знает, что ему не надо;
самостоятельно в Петербурге живёт, учится и квартиру на свои деньги
снимает.
Мы шагали по вечереющим Пушкинским Горам... Неожиданно было безлюдье.
Никого! Один лишь человек встретился - это был депутат Митрофанов, он,
развалисто шёл по середине улицы в распахнутом на дуге живота пиджаке и
что-то говорил в радиотелефон... И негасимо светящийся день стал
закутываться в толщу иных русских дней...
А вчера-то здесь - тысячи людей, толпы, огни, музыка, «Цыганы» под
стенами монастыря - костёр и шатры... Тяжёлый военный грузовик
продавливался через гущину народа, девочку малую ударил бампером, та
упала на спину, раскинувшись недвижно... Народ расступился, вскипев белыми
лицами, обращёнными к ней, под фары.
В толпу ввернулся ловкий и крепкий военный, подхватил дитя бережно;
кажется, он готов был над ней разрыдаться; та судорожно вздохнула,
очнулась, как Россия.
А в полночь, в миг прихода шестого июня одна тысяча девятьсот девяносто
девятого года христианской эры, ахнул салют - треск, струи огня, цветы,
сады, стены огня поднялись в угольное небо, озарив изгибы облаков. И в
сверкающем пламени сгорело то, чему не дано было перелиться через
границу и попасть в русский рай.
Может быть, это был единственный счастливый за многие годы день для России, в который можно возвращаться; иногда можно...
Погасли цветы салюта. И через несколько ночных часов нас потревожит утренний голос:
- Вставайте, мальчики, вставайте!