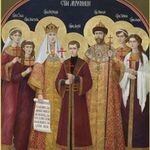Сейчас в Госдуме активно идет разработка законопроекта «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Речь идет о возвращении религиозным организациям имущества, конфискованного в период советской власти ("Комсомолка" уже писала об этом: см. статью "Должны ли музеи вернуть церкви религиозные святыни" в номере от 26 марта с.г., материал также доступен на нашем сайте kp.ru). "КП" решила узнать, что думает об этом член Общественной палаты России Епископ Саратовский и Вольский Лонгин.
- Я глубоко убежден в том, что государство должно вернуть церкви ее имущество и, самое главное - ее святыни, насильственным образом изъятые после революции из храмов и монастырей, а также храмовые здания. Как сказал недавно Святейший Патриарх Кирилл: храм должен быть храмом, а монастырь - монастырем. Те шаги, которые предпринимает сегодня государство в этом направлении (к их числу можно отнести и разработку законопроекта, о котором идет речь), - совершенно необходимы и оправданы. Многие преступления советского режима в нашем обществе сегодня признаны именно преступлениями, до сегодняшнего дня не закончена реабилитация жертв политических репрессий. Точно такими же преступлениями являются попытка полного уничтожения православной церкви в России, гонения на верующих, проходившие в течение многих десятилетий, и разграбление храмов. Это относится не только к православной церкви, но и ко всем традиционным конфессиям России. Все надо называть своими именами: экспроприация - вещь, не допустимая в нормальном государстве, а значит, то, что отнято именно таким образом, необходимо вернуть. Однако дискуссия, которая проходит сегодня, действительно непростая. Многие вопросы требуют спокойного, взвешенного обсуждения.
- Может ли церковь обеспечить сохранность памятников искусства?
- Мы честно отвечаем: не всегда, не во всех храмах. Но эффективную систему охраны действительно можно создать, и она уже существует - в кафедральных соборах епархиальных центров, крупных монастырях, таких, как, например, Троице-Сергиева лавра, наконец, в существующих церковных музеях. При этом передача церкви предметов, являющихся национальным достоянием, вовсе не означает, что государство тут же должно умыть руки и больше не обязано нести никакой ответственности за их сохранение. Даже в самой секулярной (светской - прим. ред.) стране Европы - Франции все предметы искусства церковного происхождения, находящиеся в собственности католической церкви, под особой охраной государства, которое тратит на это большие средства. До революции церковь в России имела возможность хранить и изучать основные произведения нашей национальной культуры, созданные, подчеркну, в церкви и для церкви. Огромное их количество дошло до нашего времени именно в храмах, монастырях и церковных хранилищах - прообразах современных музеев. Там работали известные специалисты - искусствоведы, археологи, при этом они были именно церковными работниками и служащими, то есть начало музейному делу положила церковь. Советская власть за 70 лет привела церковь в катастрофическое состояние. Поэтому не будет ничего предосудительного в том, если государство сегодня поможет церкви восстановить ту систему, которая существовала до революции, - систему хранения, учета, научного исследования тех ценностей, которые когда-то принадлежали церкви и, дай Бог, будут ей возвращены. Здесь нужна совместная работа.
Кроме того, речь вовсе не идет о том, что церковь хочет забрать все, что есть. Безусловно, самые древние произведения церковного искусства, которым грозит гибель в случае изъятия из музеев, должны в них остаться. Там могут оставаться какие-то вещи из частных коллекций. Есть собрания, по которым можно проследить всю историю отечественной иконописи, прекрасные древние иконы, которые никогда не находились в храмах. А вот чудотворные иконы, происхождение которых стало частью церковной истории, наши святыни - вот они должны вернуться в храмы, чтобы верующие люди могли молиться перед ними.
- Как вы прокомментируете упреки в адрес церкви, в частности, о непрофессиональной реставрации тех древних храмов и икон, которые уже ей возвращены?
- В наших храмах работают те же самые специалисты-реставраторы, что и в музеях. Спросите любого музейного реставратора, чем он занимается. Он наверняка ответит, что реставрирует иконы для храмов. Ведь имена хороших специалистов всем известны, их и привлекают для исполнения работ в самых сложных и интересных случаях.
- Не раз приходилось слышать, что существуют "музейная реставрация" и "храмовая реставрация". Задача "музейной реставрации" - сохранить по максимуму то, что есть. А вот "храмовая реставрация" - это когда в случае утрат красочного слоя на иконе ее "дописывают", чтобы можно было выставить в храме…
- Это на самом деле дискуссия нескольких реставрационных школ. С точки зрения целого ряда ученых, реставрация «Троицы» Рублева - это как раз «храмовая» реставрация. Потому что в начале XX века, когда икону раскрыли, сняв оклад и несколько поздних красочных слоев, утраты именно дописали: большая часть ярких красок, которые мы видим сегодня,- это именно реконструкция нашего времени. Так что есть разные способы реставрации, которыми пользуются достаточно авторитетные специалисты.
Действительно, когда в храм попадает, скажем, полуосыпавшаяся икона XIX века, которая не представляет музейной ценности, мы реставрируем ее именно так, чтобы ее можно было использовать: сохраняем подлинную живопись, но при этом не оставляем каких-то лакун или белых пятен: тонируем их, или дописываем. Это нормально, и я не думаю, что в такой реставрации есть нечто предосудительное.
А вот иконы более раннего письма, конечно, требуют другого подхода. Никто не собирается их записывать. Скажем, в Троицком соборе Саратова есть образ Спаса Нерукотворного, Казанская икона Божией Матери XVII века, недавно их отреставрировали специалисты московского музея имени Андрея Рублева - и это классический пример так называемой «музейной» реставрации, потому что там были сняты все поздние слои и оставлено лишь то, что сохранилось. Эти почитаемые иконы у нас находятся именно в храме.
Хотел бы отметить еще одну, тревожную, на мой взгляд, тенденцию. Церковь давно просит, чтобы ей были возвращены ее святыни, не представляющие ценности ни с художественной, ни с материальной точки зрения. В частности, это касается мощей святых. Но совсем недавно, буквально в последнее десятилетие, в определенных кругах наших искусствоведов и музейных работников начала формулироваться новая теория. В чем она заключается? Скажем, мы просим вернуть из музейных фондов частицы мощей, древа Креста Господня или еще какие-то известные святыни, связанные с земной жизнью Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святых. Как правило, святыни находятся в ковчегах, которые действительно могут представлять художественную и историческую ценность: зачастую это произведения прославленных мастеров, вклады царей, бояр, великих князей. И очень часто приходится говорить примерно так: «Ну, хорошо, оставьте себе ковчег, но отдайте нам, пожалуйста, его содержимое. Ведь косточка или кусочек ткани - что это с точки зрения искусства?..». В ответ на это в музейно-научном сообществе вдруг зазвучали голоса, говорящие о том, что именно эти святыни и являются самым ценным из всего, хранящегося в музеях, и их ни в коем случае в Церковь отдавать нельзя. Так на наших глазах создается еще одна идеологическая подоплека «нежелательности» возвращения Церкви ее святынь, и мне хотелось бы это отметить.
- Отношение музейных работников и церкви к тому, что называется «имуществом религиозного назначения», различается?
- Несколько лет назад я стал свидетелем ситуации, которой был до глубины души поражен. Мне довелось сослужить Святейшему Патриарху Алексию II в Успенском соборе Московского Кремля, где с начала 1990 годов совершаются богослужения по великим праздникам, а в остальное время храм находится в распоряжении музея. Через некоторое время после того, как патриаршая служба закончилась, мне и еще нескольким священнослужителям нужно было войти в алтарь Успенского собора. А там уже находились какие-то женщины, видимо, сотрудницы музея, причем одна из них стояла на месте, где еще какой-то час назад стоял Святейший, - прямо перед престолом, и, опершись на него руками, что-то рассказывала окружающим. Вот такое демонстративно-пренебрежительное отношение к святыне причиняет огромную боль православным людям и никогда не будет принято ни духовенством, ни верующим народом. Почему, спрашивается, в этих соборах нельзя освятить престолы и закрыть алтари во внебогослужебное время? Почему женщины, которые там работают, должны ходить по алтарю?
Я говорю это не для того, чтобы кого-то в чем-то упрекнуть, а для того, чтобы объяснить, какие чувства может испытывать верующий человек, когда видит неподобающее отношение к тому, что является для него святыней. И я не вижу никаких сигналов о том, что музейное сообщество каким-то образом готово прислушаться, принять такую точку зрения. Наоборот, нас часто упрекают в том, что мы не хотим слышать ученых, их боль и тревогу за судьбу национального достояния... А верующих людей кто-нибудь услышит? Пока такой готовности не видно.
Александра НЕЧАЕВА

















.jpg)