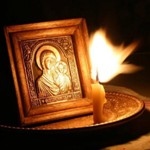воспитанницам игуменьи Тамары
Предисловие
В последние десятилетия в православном мире возрос интерес к жизни
княжны императорской крови Татьяны Константиновны, в замужестве
Багратион-Мухранской (1890-1979; урожд. Романова), в чьих жилах текла
немецкая и русская кровь. Она была старшей дочерью великого князя
Константина Константиновича (1858-1915) и великой княгини Елизаветы
Маврикиевны (1865-1927), так и не принявшей до своей кончины
православия.
В 1911 году Татьяна Константиновна вышла замуж и стала супругой князя
Константина Александровича Багратион-Мухранского (1889-1915), убитого во
время Первой мировой войны (1915). От первого брака Татьяна
Константиновна имела детей: князя Теймураза Багратион-Мухранского
(1912-1992) и княжну Наталию Багратион-Мухранскую (1914-1984).
После трагических событий 1917 года в России овдовевшей Татьяне
Константиновне пришлось эмигрировать из России с двумя детьми и
сопровождавшим ее полковником Александром Васильевичем Короченцовым
(1877-1922) на Запад, в Швейцарию. Путь четырех российских беженцев
пролегал через Украину и Румынию. Короченцов А. В. стал вторым супругом
Татьяны Константиновны, но счастливый брак в изгнании продолжался не
более трех месяцев: Александр Васильевич неожиданно заболел и скончался
в Лозанне. Дважды овдовев, Татьяне Константиновне пришлось растить и
воспитывать детей одной. После учебы в Женеве свое дальнейшее
образование повзрослевшие Теймураз и Наталия продолжили в Сербии, а
потом уехали в разные страны.
После двух с лишним десятилетий пребывания в эмиграции княгиня Татьяна
Константиновна приняла в 1946 году в Женеве постриг с именем Тамара и
переселилась в декабре того же года на Святую Землю. Здесь она начала
монашескую жизнь в Гефсимании, а в 1951 году продолжила ее на Елеонской
горе в Иерусалиме. Став игуменьей Елеонского Спасо-Вознесенского
монастыря, она многие годы управляла им и скончалась в этой обители в
августе 1979 года.
О княжне Татьяне Константиновне, в замужестве Багратион-Мухранской,
имеется немало публикаций, а вот о жизни инокини Тамары в Гефсимании и
о многосторонней деятельности игуменьи Тамары на горе Елеон написано
чрезвычайно мало. Литература о княжне Татьяне Константиновне
представлена рядом зарубежных публикаций, подготовленных русскими
эмигрантами, а также несколькими современными российскими
исследователями.
Заметным явлением стало «научное издание» (всего 100 экз.!),
приуроченное к 125-летию со дня рождения Татьяны Константиновны: Княжна
императорской крови Татьяна Константиновна (1890†1979): Биография и
документы /Сост., авт. предисл., коммент., биографического справ. Т.А.
Лобашкова. М., 2015. - 560 с.; ил. В этой ценной книге впервые
опубликованы письма княжны Татьяны Константиновны к царским дочерям,
родителям, братьям и сестре - княжне Вере Константиновне, а также
представлены некоторые материалы официального характера. В изложении
биографии княжны исследователь Татьяна Анатольевна Лобашкова приводит
очень краткие, но уже не раз публиковавшиеся данные о пребывании
Татьяны Константиновны в Румынии и Швейцарии, а также о жизни игуменьи
Тамары в Иерусалиме. Отчасти краткость связана, вероятно, с тем, что
ряд документов и фотографий игуменьи Тамары находится в закрытых в
настоящее время архивах за пределами России. Назовем лишь два из них:
aрхив князя Теймураза Константиновича Багратион-Мухранского в
Национальной парламентской библиотеке Грузии им. И. Чавчавадзе
(Тбилиси) и архив Баварской Государственной библиотеки в Мюнхене
(BSB): Фонд Ana 756 (Cholodjuk Anatolij).
Некоторые ценные материалы об игуменье Тамаре содержатся в
опубликованных в США воспоминаниях архиепископа Западно-Американского и
Сан-Францисского Антония (Медведев); епископа Троицкого Серафима
(Иванов); епископа Сиракузского и Троицкого Лавра (Шкурла), а также
частично обнародованных в российской прессе воспоминаниях елеонской
монахини Тамары (Хури); елеонской монахини Вероники (Рахеб); елеонской
инокини Марины (Черткова); иподиакона Николая (Петров). В разное время
об игуменье Тамаре писали Раймист М. (Израиль?); Чадаева А., Егорова
О., Сотников М., Андреев В. Е., Крупин В., (все - Россия); Занемонец А.
(иподиакон; Израиль), Холодюк А.Г. (Германия) и др.
В настоящей публикации впервые предпринята попытка представить своего
рода житие игуменьи Тамары и осмыслить ее многостороннюю деятельность в
Спасо-Вознесенском женском монастыре на Елеонской горе в Иерусалиме.
Повествуется также о жизненном пути княгини Татьяны Константиновны в
эмиграции (Женева; Швейцария), рассказывается и о монашеской жизни
инокини Тамары в Гефсиманской обители. Собранные автором в течение
многих лет личные воспоминания некоторых воспитанниц матушки Тамары, с
детства выросших под ее руководством, хорошо знавших и общавшихся с
нею, позволяют приоткрыть занавес неизвестного и прикоснуться к
глубокому духовному миру этой, пожалуй, самой известной русской игуменьи
XX века на Святой Земле, каковою была матушка Тамара.
В данной публикации, готовящейся к выходу в свет за пределами России
отдельной книгой, использованы записанные воспоминания елеонских
монахинь арабского происхождения из числа бывших воспитанниц игуменьи
Тамары, тексты недавно обнародованных писем княжны Татьяны
Константиновны, а также некоторые материалы, документы и фотографии
игуменьи Тамары, хранящиеся в закрытом ныне архиве Баварской
Государственной библиотеки в Мюнхене и в личной коллекции автора.
Появление этой публикации было бы невозможным без участия многих
людей, в разные годы так или иначе помогавших автору в работе над
рукописью. Автор выражает сердечную благодарность за поддержку,
бескорыстную помощь, предоставление ценных материалов об игуменье
Тамаре и архимандрите Димитрии (Биакай) елеонским монахиням: ныне
покойной старшей сестре Феоктисте (Ягнам); монахине Веронике (Рахеб) -
главному консультанту; монахине Марине (Черткова) - консультанту;
монахине Тамаре (Хури); монахине Екатерине (Самара); монахине Рафаиле
(Лел); монахине Христине (Диаб); монахине Мелании (Арихани); елеонскому
монаху Филарету (Дубина).
Особую благодарность автора заслуживают иподиакон Николай Петров
(РПЦЗ; США) и диакон Владимир Свистун (РПЦЗ; Швейцария). Ценные советы и
помощь предоставили автору княжна Ирина Леонидовна
Багратион-Мухранская (Москва); физик и историк Дали Михайловна Сахокия
(Тбилиси); сотрудник отдела рукописей архивного сектора Баварской
Государственной библиотеки (Мюнхен), д-р Нино Нодиа; архивист
Национальной парламентской библиотеки Грузии им. И. Чавчавадзе (Тбилиси)
Натия Кобахидзе; литераторы Светлана Ивановна Горлевская, Юлия
Максимовна Нежная и Любовь Петровна Лебедева ( Москва); журналист
Светлана Валентиновна Калиновская (Киев).
Мюнхен, 23 ноября 2016 г.
Глава первая. Монашеский постриг княгиня приняла в Женеве
I.1. «Темна твоя дорога, странник...»
Годы эмиграции в Швейцарии стали заметной вехой в жизни княгини Татьяны
Константиновны и отмечены поворотным событием в ее дальнейшей судьбе.
Женева, где в годы вынужденной эмиграции поселилась и жила с детьми
Татьяна Константиновна, исторически считался протестантским и был
известен в Западной Европе как «Протестантский Рим». Подобную
характеристику этого города привел Федор Михайлович Достоевский в
письме от 1(13 января ) 1868 года своей племяннице С.А. Ивановой :
«Женева скучна, мрачна, протестантский глупый город, со скверным
климатом...» [1]. Спроси и сегодня русского эмигранта, что он хочет иметь
за пределами покинутого Отечества, и он ответит примерно так: русскую
православную церковь, русскую библиотеку с хорошими книгами и участок
русской земли на городском кладбище. Вот и княгиню Татьяну
Константиновну, как и других православных людей из русской
эмиграции, спасали богослужения в кафедральном соборе во имя
Воздвижения Креста Господня, где в то время служил протоиерей Сергий
(Орлов), а с конца 1944 года - архимандрит Леонтий (Бартошевич).
Именно на чужбине в душе княгини зародились, день за днем крепли и
позже воплотились в жизнь мысли о монашестве. Однажды в Женеве во время
исповеди или после нее Татьяна Константиновна поведала митрополиту
Анастасию (Грибановский (1873-1965) о своем твердом намерении:
всецело посвятить себя монашеским подвигам аскетизма и благочестия.
В первые годы эмиграции княгиня, как и многие русские беженцы, жила с
полуоборотом головы назад - в прошлое, в Санкт-Петербург. Эмиграция -
трудное испытание в жизни каждого человека: «Темна твоя дорога странник,
// Полынью пахнет хлеб чужой...» (А. Ахматова.1922). Прошлая жизнь
княгини до появления в Женеве, несмотря на трагические события в России,
потери близких людей и невосполнимые личные утраты, казалась ей самой
главной. Княгине казалось, что все самое счастливое в ее жизни было
только до эмиграции, там - в России. А здесь, на швейцарской земле, с
чужим звоном церковных колоколов, будущее ей и вовсе не представлялось.
Оно все же, наверно, было там, в далекой России... Впрочем, это были
типичные симптомы весьма распространившейся на чужбине «болезни»
каждого русского человека из «белой эмиграции», избавлявшегося от
ностальгии по прошлому и постепенно адаптировавшегося к новым условиям
жизни.
В середине 40-х годов под влиянием митрополита Анастасия княгиня Татьяна
Константиновна начала серьезно готовиться к принятию монашества,
занимаясь чтением духовной литературы и духовным самоочищением.
Вспоминала ли Татьяна Константиновна, готовясь к «генеральной» исповеди и
личным беседам с владыкой Анастасием основные вехи своей жизни в
императорской и послереволюционной жизни в России, а также все детали и
мельчайшие факты из своей биографии, из жизни родных и близких, кому
отправляла свои письма? - Несомненно! Ходила ли княгиня в одиночестве и
раздумьях по женевским улицам, находилась ли одна дома или вместе с
гостившей иногда у нее сестрой княжной Верой Константиновной - везде
Татьяна Константиновна мысленно расплетала кружево своей длинной жизни и
предавалась воспоминаниям о том, какими невыносимо трудными были для
нее дорога из России на Запад, а также первые годы эмиграции. Тогда
рядом с нею находились державшиеся за обе ее руки маленькие дети и
шедший позади с тяжелой поклажей ее второй супруг. Наедине она нежно
звала его: «Саса»...
Литература
[1]. Достоевский Ф. М. ПСС,том 28. Книга вторая. Письма. 1860-1868. - Л.: Наука, 1985, с. 252.
I.2. Полковник Александр Короченцов - «первая любовь» княгини
Полковник царской армии Александр Васильевич Короченцов (17 августа 1877
- 6 февраля 1922) был старше Татьяны Константиновны на 13 лет. Он
давным-давно знал свою возлюбленную и называл ее в браке нежным словом
«Тусь», как звали ее в княжеской семье родные братья и сестра Вера.
Александр Васильевич, находясь с нею в изгнании, полюбил свою
избранницу и ее маленьких детей, по-отцовски и ласково называя их
«Муразиком» (Теймураз) и «Натусей» (Наталия).
Кто он, этот второй супруг Александр Васильевич Короченцов? Его имя
часто встречается в дневниковых записях великого князя Константина
Константиновича. О нем можно прочитать и на страницах «Придворного
календаря на 1915 год», переизданного недавно (2015) в Москве А.
Крыловым-Толстиковичем, в книге Волкова С. В. «Офицеры Российской
гвардии» (М., 2002), на сайте «Русская армия в Великой войне». Из этих
источников можно выяснить следующее: Александр Васильевич, как и его
родной младший брат Алексей (1879 - после 1928 ?), был родом «из
дворян Области Войска Донского» и вырос в генеральской семье. Он был
сыном генерала-лейтенанта в отставке Василия Петровича Короченцова и
Марии Константиновны, урожденной Номикосовой. Окончил в
Санкт-Петербурге Пажеский корпус, в 1898 году стал корнетом в
лейб-гвардейском Конно-гренадерском полку, которым командовал великий
князь Дмитрий Константинович.
В 1902 году он выполнял функции поручика, а спустя четыре года -
штаб-ротмистра. Через год, 13 февраля 1903 года, в Зимнем Дворце
принял участие в грандиозном по тем масштабам костюмированном балу («Бал
1903 года») - последнем балу императорской России. Лучшие российские
фотографы были приглашены на этот бал, и благодаря их фотоработам
можно представить многих участников того события, в том числе и
Александра Васильевича, но в карнавальном костюме. К сожалению,
исследователям еще не удалось найти личную фотографию Короченцова
А.В., а тот единственный фотоснимок, что нынче «гуляет» на страницах
в Интернете и изображает его на празднике в 1903 году, не
заслуживает доверия, так как еще не проверялся (2016 г.) опытными
экспертами.
С мая 1907-го и по конец января 1911 года Короченцов А. В. заведовал
двором великого князя Константина Константиновича, а потом (1911 -
1912) управлял делами великого князя Дмитрия Константиновича [1].
Имеются данные, что Короченцов А.В. имел несколько наград: Орден Св.
Станислава 2-й степени (1908); греческий «Орден Спасителя» (1909);
Орден Св. Владимира 4-й степени (1912); медаль «В память 100-летия
Отечественной войны 1812 г.»; медаль «В память 300-летия царственного
дома Романовых».
...В свои молодые годы Александр Короченцов был всеобщим любимцем в
семье великого князя Константина Константиновича, написавшего однажды о
нем в дневнике : «Все мы, и жена, и я, и дети, не говоря уже про Митю
крепко полюбили Короченцова, он просто врос нам в сердце, как родной...»
[2]. Княжеские дети называли Александра Короченцова «Саса», подражая
Георгию (т.е. князю Георгию Константиновичу. - Примечание автора), не
умевшему отчетливо произнести «Саша» [3]. Короченцова считали
«воспитателем» княжеских детей. Семнадцатилетняя княжна Татиана даже
влюбилась в него, что не на шутку тогда встревожило ее родителей,
особенно сердце матери - великой княгини Елизаветы Маврикиевны, о чем
писал отец: «Наша Татиана на Иматре опять созналась жене, что продолжает
любить Короченцова» [4]. Тогда мудрый князь решил, что не стоит
«придавать значения чувству девочки». В 1907 году родители намеревались
отправить детей «поговеть на Валаам», но вовремя вспохватились: эта
поездка не могла обойтись без сопровождения ... Короченцова. Вновь
забеспокоилось сердце великой княгини Елизаветы Маврикиевны:
наверняка на Валааме «Татиана постоянно будет с ним» [5]. А
рассудительный отец под влиянием супруги подумывал принять и такое
решение: «Если придать значение чувствам Татианы, Короченцова надо бы
удалить...» [6]. Однако, этого все-таки не случилось, и, как говорят в
народе, Господь судил иначе.
...Прошло почти десять лет, многое изменилось в России, ушли из жизни
любимые отец и первый муж Татьяны Константиновны, и вот уже
«воспитателя» Александра Короченцова беспрекословно слушались и
маленькие дети Татьяны Константиновны Теймураз и Наталия. Дети росли
очень «непослушными», о чем молодая и беспомощная мать рассказывала
только своим самым близким. О «шалуне Муразике», «припадках ярости»
Натуси, о «бессилии» перед детьми Татьяна Константиновна упоминала
и в письмах лучшей подруге - великой княгине Татьяне Николаевне (1897 -
1918), второй дочери императора Николая II и императрицы Александры
Федоровны. «Бебяшки (т.е. детки. - Примечание автора) страшно
непослушны, Мураз до невыносимости ленив, а Натук устраивает скандалы с
яростными криками «не хочу». Что мне с ними делать? А я, гадкая, злюсь
на них, но все-таки y очень счастлива, что у нас одна общая комната.
Когда я делаю замечание дочке - Мураз меня передразнивает. На что это
похоже? Но несмотря на то, что это ни на что не похоже, меня это иногда
смешит, хотя я и сержусь.», - признавалась Татьяна Константиновна в
письме от 18 февраля /3 марта нов[ого стиля] 1918 года [7]. Ласковые,
материнские слова почти не действовали на сына. Подросшему мальчику
совсем не нравилась обращения матери и сестры «Муразик» или «Мураз»,
вероятно, напоминавшие ему кошачьи или собачьи клички «Мурзик» или
«Мурочка», поэтому он с криком прерывал всех : «Я - Ба-гра-ти-он!».
Когда никто из взрослых не мог успокоить расшалившихся малышей и
уложить их вечером спать, то Татьяна Константиновна звала на помощь
только Александра Васильевича: дети его «страшно любят». Он был
единственным из тех немногих в ее окружении, кто имел такие авторитет
и влияние на детей, что только при появлении фигуры Александра
Васильевича «в детской водворялся мир» [8].
Вскоре преданный адъютант князя Дмитрия Константиновича Александр
Васильевич Короченцов в звании полковника стал «телохранителем»
Татьяны Константиновны и позже - отчимом двух маленьких детей. Он
был всегда где-то рядом с Татьяной Контантиновной и другими членами
семьи Константиновичей, особенно в дни трагических событий мятежного
1917 года, когда уцелевшие представители Дома Романовых вынуждены были
эмигрировать из страны. Они с тяжелыми мыслями и со слезами покидали тот
благословенный мир, к которому они прежде принадлежали и так
неожиданно рухнувшему прямо на их глазах. Вдовствующую Татьяну
Константиновну с детьми тоже не миновала эмиграция, и ей суждены были
нелегкие скитания вдали от дорогой ее сердцу Российской земли. Вывозить
вдову с двумя малолетними детьми в еще не занятый в то время
большевиками Киев решился - Александр Васильевич Короченцов.
Оценив осложнившуюся тогда на Украине ситуацию, беженцы отправились из
Киева в Одессу. Далее их трудный путь на Запад пролегал через
Бухарест, где они временно пребывали в гостях у кузины, королевы Марии
(Эдинбургской) (Мария Александра Виктория (1875-1938) принцесса
Великобритании, с 1914 года - королева-консорт Румынии, жена короля
Фердинанда I). Предположительно, наши российские беженцы могли жить в
Бухаресте «в старом королевском дворце на престижной в те времена улице
«Calea Victoriei». Возможно, они выезжали с королевой Марией и в ее
резиденцию «Castelul Peli;or» (замок Пелишор) в городе Синая,
подсказал в 2015 году в Бухаресте автору этих строк один из
консультантов Национального архива Румынии. От королевы Марии княгиня
Татьяна Константиновна хотела узнать политическую обстановку на Западе и
посоветоваться - куда держать дальше путь: в Сербию, Италию, Францию
или все-таки - в Швейцарию?
В утомительной дороге на Запад беженцы узнали о страшном злодеянии,
совершенном в июле 1918 года в Алапаевске: три родных брата Татьяны
Константиновны - князья Иоанн Константинович (1886-1918); Константин
Константинович (20 декабря 1890-1918) и Игорь Константинович
(1894-1918) убиты в ночь на 18 июля под Алапаевском. Можно понять всю
глубину горя и страданий княгини Татьяны Константиновны. И можно
только представить, как в такой длинной дороге на Запад утешал и
успокаивал княгиню ее верный друг Александр Васильевич, подыскивая
для нее нужные и нежные слова.
Современные исследователи называют в своих работах Короченцова А. В. в
трудные годы скитаний княгини ее «надежным другом и опорой», «верным
спутником», «преданным другом» и «первой любовью». Находившийся всегда
рядом Александр Васильевич не только охранял, но и нежно заботился о
Татьяне Константиновне, оказывая поддержку ей и двум малышам. Женское
сердце вдовы и ее душа привязались к надежному спутнику по эмиграции.
Княгиня давно заметила, что к дяде «Сасе» давно привыкли и полюбили
его маленькие дети, нуждавшиеся не только в материнском, но и в мужском
воспитании - особенно Теймураз.
Наконец-то Татьяна Константиновна, так нуждавшаяся в опоре на
мужское плечо и вспомнив одобрительные взгляды и слова кузины, королевы
Марии, решила связать свою дальнейшую судьбу с Александром
Короченцовым. 9 ноября 1921 года они очень скромно и незаметно для
посторонних глаз обвенчались. Однако счастливыми супруги были в
эмиграции совсем недолго: второй муж неожиданно заболел дифтеритом и 6
февраля 1922 года скончался в Лозанне «от паралича сердца».После
похорон Татьяне Константиновне вновь пришлось воспитывать и ставить на
ноги детей совсем одной. «О одиночество, как твой характер крут!»
(Белла Ахмадулина). Сыну тогда было 10 лет, а дочери - всего восемь.
Литература
[1]. См.: Дневник великого князя Константина Константиновича.1907-1909 гг. - М., 2015, с.191.
[2]. Там же, с.15.
[3]. Там же.
[4]. Там же.
[5]. Там же, с.16.
[6]. Там же.
[7]. См.: Княжна императорской крови Татьяна Константиновна (1890†1979):
Биография и документы /Состав. Т.А. Лобашкова. - М., 2015, с. 267.
[8]. Там же, с. 82
I.3. «Всегда носить в сердце Христа»
Княгиня Татьяна Константиновна старалась стойко переносить в эмиграции
все обрушившиеся на ее плечи невзгоды. Через пять лет после смерти
Александра Васильевича - новый удар для княгини: 11/24 марта 1927 года в
Саксонии (Германия) скончалась ее любимая мать («Мусь») - великая
княгиня Елизавета Маврикиевна ( род. в 1865). На германской земле ее
называли «урожденной принцессой Саксен-Альтенбургской». Елизавета
Маврикиевна вместе с дочерью Верой, сыном Георгием и двумя внуками в
1918 году выехала в Германию, где жила до конца своих дней и похоронена в
Альтенбурге.Еще один удар для княгини: 7 ноября 1938 года в Нью-Йорке
скончался после неудачно проведенной операции по удалению аппендицита
младший брат Татьяны Константиновны - князь Георгий Константинович (род.
в 1903).
Все оставшиеся в живых родственники сочувствовали и очень жалели
овдовевшую во второй раз Татьяну Константиновну. Эмигрантская жизнь с ее
вечными мытарствами посылала Татьяне Константиновне немало других
горестных испытаний, какие ей уже выпадали и в России. Но они только
закаляли княгиню, с молодых лет не любившую, чтобы ее жалели окружающие.
В письме от 28 декабря 1916 года она писала овдовевшей три года назад
великой княгине Ольге Константиновне («Тетя Оля», «Теоля» - так
называла Татьяна Константиновна княгиню Ольгу Константиновну. -
Примечание автора): «...Не жалей, что я больна и что неприятности, все к
лучшему, у кого их нет и, пожалуй, с неприятностями мы были бы не более
счастливы» [1] .
В горестные минуты Татьяна Константиновна всегда вспоминала слова
сочувствия и поддержки со стороны академика А.Ф. Кони, однажды после
смерти отца навестившего ее на Каменном Острове, что на окраине
Петрограда: «...Конечно, Вы всегда носите в сердце Христа, как Ваш отец
всегда Его носил..» [2]. При одной этой мысли «всегда носить в сердце
Христа» высокая и стройная княгиня «в минуты жизни трудные», когда
наваливалось на нее новое горе, поднимала так рано поседевшую голову,
расправляла согбенные плечи, молилась перед иконами и осеняла себя
крестом, по-христиански оценивая все жизненные ситуации, казавшуюся ей
сначала почти неразрешимыми. Княгиня после проповедей протоиерея
Сергия и чтения духовной литературы отчетливо сознавала, что
совокупность тех невзгод, печалей, потерь и всяких трудностей в
эмигрантской жизни и образовали, «срубили» ей своеобразный «жизненный
крест». И его, такой тяжелый, надо добровольно и безропотно нести, ибо
без него не будет спасения ее души. Как православная христианка Татьяна
Константиновна понимала, что совокупность всех ее жизненных проблем и
там, в России, и здесь, в Швейцарии, отличалась своей неповториостью.
Княгиня Татьяна Константиновна без ропота приняла свой «жизненный
крест» и добровольно несла его к «своей Голгофе».
Всегда и везде, когда у Татьяны Константиновны были тяжелейшие моменты в
жизни, она черпала силы в покаянии, исповеди, причащении Святых Тайн и
чтении духовной литературы, особенно - жития и наставлений прп. Серафима
Саровского: «...когда мне бывает тяжело или уныло, то меня тянет
почитать про Св. Серафима Саровского и когда стану читать его житие, то
такая тишина, такая благодать наполняет душу и сам он делается столь
близок душе. И он так скоро отвечает на молитвы» [3] . Духовное чтение
помогало Татьяне Константиновне достойно преодолевать все выпадавшие на
ее жизнь невзгоды. Все свободные минуты княгиня посвящала чтению книг
святых отцов. Она обращалась к ним особенно в те минуты, когда ее
угнетали всякие заботы, когда в душу временами проникало тоскливое
настроение или утомляла мирская суета в Женеве. Вспоминаются строки еще
из одного ее письма, где она с восхищением отмечала: «Замечательная
книга Иоанна Златоуста о воспитании детей, читаешь и удивляешься,
неужели это не нынче написано...» [4]. Чтение книг наполняло ее духовной
жизнерадостностью и любовью к молитвам, питало княгиню надеждой на
Божие милосердие и Его заботу о ней и ее подрастающих детях.
Однажды в Швейцарии после всего пережитого в России и на чужбине Татьяна
Константиновна навсегда для себя решила, что ее светская жизнь должна
быть закончена: не завтра, а сегодня и сейчас... С того дня ее стали
интересовать только воспитание в православной вере детей, духовное
чтение, дела православной церкви и благотворительная помощь общине
Крестовоздвиженского кафедрального собора в Женеве.
Татьяна Константиновна была известна в приходе как очень скромная
русская княгиня и деятельная прихожанка, отличающаяся своим
христианским благочестием и преданностью Русской Православной Церкви
Заграницей. Она ревностно относилась ко всем большим и малым событиям в
жизни прихода, заботилась о его нравственном и материальном
благополучии, всегда помогала священносужителям, исправно вносила свой
членский взнос («самообложение») и по мере возможности жертвовала
общине свои сбережения. В приходе она выполняла функции церковного
старосты, и у нее всегда было много разных поручений и забот даже в
те дни, когда в соборе не проводились богослужения.
В «русской» Женеве все эмигранты хорошо знали, из какой известной
княжеской семьи происходила Татьяна Константиновна. Все они с
благоговением относились к памяти ее отца - великого князя Константина
Константиновича, известного им как человека глубокого религиозного
чувства. Ежегодно в январе, в день памяти святой мученицы Татианы
многие прихожане поздравляли Татьяну Константиновну с праздником ее
соименной святой. Накануне всех церковных праздников и воскресных
богослужений Татьяна Константиновна организовывала с сестричеством
уборки в храме и чистила там до блеска церковную утварь. В ее
семье, рассказывала княгиня протоиерею Сергию, все любили красивые
церковно-ювелирные изделия и особенно произведения религиозного
искусства: отец в марте 1891 года приобрел на ХIХ-й передвижной
выставке картину Н. П. Богданова-Бельского «Тайная молитва». А однажды
ее родители у искусных резчиков по дереву баварской деревни
Обераммергау, где один раз в десять лет проходит с участием всех жителей
театрализованное представление «Страсти Христовы», заказали очень
большое деревянное распятие, где «сам крест был темным, а на нем
виднелся вырезанный из белого дерева распятый Иисус»...
Как церковный староста Татьяна Константиновна стремилась к тому, чтобы
русский храм в Женеве являлся тем центром, что связывал бы в городе в
единую братскую семью всех находившихся в рассеянии русских беженцев,
хотя некоторые старые эмигранты недоверчиво относились к так называемым
«советским беженцам». В женевском соборе особенно много русских людей
присутствовало во время рождественских и пасхальных праздников. С
некоторыми русскими эмигрантами, приезжавшими по большим праздникам в
Женеву из других мест в Швейцарии, а также из Франции, княгиня
переживала «свет и звон пасхальных дней» и особые «пасхальные
настроения». Татьяна Константиновна общалась со знакомым ей еще по
России известным путешественником Кушаковым П.Г., бывавшем в доме ее
отца. Каждую пасхальную заутреню он находился в храме и потом
разговлялся в кругу прихожан и беседовал с батюшкой Сергием и с нею,
знавшей его еще по Санкт-Петербургу. Кушаков П.Г., будучи по профессии
ветеринарным врачом, выполнял обязанности судового врача в экспедиции
Седова. Он же был и автором выпущенной в 1920 году в Петрограде книги
«Два года во льдах на пути к Северному полюсу с экспедицией Г.Я.
Седова».
В праздничные дни княгиня встречалась с известным российским географом и
путешественником, исследователем Центральной Азии Петром Кузьмичом
Козловым (1863-1935). Он много рассказывал ей и батюшке о Далай-Ламе,
которому из Женевы однажды послали в подарок - «золотисто-желтого цвета
складной бювет со многими письменными принадлежностями». Задолго до
пострига Татьяна Константиновна услышала в Женеве от близко знавшего ее
отца Н. Белякова то, о чем никто не знал в семье: отец серьезно
подумывал о монашестве и даже желал посвятить ему себя. Однажды он был у
государя Александра III и «просил его разрешения поступить в монастырь.
А ответ государя был таким: «Костя, если мы все уйдём в монастырь, кто
будет служить России?» Эта история княгиню очень и очень
заинтересовала. О ней она потом рассказывала протоиерею Сергию,
митрополиту Анастасию, бывавшей у нее в гостях сестре княжне Вере
Константиновне, приезжавшим на каникулы из Сербии повзрослевшим детям
Теймуразу и Наталии.
Литература
[1]. См. раздел писем и документов в кн.: Княжна императорской крови
Татьяна Константиновна (1890†1979): Биография и документы /Сост.Т.А.
Лобашкова. - М., 2015, 222.
[2]. Игуменья Тамара. К столетию поэта К.Р. Только в отрывочных
картинках, каким я помню отца (записки его старшей дочери). - См.:
Сборник памяти великого князя Константина Константиновича Поэта КР/ Под
ред. А.А. Геринга. -Париж, 1962.
[3]. См.:Княжна императорской крови Татьяна Константиновна (1890†1979):
Биография и документы /Сост.Т.А. Лобашкова. - М., 2015, с. 260 -261).
[4]. Там же, с.80.
I.4. Калейдоскоп из «отрывочных картинок»
В 1945-46 годах в Швейцарию стал часто приезжать из Мюнхена (Бавария)
митрополит Анастасий, с кем тесно стала общалась княгиня Татьяна
Константиновна. По окончании Второй мировой войны, летом 1945 года
руководство РПЦЗ переехало в Мюнхен, и этот город на время стал
крупным центром русской церковной и общественной жизни. Татьяна
Константиновна много хорошего слышала о владыке еще со времен его
пребывания в Сербии. Однажды в Женеве митрополит Анастасий говорил ей :
«В бытность мою в Москве я много раз проезжал мимо Московского
университета и, когда заворачивал вокруг него, часто задавал себе
вопрос: кто возжег такую красивую лампаду перед образом Святой мученицы
Татианы на фасаде университета?» [1].
После некоторой паузы в разговор вступила Татьяна Константиновна:
- Я знаю. Отец после крещения детей имел благочестивый обычай
жертвовать икону и лампаду в храм и обитель соответственно имени
новорожденного дитяти. После моего крещения Отец послал лампаду к иконе
святой мученице на Московском университетом. А потом, говорил Отец, дети
так расплодились, что он не мог посылать лампад...[2].
В беседах с владыкой Анастасием княгиня Татьяна Константиновна
признавалась, что еще в отроческом возрасте она интересовалась
монашеством. Об этом позже написала в своих воспоминаниях и младшая
сестра, княжна Вера Константиновна: «Татьяна всегда была особенно
религиозной и мечты о монашестве посещали ее с отроческих лет» [3]. Это
подтверждает в своих записях и о елеонская монахиня Тамара (Хури) : « С
юношеских лет она [ княжна Татиана ] любила монашество» и «часто
посещала монастыри и присутствовала там на духовных торжествах» [4].
Татьяна Константиновна воспитывалась в княжеской семье Романовых, где
исповедовали православную веру, благородство и высокие чувства. Мать
дочерей Татианы и Веры - великая княгиня Елизавета Маврикиевна, будучи
немкой по национальности, так и не перешла в православие, поэтому до
конца жизни исповедовала лютеранство. Однако, будучи человеком глубоко
религиозным, она не препятствовала мужу, всецело преданному православной
церкви, воспитывать детей в православных традициях и «всячески его в
этом поддерживала».
В комнате у отца была установлена «во весь рост и икона
равноапостольного царя Константина» и перед нею висела на цепи
неугасимая лампада. В доме находилось и очень большое деревянное
распятие. «В молельной у отца < ... > висело много образов и всегда
теплилась лампадка. Каждый день приносили в молельню из < ... >
домовой церкви икону того Святого, чей был день» [5]. Отец требовал,
чтобы дети знали наизусть тропари двунадесятых праздников и читали их в
положенные дни.
Отец запрещал детям опаздывать на службу в церковь, а провинившиеся
получали от него «крепкие щелчки пальцами в шею». Дети понимали, судил
ли их строго отец или хвалил их - любовь его к ним была безмерна. По
вечерам, когда дети ложились спать, родители приходили к ним, чтобы
присутствовать при их молитве.
В княжеской семье, где вся жизнь была проникнута православным духом,
любили читать духовные книги, торжественно отмечали рождественские и
пасхальные праздники, а также дни именин. По большим религиозным
праздникам все дети, которых их любящий отец называл «мои гуси»,
получали подарки - Евангелия в кожаном переплете с оригинальными
позолоченными застежками. В Мраморный дворец часто приезжал исповедовать
великого князя Константина Константиновича святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский, почитавшийся уже при жизни как великий молитвенник,
чудотворец и прозорливец. К отцу Иоанну под благословение подходили все
дети, а батюшка всех гладил по головке и при этом говорил: «Вот это
благочестивые дети»...
Прошло уже много-много лет после всех этих событий, а Татьяне
Константиновне часто вспоминались и даже не в хронологическом порядке
многие и другие истории в ее детские, отроческие и молодые годы. Это
был своеобразный калейдоскоп из «отрывочных картинок». ...Летом 1901
году княжна Татиана вместе с семьей жила в Калужской губернии и часто
бывала в Оптиной Пустыни и Шамордино. Отец семейства заботился о том,
чтобы его дети знали и воочию видели знаменитые русские святыни,
известные монастыри и церкви. А в 1908 году княжна Татиана вместе со
всей семьей совершила в сопровождении знатока русской старины В.Т.
Георгиевского большое путешествие по Волге с целью «осмотра русских
древностей».
В 1914-1915 годах после потери трех близких людей Татьяна
Константиновна всю свою любовь решила посвятить Богу и детям. После
смерти в 1915 году первого мужа - князя Константина Александровича
Багратион Мухранского она ездила по монастырям - в Дивеево, Саров,
Оптину пустынь, Шамордино, где встречалась со старцем иеросхимонахом
Анатолием, общалась со «слепой игуменьей Ефросинией» и с монахиней
Гавриилой. После пребывания в Оптиной пустыни и проведенных там духовных
бесед с известными в то время проповедниками она ежедневно обращалась к
поучению Оптинских старцев, повторяла в уме их поучительную молитву и
сама училась молиться по четкам. Оптинские старцы являли для княгини
пример того, как правильно и по-христиански относиться к смерти близких
людей, к многочисленным скорбям и искушениям. Последних было немало и у
княгини.
Литература
[1]. Игуменья Тамара. К столетию поэта К.Р. Только в отрывочных
картинках, каким я помню отца (записки его старшей дочери). - См.:
Сборник памяти великого князя Константина Константиновича Поэта КР/ Под
ред. А. А. Геринга. -Париж, 1962.
[2]. Там же.
[3].См.: Княжна Вера Константиновна. Константиновичи.- В ж.: Кадетская перекличка, 1972, № 3.
[4]. См.: Тамара (Хури), монахиня. Жизнь Свято-Вознесенского женского
монастыря с 1951 по 1975 гг.- Машинописная рукопись ( копия) из личного
архива иподиакона Николая Петрова ( США).
[5]. Игуменья Тамара. К столетию поэта К.Р. Только в отрывочных
картинках, каким я помню отца (записки его старшей дочери). - См.:
Сборник памяти великого князя Константина Константиновича Поэта КР/ Под
ред. А.А.Геринга. -Париж, 1962.
I.5. «Оторванные листья от могучего дерева»
В Женеве митрополит Анастасий, имевший в Русской Церкви репутацию
одного из лучших проповедников, пользовался у Татьяны Константиновны
большим авторитетом и уважением. Вместе с прихожанами она с
воодушевлением воспринимала его яркие проповеди, где владыка говорил о
любви к Богу, о жизни Русской Православной Церкви Заграницей и ее
заботах о рассеянных по всему миру чадах. Митрополит Анастасий
рассказывал прихожанам обо всех текущих и важных событиях в церкви, в
частности, о Венском совещании епископов РПЦЗ в октябре 1943 года и о
принятой на нем резолюции, призывавшей «установить моления о помощи
Божией для освобождения России от большевистско-коммунистического ига».
Весной 1946 года в Крестовоздвиженском соборе митрополит Анастасий
возвел в сан епископа Сантьягского и Чилийского архимандрита Серафима
(Иванов), с которым познакомилась княгиня Татьяна Николаевна. Митрополит
Анастасий представил ей и тех епископов, кто ему прислуживал во время
хиротонии - епископа Монреальского и Канадского Иеронима (Чернов) и и
епископа Брюссельского и Западноевропейского Нафанала (Львов). Беседуя с
ними наедине, Татьяна Константиновна еще один раз услышала от них,
каким ярким подвижником является в лоне Зарубежной Церкви владыка
Анастасий. Княгиня знала о его большой деятельности в Сербии,
особенно в русском Белграде. В этом городе благодаря финансовой
поддержке короля сербов, хорватов и словенцев (с августа 1921 года)
Александра I Карагеоргиевича ( 1888-1934 ), ставшего в октябре 1929 года
королем Югославии, был открыт «Русский дом имени Государя Николая
Александровича». В нем при духовной поддержке владыки Анастасия
действовали «Миссионерские курсы по борьбе с безбожием», религиозные
кружки молодёжи, проводились религиозно-нравственные чтения и
собеседования, устраивались разные церковно-юбилейные торжества. Здесь
находились также детский сад, мужская и женская гимназии, поликлиника,
передвижная церковь для гимназистов и прихожан. В церкви часто служил и
сам владыка Анастасий. Его деятельность высоко ценил король Александр I.
В свою очередь и владыка благодарил короля за покровительство над
многими несчастными людьми, бежавшими из России.
Король Александр I гостеприимно открыл им двери в Югославию и
предоставил им возможность здесь жить и работать. «Но вечно жалок мне
изгнанник, // Как заключенный, как больной...» (А.Ахматова.1922). Король
оказывал всякие услуги по сохранению русской культуры в эмиграции,
помогал деньгами некоторым русским литераторам. На его личные средства
содержались школы и пансионы для детей русских беженцев. Король образно
называл их «оторванными листьями от могучего дерева». Ему же
принадлежат и такие слова, обращенные к сербам: «Помните всегда, что
есть в мире народ, который пожертвует всем для духовных благ, и этот
народ - русские». Однако в отношении большевиков король занимал
непримиримую позицию, категорически отказывался их признавать и не
допускал открытие советского посольства в своей стране.За свои взгляды
король Александр заплатил жизнью: 9-го октября 1934 года во время
посещения Франции он погиб в Марселе от выстрелов наемного убийцы.
Трагическая гибель короля Александра была большой утратой для
сербского народа, русских изгнанников и, конечно, для владыки
Анастасия и княгини Татьяны Константиновны. С княжной Верой
Константиновной и со взрослыми детьми княгиня присутствовала в
октябре 1934 года на похоронах короля Югославии Александра I
Карагеоргиевича. Об этом свидетельствует и сохранившаяся фотография,
оригинал которой, вероятно, хранится в Тбилисском архиве [1].
...Ныне можно только гадать читателю, рассказывала или не рассказывала
княгиня Татьяна Константиновна своим взрослым детям и митрополиту
Анастасию о давней-давней истории с одним «молодым искателем ее
руки», каким был... сербский принц Александр, хорошо выучивший русский
язык. В свои молодые годы король (тогда принц) Александр окончил в
1906 году в Санкт-Петербурге Пажеский корпус, был знаком с великим
князем Константином Константиновичем, знал всех членов княжеской семьи, в
том числе и юную княжну Татиану. Он очень симпатизировал княжне и хотел
просить ее руки.
В Государственном архиве Российской Федерации, в фонде императора
Николaя II Александровича (Фонд 601) московский историк и архивист
Лобашкова Т.А. обнаружила рукопись «Письма барона Карла Карловича
Буксгевдена (1856-1935) великому князю Константину Константиновичу»,
датированного 10 июнем 1909 года [2]. В тексте этого послания, имеющего
гриф «секретно», сообщается, что «Король Сербский» (Петр I
Карагеоргиевич; 1844-1921. - Примечание автора) выразил пожелание о
«соединении Ее Высочества Княжны Татианы Константиновны узами брака с
наследным принцем Сербским Александром» [3]. Однако предложение о
замужестве было деликатно отклонено великим князем Константиновичем и
самой княжной Татианой.
В другом письме П.Е. Кеппена от 22 июля 1909 года на имя великого князя
Константина Константиновича сообщается, что сербское предложение о
заключении брака содержит в себе «кроме брачных стремлений и чисто
политическое искание опоры шаткому трону в родственной связи с
Российским Домом». И далее - «было бы прискорбно, если бы у Татианы
Константиновны явилось истинное чувство к молодому искателю Ее руки»
[4]. В итоге сербский принц Александр, преследовавший княжну в ее
поездке по Италии, успокоился и женился на другой знатной особе из
Румынии, но на всю жизнь сохранил добрую память о великом князе
Константине Константиновиче и о его детях, часто потом гостивших в
балканской стране...
Княгиня Татьяна Константиновна очень ценила добрые дела короля
Александра I, помогавшего русским беженцам - «оторванным листьям». К
таким же «оторванным листьям» причисляла она и себя, и своих детей. В
первые годы эмиграции как мать она заботилась о том, чтобы сын и дочь
не теряли русский язык, она терпеливо растила их, желала дать им
русское образование, дожидаясь тех дней, когда Теймураз и Наталия станут
вполне самостоятельными. Ко времени близкого знакомства и общения
княгини с митрополитом Анастасием ее дети стали уже совсем взрослыми.
Они окончили учебу в Сербии и потом разъехались в разные страны. Сын
Теймураз в 1923-1927 годах учился в женевской школе-интернате для
мальчиков на Avenue d'Aire, а через два года - в колледже швейцарского
Фрейбурга (Фрибур). Мать получала от педагогов сына очень хорошие
письменные отзывы, хранящиеся ныне в Тбилисском архиве.
Дочь Наталия росла высокой (выше мамы!) и стройной девочкой и увлекалась
языками, русской литературой и любила украшения с крупными драгоценными
камнями. Татьяна Константиновна согласилась, чтобы с целью продолжения
дальнейшей учебы ее дети переехали из Женевы в сербский город Белая
Церковь (Бела Црква), ставшим после революционных событий в России
прибежищем многих русских беженцев. Сюда в 20-е годы переехал ряд
русских учебных заведений, в том числе и сводный кадетский корпус из
Киева, Одессы, Полоцка и Крыма, получивший в 1929 году наименование
«Великого князя Константина Константиновича Первый русский кадетский
корпус». Этому корпусу тоже покровительствовал король Александр I.
Теймураз объявил матери, что он, как и его родной отец, решил выбрать
военную карьеру и с 1927 года стал учиться военному делу в кадетском
корпусе, где получил войсковое звание лейтенанта югославской армии.
Из Женевы княгиня Татьяна Константиновна вместе с сестрой - княжной
Верой Константиновной ездила в 30-е годы в город Белая Церковь, где
навещали учившихся там уже взрослых детей Наталию и Теймураза,
встречались с воспитанниками кадетского корпуса во главе с Адамовичем
В.А., служившего в императорской России под началом великого князя
Константина Константиновича.
Одна из редких фотографий, хранящейся ныне в фонде Тбилисского архива,
запечатлела преподавателей кадетского корпуса, княгиню Татьяну
Константиновну, ее взрослых детей Наталию и Теймураза. Княгиня Татьяна
Константиновна навещала кадетов вместе с сестрой, княжной Верой
Константиновной.
В 1932 году Теймураз написал на сербохорватском языке прошение к
военному министру Югославии о зачислении его в военную академию. Здесь
же он сообщил, что «как сын Ее Высочества княгини Татьяны и внук
великого князя Константина Константиновича не может сменить подданство»
[5]. В том же году он продолжил образование в югославской Военной
академии, а по завершении учебы около десяти лет служил в гвардейском
Конно-артиллерийском полку югославской армии.
Татьяна Константиновна одобрила и планы дочери Наталии, поступившей в
Белой Церкви на учебу в Мариинский Донской институт, находившийся под
покровительством королевы-консорт Югославии Марии (1900-1961). Позже
мать не возражала и против других, новых планов дочери, решившей по
окончании учебы в институте переехать на постоянное место жительство в
Великобританию. По данным английских исследователей, Наталия сначала
нашла там работу в одном из
лондонских магазинов.
Литература
[1]. Архив Теймураза Константиновича Багратион-Мухранского (закрыт) в
Национальной парламентской библиотеке Грузии им. И. Чавчавадзе
(Тбилиси).
[2]. См.:Княжна императорской крови Татьяна Константиновна (1890†1979):
Биография и документы /Сост.Т.А. Лобашкова. - М., 2015, с. 404 - 406.
[3]. Там же, с.404.
[4]. Там же, с.407.
[5]. Архив Теймураза Константиновича Багратион-Мухранского в
Национальной парламентской библиотеке Грузии им. И. Чавчавадзе
(Тбилиси).
I.6. Княгиня и типографское Братство Преподобного Иова Почаевского
Начиная с 20-х годов и вплоть до окончания Второй мировой войны,
волны блуждающих по Западной Европе первых русских эмигрантов и «новых»,
«советских» не изменили даже на один процент религиозную картину
протестантской Женевы. В середине 40-х годов в городе временно пребывала
часть монастырской братии эвакуированного из Ладомировой (Владимирова;
Чехословакия) типографского Братства Преподобного Иова Почаевского. 18
мая 1945 года более десяти монашествующих перебрались из баварского
Мюнхена в Женеву, где временно было устроено подворье Братства.
Митрополит Анастасий познакомил Татьяну Константиновну с монахами
Братства. В его числе были те, кто позже стали известными деятелями
церкви Русского Зарубежья: епископ Серафим (Иванов); бывший валаамский
инок, игумен и духовник братства во Владимировой Филимон (Никитин);
иконописец, иеромонах Киприан (Пыжов); игумен Никон (Рклицкий);
иеромонах Антоний (Медведев); игумен Антоний (Ямщиков); архидиакон
Сергий (Ромберг); послушник Николай (Гаманович); послушник Василий
(Шкурла); послушник Василий (Ванько); иеромонах Серафим (Попов);
архидиакон Нектарий (Чернобыль); архидиакон Пимен (Качан).
К сожалению, в современной Женеве служителям Крестовоздвиженского
кафедрального собора мало что известно об этом Братстве, «снимавшем один
из домов в квартале О-Вив (Eaux-Vives) возле Женевского озера, где у
монахов была устроена и комната-часовня» (из письма диакона Владимира
Свистуна автору этих строк в октябре 2016 года.). Известно, что еще с
ноября 1854-го и до сентября 1866 года в том же частном доме в О-Вив
проводили православные богослужения протоиерей Арсений (Судаков) и
Афанасий (Петров). В доме, где жила Иово-Почаевская братия, находилась
старая часовня, в ней и совершались ежедневные монастырские
богослужения. Во все праздничные дни братия ходила на богослужение в
Крестовоздвиженский храм, где Татьяна Константиновна была церковным
старостой. Княгиня и сама часто приходила на утренние и вечерние
богослужения в часовню, где очень сблизилась со всеми членами братства,
часто беседовала с монахами и знакомилась с особенностями монастырской
жизни в РПЦЗ.
Иногда вся братия или отдельные монахи бывали в доме Татьяны
Константиновны (адрес его пока не удалось установить.-Примечание автора)
и работали в прилегающем к нему садовом участке, а потом все вместе
сидели за трапезой. Татьяна Константиновна, с детства говорившая на
французском и немецких языках, помогала по объявлениям в газетах и через
своих женевских знакомых найти хоть какую-нибудь работу членам
братства. Нередко и сама помогала им деньгами, заботилась о пропитании
монашествующих, посещала с архидиаконом Нектарием (Чернобыль) местных
врачей, выявивших у него туберкулез, ходатайствовала о проведении
лечения в одном из швейцарских санаториев.
Втайне от прихожан княгиня постепенно готовилась к принятию монашества
и уходу в монастырь. Татьяна Константиновна обращалась с просьбами к ее
близким людям и некоторым прихожанам продать в городе за любые деньги
некоторые ее ювелирные украшения, предметы домашнего обихода и личные
вещи. Часть вырученных денег она оставляла себе, часть жертвовала в
кассу прихода и осевшему в Женеве до середины декабря 1946 года
Иово-Почаевскому братству. Чтобы его содержать в городе, монахи и
послушники, почти не владевшие иностранными языками, где-то и как могли
подрабатывали, получая за свой труд небольшие деньги. Их приглашали
выполнять некоторые домашние работы и прихожане женевского собора, а
также, как говорят в народе, «знакомые их знакомых».
Например, «послушник Василий (Шкурла; позже -архиепископ Лавр
Сиракузский и Троицкий, настоятель Св. Троицкаго монастыря и ректор
Свято-Троицкой Духовной Семинарии, митрополит РПЦЗ. - Примечание автора)
трудился помощником часовщика, за что получал всего 5 франков в день.
Его хозяйка-работодательница подарила старательному 18-летнему
послушнику Священное Писание на французском языке, который тогда усердно
изучал Василий. Эта Библия всегда присутствовала при нем. Исполняя
возложенное на него послушание, сначала послушник Василий, а позже -
известный митрополит Лавр до конца жизни читал по-французски по одной
главе из Евангелия» ( из устного рассказа архиепископа Женевского и
Западно-Европейского Михаила; Донсков; род. в 1943 г.).
К середине декабря 1946 года в Женевском кафедральном соборе стало
известно, что все монахи Иово-Почаевского братства срочно переезжают в
США, в Джорданвилль.
I.7. Княгиня принимает постриг. Инокиня Тамара покидает Женеву
Во время одной из встреч с митрополитом Анастасием Татьяна
Константиновна откровенно сказала ему, что к исходу 1946 года она уже
окончательно уладит все свои «земные дела». Ее материнское сердце уже
успокоилось: у взрослых детей, кажется, все будет в порядке. Господь
все уладит, говорила себе княгиня.
...В конце октября 1940 года Теймураз Константинович вступил в Белграде в
брак с Екатериной Рачич (1919-1946) - внучкой известного сербского и
югославского политика и дипломата Николы Пашича (1845-1926). У Татьяны
Константиновны усугубились переживания за дальнейшую судьбу неожиданно
овдовевшего сына: в декабре 1946 года в пригороде французской столицы
Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) его супруга безвременно скончалась от
воспаления легких. Потомства у супружеской четы не было. Имеется
информация о том, что Теймураз Константинович участвовал во Второй
мировой войне и вместе с югославскими военными воевал против фашистской
Германии, работал в посольствах Югославии во Франции, Англии и
Швейцарии. В том же 1946 году по инициативе младшей дочери и
основательницы Толстовского фонда Александры Львовны Толстой (1884-1979)
Теймураз Константинович вошёл в состав администрации Толстовского фонда
и навсегда переехал в США.
А дочь Наталия, по некоторым данным, в самом конце 30-х годов была
помолвлена с британским военным - лейтенантом Кристофером Фернесом,
погибшим в 1940 году. Особые внешние данные молодой княжны Наталии
Константиновны, имевшей русские и грузинские корни, привлекли внимание
лондонских мастеров художественной фотографии. Три искусно выполненных
фотопортрета молодой Наталии Константиновны хранятся ныне в лондонской
Национальной портретной галерее (National Portrait Gallery). К слову,
здесь находятся фотоэкспонаты, увековечившие исключительно образы
британских граждан. Этот музей коллекционирует работы не столько
известных мастеров фотографии, сколько изображения знаменитых британцев.
Говорят, портретов представителей других народов в собрании музея почти
нет, а вот фотопортреты княжны Наталии Константиновны стали
исключением.
В 1944 году дочь Наталия вышла замуж за молодого и перспективного
британского дипломата, поэта и переводчика сэра Чарльза
Хепбёрн-Джонстона (Charles Hepburn-Johnston; 1912 -1986) и уехала с ним в
Испанию. Здесь супруг Наталии служил вторым секретарем британского
посольства. Дочь писала Татьяне Константиновне, что ее супруг Чарльз
неожиданно проявил интерес к русской культуре, особенно к классической
литературе ХIХ века. Супруги уже вместе работали над литературными
переводами с русского языка на английский.
Это откровенно радовало Татьяну Константиновну: дочь пошла по стопам
своего знаменитого деда! Она напомнила Наталии и Чарльзу, что великий
князь Константин Константинович писал не только духовные стихи и
сочинял драмы, но еще и осуществил в свои зрелые годы перевод
шекспировского «Гамлета» со старинного английского языка на русский и
читал его вслух супруге и детям. Репетиции Гамлета проходили в Мраморном
дворце, а спектакли в Эрмитажном театре [1].
В декабре 1946 года в Женеве произошло знаковое событие в жизни
56-летней Татьяны Константиновны: она навсегда оставила мирскую жизнь и
приняла монашество с именем Тамара, воплотив в своей судьбе то, что
когда-то помышлял о ее отец - великий князь Константин Константинович.
По воспоминаниям некоторых членов Иово-Почаевского братства, «все
монахи присутствовали на постриге княгини Татьяны Константиновны,
получившей новое имя Тамара. Постриг совершал в Женевском соборе
Воздвижения Креста Господня митрополит Анастасий». Задолго до этого
знаменательного события владыка слышал из уст княгини Татьяны
Константиновны, что в России она однажды получила в подарок от матери
Елизаветы Маврикиевны небольшую книгу ученого-востоковеда, академика
Императорской академии наук Николая Яковлевича Марра (1864/1865 - 1934)
«Царица Тамара, или Время расцвета Грузии. XVII век». Запомнил владыка и
то, что молодая княжна Татиана читала этот профессорский труд как
молитвенник, рассматривая на иллюстрации тонкое лицо грузинской
царицы. Она почти физически ощущала ее душу [2]. Приняв долгожданный
постриг в Женеве, инокиня Тамара навсегда связала свою судьбу с
небесной покровительницей - святой царицей Тамарой Грузинской
(†1207/1213), чьи последние годы жизни проведены якобы в пещерном
монастыре Вардзиа. Однако мнения об этом очень разнятся в кругу
грузинских историков и культурологов.
С молодых лет княжна Татьяна Константиновна полюбила святую царицу
Тамару, молилась ей как защитнице Грузии. Но именно в Швейцарии
наступил тот день, когда инокиня Тамара, физически ощущая душу царицы
Тамары, «мистически <...> воссоединилась со своей святой
покровительницей в её иноческом образе, с её именем» [3]. Инокиня
Тамара и не помышляла жить монахиней в миру, тем более в протестантском
городе. Митрополит Анастасий благословил ей подвизаться только в
монастыре. И нe где-нибудь, а на Святой Земле! Покидая Женеву, инокиня
Тамара поверила помыслу, что вряд ли она уже сюда когда-нибудь
вернется. Но как мудро звучит это народное изречение: никогда не говори
«никогда», ибо многое может случиться в жизни. Забегая вперед,
отметим, что пройдет двадцать лет и уже не инокиня, а известная на
Западе елеонская игуменья Тамара ненадолго посетит «русскую» Женеву...
Литература.
[1]. См.: Игуменья Тамара. К столетию поэта К.Р. Только в отрывочных
картинках, каким я помню отца (записки его старшей дочери). - В кн.:
Сборник памяти великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. /
Под ред. А. А. Геринга. - Париж, 1962.
[2]. См.: Чадаева А. Княжна Татьяна: путь к Елеону. Из будущей книги.- В ж.: Истина и жизнь, 2008, №3.
[3]. Там же.
Продолжение следует