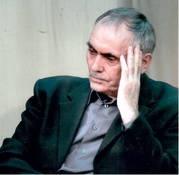Недавно было создано «Общество русской словесности» под председательством Святейшего Патриарха. Событие не только отрадное, но и весьма своевременное. Идеи, прозвучавшие на учредительном собрании из уст учёных-лингвистов, школьных учителей, писателей, давно, как говорится, носились в воздухе. Привлечение внимания к состоянию родного языка, содействие повышению грамотности молодёжи, её интереса к познанию глубин, тайн и «загадок» Слова должны стать нашей общей заботой. Пусть моей лептой во исполнение этого «социального заказа» будут эти небольшие эссе из цикла, который я условно назвал «К слову сказать...»
«НЕУДОБНО ХВОРАТЬ МУЖИКУ...»
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она...
Н.Некрасов
Как многие навскидку назовут свои любимые песни, цветы или, допустим, блюда, я мог бы назвать несколько любимых мною... фраз. Притом взятых не из готовых сборников афоризмов, «мудрых мыслей» и «крылатых слов», а выловленных самим из произведений писателей и поэтов, из трактатов учёных, из живых бесед с разными людьми и пленивших меня глубиной содержания или необычностью формы, или тем и другим.
К примеру, Лев Толстой в одном из своих рассказов о крестьянской жизни, словно бы между прочим, заметил: «неудобно хворать мужику...». Возможно, другие, читая его, вообще не обращают внимания на эту короткую и внешне вроде не броскую фразу, скользят по ней торопливым, поверхностным взглядом нынешнего «экспресс»-книгочея. Меня же эти простые слова, когда я впервые прочитал их, помнится, сразу «зацепили», прошили насквозь, будто электрическим током. Я был удивлён их какой-то конечной простотой и в то же время особой глубиной, их точностью и печальной, как вздох, интонацией. Не верилось, что всего тремя словами можно выразить столь много. Уж мне-то, выходцу из деревни, доподлинно известно, как «неудобно» захворать крестьянину, на плечах которого и дом,
и двор, и семья, и огород, и пашня... Недаром с подобным вздохом народ говорит о грустных и сирых вдовьих домишках: «без хозяина дом сирота...»
Лев Николаевич не только понимал «неудобства» заболевшего мужика, но ещё и, будучи великим художником, знал секрет того краткого и единственно точного слова, за которым, если оно сказано к месту, открывается целый мир, непроизвольно достраиваемый воображением читателя или слушателя, и целая гамма чувств и переживаний. Положим, лично мне в этом «неудобно хворать» слышится не одна лишь досада мужика на свою нечаянную немочь, мешающую погружаться в привычные хлопоты, но и чувство вины перед семьёй, как правило, немалочисленной, и перед другими ближними и дальними, так или иначе связанными с ним по вере, по труду, по быту. По жизни, одним словом. Ведь, заболев, он волей-неволей как бы «подводит» их, остаётся в долгу перед ними.
Сегодня народ наш в большинстве своём ожесточился, очерствел душой, и, наверное, многим размышления мои покажутся сентиментальными. Но пусть они поверят, что в трудовой крестьянской среде, в которой я вырос, это чувство вины и ответственности друг перед другом и перед «миром» было довольно-таки развито. Да и сегодня ещё, надеюсь, не угасло совсем, не растворилось в циничных «рыночных» отношениях. Не мною первым будет сказано, что честный труд и совесть ходят рядом, рука об руку. И кто-то из неглупых людей вполне верно заметил, по-моему, что «душа трудится у трудящегося». А великий отечественный историк Василий Ключевский век тому назад написал в одной из работ, что «конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы».
Вон куда, на какие ассоциации и обобщения, вывела нас с вами, казалось бы, такая элементарная и почти проходная толстовская фраза: «неудобно хворать мужику».
Могу признаться по секрету в завершение этих заметок, что с годами она для меня стала не просто излюбленной фразой, но даже и своеобразным девизом, которому я стараюсь следовать. Скажем, стоим мне захандрить от недомогания, расслабиться и прилечь с книжкой на диванчик среди бела дня, как передо мною всплывает эта фраза, сурово напоминая, что «неудобно хворать мужику». И я тотчас поднимаюсь, отбрасываю чужую книжку и иду к своему станку.
ОТКРЫТОЕ ЛИЦО
Обычно штампами становятся из-за слишком частого употребления какие-либо удачные выражения, образные определения или сравнения. Как «авторские», так и народные. Скажем, «любовь до гроба», «на заре туманной юности», «ходить гоголем»...Значения и смыслы их для нас ясны, как день. Но бывают и удивительно непонятные, необъяснимые штампы. Таковым среди прочих мне представляется, к примеру, выражение «открытое лицо». Оно неизменно ставит меня в тупик уже многие годы. Особенно, если не просто звучит в бытовом разговоре или мелькает в торопливой газетной статейке, а встречается в текстах именитых художников слова.
Вот и ныне, листая свой старый блокнот, я обнаружил в нём запись ещё тридцатилетней давности, посвящённую этому странному штампу. Тогда, в «застойные совковые» времена был очень популярен журнал «Иностранная литература». И все мы усердно читали его. Он входил, можно сказать, в джентльменский набор всякого образованного, да и просто грамотного человека, любителя чтения. И, надо отдать ему должное, стоил того, ибо печатал действительно лучшее, что появлялось в художественной литературе на Западе и на Востоке.
И вот в 10-м номере журнала за 1984 год ленинградец Михаил Дудин, весьма уважаемый поэт фронтового поколения, кратко представляя автора переведённых им на русский язык стихотворений Роберта Блая, среди прочего написал: «у него открытое лицо...» Тут же, перед поэтической подборкой, дана была чёрно-белая фотография этого иностранного пиита.
С неё довольно равнодушно глядел на читателей толстоносый, большеротый господин в очках, лобастый и лохматый, с наметившейся проседью в тёмных волосах. И мне, помнится, невольно подумалось тогда: почему же это лицо - «открытое»? А если оно впрямь таково, то каким должно быть «закрытое»? И я об этих впечатлениях-раздумьях оставил даже запись в блокноте.
Да что там нашенский Михаил Дудин! Буквально сейчас, перед тем, как сесть за эти заметки, я, отложив блокнот, открыл исторический роман Лиона Фейхтвангера «Лисы в винограднике» (создан в 1947 году), который перечитывал в эти дни, и на 197 странице мне сразу на глаза попались строки об императоре, соправителе Римской империи германской нации конца 70-х 18 века: «У Иосифа, как и у Туанетты (его сестры, королевы Франции, более известной под именем Марии-Антуанетты-А.Щ.) было открытое, выразительное лицо, высокий лоб, живые синие глаза, маленький рот с чуть отвисшей нижней губой, слегка вздёрнутый нос». То есть зарубежный классик на сорок лет раньше написал (или несколько позднее переводчики его), что даже сразу у двоих было это «открытое» лицо. И я снова подумал: могу представить - с высоким лбом, живыми синими глазами, с маленьким ртом, отвисшей губой и изогнутым носом, но как при этом вообразить, что оно ещё и «открытое», убейте, не в моих силах.
Однако другие продолжают «воображать». С той далёкой поры ничего не изменилось. «Открытое лицо» и доныне встречается чуть не в каждой второй портретной характеристике «героев». Особенно под пером журналистов, которые в силу своего вынужденного строчкогонства зачастую склонны к банальностям и штампам. Это «открытое» лицо стало уже почти постоянным эпитетом, сродни тем, которые мы привыкли встречать в наших народных пословицах, песнях, сказках и былинах, наподобие серого волка, чистого поля, степи широкой, синего моря и доброго молодца с красной девицей...
Но, заметьте, что даже эти эпитеты, «заслуженно» ставшие штампами, ибо изначально были уместными и точными, со временем от постоянного употребления потеряли свою «отдельную» выразительность, почти слившись с определяемыми словами. И фразы эти только выигрывают от замены в них «уставших» определений на свежие, в особенности неожиданные, отличные безыскусственной простотой. Вспоминается шутливый пример по близкому поводу, приведённый однажды Чеховым в беседе с Буниным у Чёрного моря. Антон Павлович в присущем ему ироническом тоне поведал младшему коллеге, что был восхищён тем, как некий школяр в сочинении о встрече с морем написал: «море было большое». Вот, мол, и нам бы всем так писать, просто и точно. Без всяких там красивостей и выкрутасов. А что? Ведь и на самом деле это прекрасно звучит в своей непосредственности: «море было большое». Примерно так же, должно быть, воспринималось и впервые прозвучавшее когда-то «синее море» или «бурное море»...
К слову сказать, в некоторых исторических источниках отмечено, что нынешнее название «Чёрное море» - это искажённое производное от первоначального «Чермное море». То есть «красное», в смысле - «красивое». А ещё, как известно, его в древности весь мир называл Русским морем. Что тоже, согласитесь, звучало неплохо. По крайней мере, куда справедливее, чем «чёрное», с явно «закрытым» для нас смыслом. И недаром представитель уже нашего поколения, автор известной песни о нём попытался исправить эту несправедливость, написав строки: «самое синее в мире - Чёрное море моё»...
Но всё это, повторюсь, если и спорно, и не слишком понятно, то хотя бы поддаётся какому-то объяснению. А вот «открытое» лицо, по-моему, никак не объяснимо. Вы хотели сказать «доброе», «улыбчивое»? Или «просветлённое», как после святого причастия? Или «с доверчивым выражением»? Ну, тогда так прямо и говорите, и пишите. А то - «открытое» лицо... Которому даже и антонима подходящего не сыщешь, кроме «закрытое». Что звучит весьма диковато. Особенно сегодня, когда невольно ассоциируется с теми «закрытыми лицами», которые то и дело мелькают в жизни и на экране под некими «балаклавами», более похожими на куски от чёрных штанин трико или колготок с прорезями для глаз и ртов. И принадлежат эти лица чаще всего сомнительным персонажам, и «закрываются» отнюдь не с добрыми намерениями.
ОТКУДА ПОШЛИ СТИХИ
Многие задумывались над тем, когда, почему и зачем появились на свете стихи. Эта особым образом организованная, ритмическая и зачастую даже рифмованная речь. Разве не проще и естественней говорить и писать безо всяких ритмов и рифм, то есть обычной «прозой»? И разве с её помощью меньше возможностей передать всю сложность и глубину мыслей и чувств, нежели посредством такой искусственной речи, какой являются стихи?
Не зря Лев Толстой заметил однажды, что писать стихами, на его взгляд, так же нелепо, как, например, идти за плугом, пританцовывая. Зачем же в таком случае из века в век «пританцовывали» сонмы вполне разумных и не лишённых таланта людей, вместо того чтобы спокойно идти своей бороздой, взрезая пласт за пластом и прикладывая к лелеемой пашенке с отливом воронового крыла? Просто из игривости характера? Или от избытка творческих сил? Что ж, возможно, отчасти и потому. Особенно в молодости. Но ведь и достигнув поры, когда уже явно «года к суровой прозе клонят, года шалунью-рифму гонят», они упорно продолжали отыскивать её, владелицу созвучной «складности», и находить, как ни «мала у мира слова мастерская», по вырвавшейся жалобе другого поэта. Зачем?
Приходилось слышать в разговорах и вычитывать в книжках самые различные догадки и предположения на сей счёт. Большинство исходило из того, что стихи явились на свет Божий в подражание молитвам. Нельзя не согласиться, что версия довольно красивая. И может, небезосновательная. Тем более что древняя поэзия действительно была похожа молитву и своим духовным наполнением, и строгой лапидарностью, исключавшей суетное многословие. Только всё же не встречалось мне молитв, ещё и строго выверенных силлабически, то есть ритмически, с чётким чередованием ударных и безударных слогов в строках, а тем более - с рифмами, созвучиями на конце, как в большинстве стихотворных произведений.
Другие говорили, что, скорее всего, стихи родились из песен, в которых искони служили словесной основой. А тоническую основу обеспечивала мелодия песни. Что ж, наверно, и такое суждение имеет право на существование. Неспроста ведь поэты прошлых веков свои творения часто называли гимнами, песнями, да и сами именовались певцами. Вспомним хотя бы Александра Пушкина, который не однажды «проговаривался», что не просто писал или слагал стихи, а «пел»:
...Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
И хрестоматийное стихотворение его называется «Песнь о вещем Олеге»
А скажем, Михаил Лермонтов подобным образом нарёк даже целую историческую поэму «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Кроме того, им были написаны и «Песнь барда», и еще несколько стихотворений, прямо названных песнями.
Иные скажут, что, мол, это уже вчерашний день, устаревшая лексика. Ничего подобного. Вон и у Сергея Есенина, который видится нам почти современником, есть и «Песнь о собаке», и «Песнь о хлебен», и ещё разные песни....
Но если спуститься с этих романтических высот на грешную землю, то можно рассмотреть в стихотворной форме и просто практический смысл. Например, замечательный поэт и прозаик уже нашей эпохи Сергей Марков однажды высказал догадку, что поэзию породила «боязнь забыть слово». И действительно, стихи ведь стократ легче запоминать наизусть, чем прозу, верно? Да и словесный ряд, организованный, сплочённый ритмом (а тем паче ещё и связанный рифмой) вернее сохранит свою целостность без изъятий. Недаром говорится, что из песни слова не выкинешь. Равно как из добротных стихотворных строк.
Особенно всё это было важно в далёкие дописьменные, допечатные времена. О чём со всей определённостью сказал Максим Горький, прямо назвав стихи с их ритмами и рифмами «печатным станком прошлого». И, наверное, в немалой степени прав был главный советский писатель. Но почему-то не хочется соглашаться с ним до конца. Всё же сознание потайной близости стихов к молитве, песне, заклинанию как-то больше греет душу. Да и возможности «излить» её в них, соединяющих музыку и слово, пожалуй, пошире, чем в прозе. Не зря же тончайший лирик Афанасий Фет оставил наследникам вроде завета: «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей!». Не забудем и об особой, «колдовской» живописи в поэзии лучших певцов, достигаемой свежими эпитетами, сравнениями, метафорами.
Взять известные строки Сергея Есенина об уходящей молодости:
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком....
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...
Или - Николая Заболоцкого о подстреленном в стае журавле:
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Да разве выразишь прозой такое? Не случайно каждый из нас хотя бы единожды в жизни, в порыве нахлынувшего вдохновения не удовлетворяясь обычной речью, прибегал к стихам и пытался выплеснуть самые заветные мысли и чувства высокой поэтической «песнью». Выразить невыразимое.