
Теперь редко кто в деревне за дровами на лошади ездит, тем более - зимой. Дрова теперь возят на тракторах, в летнюю пору. Даже новое слово появилось - волок. Что за волок? А просто несколько лесин, хлыстов, очищенных от сучьев и связанных по вершинам в огромный пучок, или вязанку. Зацепляет трактор тросом такую вязанку и волочет по земле. Отсюда и - волок.
Но мы с дедом Егором вынуждены ехать на лошади. У нас особое задание. Мы должны привезти дров именно сейчас, в январе, причём привезти их так немного, что о тракторе и заикаться стыдно. Тем более что у Егора лошадка на руках, «положенная» ему, сторожу машинного двора сельхозкооператива, так сказать, по штату. А почему вдруг приспичило в лес за дровами посреди зимы? Может, старикам топиться нечем? Нет, совсем не потому: три поленницы стоят вдоль забора - одна за другую заходит. И сухих, и сырых дровишек, слава Богу, вдосталь - берёзовые, гладкие, самые что ни на есть отличные...
Но всё дело в том, что тётка Липистина задумала на святки, на мясоед сделать домашнюю колбасу и подкоптить её.
- Люблю, чтоб с дымком колбаса была, - говорит она.
А для копчения, известно, березовые дрова не идут. Здесь обязательно нужны таловые, то есть из талины - дерева, прямо родственного иве. И желательно, чтобы талина та была сухой, валежной, тогда она больше дыму даёт, своего наилучшего запаха для копчения колбасы.
Наспех завтракаем, надеваем шапки, фуфайки, поверх фуфаек длинные собачьи дохи, пестрые и такие лохматые, что от одного их вида становится жарко. Тонкие вязаные варежки для работы в лесу кладём в карманы, а на руки в дорогу надеваем шубенки - рукавицы из овчины ворсом внутрь. Шубенки теплы, как печки, но работать в них нельзя. От снега они размокнут, а когда высушишь, затвердеют и станут ломаться.
Вот теперь у нас «упаковка» надежная. И сорокаградусный мороз нипочем.
Выходим во двор. Султан мечется на цепи, как угорелый. Увидел, что лошадь стоит за воротами, и забеспокоился, как бы дед без него не уехал. Надоело Султану на привязи. Дед спустил его с цепи. Султан, благодарно повизгивая, стал прыгать вокруг него и даже изловчился лизнуть в бороду.
И вот мы едем на стареньких розвальнях. Дед Егор у козырька сидит, правит, а я сзади на охапку сена прилег, поднял высокий воротник дохи - и сам черт мне не брат. Поют полозья по мерзлому снегу. Напористой рысью идёт кобылица Гагара, заиндевелая, черно-белая. Султан вприпрыжку бежит сбоку саней.
Дед Егор уже решил, куда ехать, - в Феофанов лог. Таловые дрова можно бы найти и в других местах, поближе - вниз по речке, в Гурином, Пашином или Поляковском логах. Но дед путь держит в Феофанов, потому что там у него копёшка сена осталась и он хочет её прихватить попутно.
Промелькнули переулок, крайняя Зелёная улица, вальцовая мельница, машинный двор. Мы выехали за поскотину. Место тут ровное, безлесное. Белый снег кругом да ометы соломы по пашне - огромные песцовые шапки. Серебряной пылью сыплется изморозь.
Вот уже и черемуховый колок проплыл с дощатым вагончиком. Весной и осенью здесь бывает полевой стан. Сейчас же - тишина, безлюдье.
- А где Кудрявая берёза? - спрашиваю деда Егора.
- Выкорчевал тут один фермер, новый хозяин. Якобы мешала пахать, - кричит он в ответ.
- Видишь, корень на обочине остался?
Я поворачиваю голову и в самом деле вижу узловатые корневища,
торчащие из снега. Вскинутые кверху, они похожи на воздетые к небу руки. Мне жаль Кудрявой берёзы. У неё летом была красивая, необыкновенно густая, почти непроницаемая крона, в теньке под которой любили отдыхать путники. Сиживал и я, бывало, возвращаясь то с пашни, то с покоса, то с озёрной рыбалки. Дерево служило и как бы маяком для наших селян.. Здешнее урочище называлось «У Кудрявой». «Где пахал?» - «У Кудрявой». - «Где ягоды брал?» - «У Кудрявой». А теперь как назвать эту местность? «У Обрубленных Корней?». Не думаю, что берёза шибко мешала плугу. Она стояла почти на меже и занимала земли не больше квадрата...
В Феофанов лог мы заезжаем напрямки, по снежной целине. Долго кружим среди берёзин и осин по заветерью, пока дед не останавливает Гагару около кустов тальника.
- Рубить будем? - спрашиваю я.
- Зачем рубить? Ветер уж нарубил за нас. Давай валежины искать, - говорит дед, сбрасывая доху и вынимая из карманов вязаные варежки.
Я тоже освобождаюсь от тяжелой дохи, беру топор - он был воткнут в головки саней - и направляюсь к валежнику, рогато выступающему из сугроба за кустами. Ударом обуха сбиваю с сучьев белую оторочку...
- Осина? - кричит дед.
- Не пойму пока.
- Срез красный?
Я всаживаю топор в потемневшую стволину - отстает щепа с изнанкой
цвета охры.
- Красный! - радостно кричу деду.
- Значит, талина. Кряжуй её - и сюда, - командует он.
Когда на сани ложится десяток коряжистых валежин с оранжевыми пятнами на свежих срубах, дед Егор резко опускает руку:
- Шабаш!
Он увязывает воз, втыкает топор в головки саней, кладет поверх кряжей
дохи, лежавшие на снегу, и берет в руки вожжи. Я отказываюсь сесть на дрова. Мне хочется пройти по лесу пешком.
Между деревьями - частые прошвы следов. Тут прошла стайка тонконогих косуль, там пугливые зайцы набили тропу, а вот просеменила чуткая лиса сбоку мышиной строчки. Наверное, той мыши уже нет на свете, одни следки остались на сугробе, да и те скоро засыплет снегом.
Гагара шумно дышит у меня за спиной. Я уступаю ей дорогу и на ходу присаживаюсь на отводину саней. Султан бежит позади с заснеженной мордой, точно муки наелся. Это оттого, что он тычется носом в каждый след, гадая, какой зверь и когда проходил Феофановым логом.
Вот и дедова копёшка в лощине. Сена совсем не видно, только небольшой холмик в сугробе. Снова дед сбрасывает дохи, берет вилы...
Из лога дорога в гору. Лошадь с трудом тянет сани по топкому снегу, поэтому я опять иду пешком. У Гагары такой характер: чем тяжелее поклажа, тем быстрее она переставляет ноги. Я едва успеваю за возом. Из лога поднимаюсь взмокшим больше, чем Гагара. Наверху сечёт резкий хиус, и не миновать бы мне простуды, потному на ветру, если бы не матушка-доха. Я снова надеваю её, взбираюсь на сенной воз. От него волнующе летом, лугом. Посиживаю себе, как у Христа за пазухой.
Султан забегает то с правой, то с левой стороны саней, обнюхивая на снегу каждый след, потом возвращается на дорогу, торопливо обкусывает зубами ледульки, настывшие между «пальцами» лап, и снова продолжает охоту за запахами.
Дед закуривает, обдавая меня дымком забористого табака, и говорит наставительно:
- Чуешь, полозья поют? Это к морозу.
Как ещё «чую»! Кажется, не только в примолкшем зимнем лесу слышится этот чистый, «певучий» скрип саней, но и по всей заснежённой Руси-матушке...












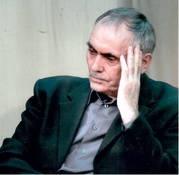










1. Re: Поют полозья по Руси